ЮМОР 
(эта тема уже затрагивалась в статьях Острота, Остроумие, Шутка). А здесь – определение юмора, в русле Фрейда, причём (надо предупредить) максимально без юмора. –
Юмор – это специфический способ осмысления явлений, близкий эстетическому, и представляющий собой –
– по методу: высвобождение ассоциаций, однако только в отношении осмысляемого предмета, – то, что даётся отстранённому взгляду, но заинтересованного Я. То есть определённое абстрагирование от сознательных и подключение подсознательных механизмов осмысления;
– по результату: логически и/или морально абсурдное, то есть вырвавшееся из пут любых сознаваемых «так может/не может», «должно/не должно быть» заключение, – содержащее в себе ту долю правды, которую мы в обычном состоянии стараемся не допускать до осознания;
– по эффекту: удовольствие от чувства неожиданного высвобождения – той самой гнетущей подсознательное доли правды – из указанных логических и моральных пут. Это чувство в человеке, существе сознательном, столь остро, что производит свой физиологический эффект – подобный щекотке.
Что до близости юмористического и эстетического осмысления: была или ещё существует, кажется, в артистических кругах привычка оценивать художественное произведение – «смешно – не смешно» (видимо «талантливо – не талантливо»). И в юморе и в художественных произведениях автор бывает умнее самого себя – умнее на подсознательное, если только умеет его, парадоксальным образом, подключать; «смешно» – это, видимо, ощущение вне-сознательной, вне-умственной, но удивительным образом точной работы таланта.
А отличается эстетическое осмысление от юмористического тем, что первое раскрепощает подсознание относительно всех значимых содержаний (исследуемого явления), а юмор – главных образом относительно запретных.
Понятно, что юмор переводит осмысляемый мир в особую, не вполне реальную, игровую плоскость. Отсюда – несколько иное значение юмора, сочетающееся с приведённым или существующее независимо от него –
– это то в поведении, что «не всерьёз», а условно: поведение игровое, воспроизводящее (моделирующее) какое-то реальное поведение, очищая его от нежелательных аспектов и позволяя вынести из него урок или удовольствие.
Между прочим, животные (кошки, собаки) этой первоосновой юмора обладают: они играют, то есть, как говорят дети, «понарошку» дерутся. Воспроизводят драку к обоюдному удовольствию, не нанося травм, но научаясь, кажется, драться (вынося урок).
Уже отсюда понятно, что юмор-игра – явление в основном детское. Однако и ваша старая собака прекрасно вас понимает, когда вы (если имеете собаку и такую привычку) обращаетесь к ней грозно-шутливо. Затем, взрослая человеческая особь развивает и более тонкий и специфически человеческий вид юмора (то есть описанный первым юмор как способ осмысления явлений, высвобождающий из подсознательного вытесняемые сознанием, но важные содержания).
• Юмор – это специфический способ нашего мирного сосуществования с собственным тревожащим или запретным, – со своей теневой стороною.
• Человек неожиданно поскальзывается и падает; дуракам смешно. То есть смешной момент они ухватывают раньше печального (когда падают арлекины и потому известно, что они падают не больно, смеются и умные). – Что смешного? – Видимо, неожиданное нарушение правильного порядка вещей (который, получается, тоже гнетёт).
• Вы замечали? – шуток, слушая вполуха, не понимают. – Юмор исключает напряжение духовных сил, и в то ж время требует участия их всех. Или, можно сказать, работа юмора – усилие всего несознаваемого в нас.
• Острота пользуется аргументом от абсурда: если мы поняли что-то вопреки логике, значит, сами так и думаем…
• «Иметь юмор» в специфическом значении этого выражения – это иметь верный масштаб важного и неважного, – того, на чём следует настаивать, и того, чем можно пренебречь. Юмор в этом смысле – верное чувство иерархии ценностей, почти то же, что мудрость.
(Это значение возникло, по-видимому, на базе того, что юмор невозможен без отстранённого взгляда, умения занять дистанцию, с которой только и видны истинные масштабы.)
• Глупые шутки – это такие, в которых нет собственно юмора: то есть и абсурд и/или нечто тревожащее или запретное налицо, а самой «доли истины», которая и искупает абсурд, – нет. – Но тут же и видно, что для тех, у кого чувство юмора отсутствует – кто не имеет способности порадоваться «доле истины» как таковой – все шутки будут только глупыми.
• Юмор – если ещё не ум, то одна из его верных примет.
• Не понимающий юмора – не понимает, видимо, того, что есть истины между «да» и «нет», что сознание глубже своей видимой поверхности, что нет медалей без оборотных сторон, – одним словом, кто мыслит плоско.
Не понимает юмора – может и тот, кто неспособен к проскакиванию логических процедур ввиду даже ставших явными истин, то есть кто мыслит только дедуктивно, но не продуктивно.
Не понимает юмора догматик: все его взгляды – его святыни, над которыми шутить ведь невозможно.
Не понимает юмора – не умеющий, так сказать, «абстрактно почувствовать», – то есть ощутить нереальное и отвлечься от личной захваченности реальным; это тот, кому всегда «не до шуток» – кого ситуации слишком ранят; кому не хватает величия души для того, чтобы подниматься над ситуациями, если сам он находится внутри.
• Юмор – что это, как не «абстрактное чувство»? – то есть парадоксальное умение отстраниться и даже порадоваться тому, что пугает или причиняет боль.
• Юмор – это когда нет хода ни влево, ни вправо, умение взмывать вверх.
• Юмор – выход из безвыходных ситуаций.
• Чёрный юмор – попытка отшутиться от чёрных мыслей.
• Иметь юмор – это уметь плюнуть на ситуации, которые не в силах решить.
• Юмор – великодушие.
• Смеются – «над». Смеющийся стал выше. Кто смеется над собой – возносится, кто смеется над другим – заносится.
• Женщины бьют и отшучиваться не дают.
• Шутка – глубиномер, высотомер, и силомер: мера того, что человек в силах превозмочь.
• Делать чужие беды предметом юмора – не иметь ни совести, ни юмора.
• «Не предмет для шуток» – святыни и чужие несчастья.
(Тут кстати вспомнить латинское «несчастный – святыня».)
Юмор в том и состоит, чтобы лишить предмет его абсолютного довлеющего значения. – Святыни либо имеют такое значение, либо не святыни.
Юмор в том и состоит, чтобы наплевать на причиняющее боль, и это – величие души. – На чужую боль мы не можем плевать, это уже не величие, а низость…
• Людям без чувства юмора юмор кажется чем-то уродливым или пугающим. Интересно (хоть и неприятно об этом задумываться), что людям злым уродства и сцены жестокости – кажутся именно смешными.
ЮНОСТЬ 
(в дополнение к статье Молодость)
– порог между детством и взрослостью – кризис детства, рождение взрослости; старт взрослой жизни, на котором, при минимуме опыта, приходится принимать все важнейшие в жизни решения; пора жизни, когда все биологические возможности, физические и умственные, достигают пика (и в дальнейшем только снижаются), тогда как реальные возможности предстоит ещё вырабатывать (продолжение учёбы) и завоёвывать (карьера).
• Старость богата прожитой жизнью, юность – непрожитой. Первое может вызывать уважение, но зависть – только второе.
• Юный богат неизрасходованной жизнью, и сквозь самое искреннее уважение его к зрелому всегда проглядывает обидная снисходительность, а то и прямое пренебрежение богача…
ЮСТИЦИЯ 
– «наука справедливости», право; право и его социальные институты.
(см. статьи Словаря – Право, Этика и право и другие).
• Суд определяет справедливость, полиция стоит на её страже, палач вершит.
• «Юстиция должна быть с палачами».
• Справедливость минус человечность – палач.
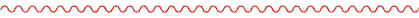
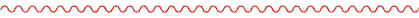
Я
Я (местоимение) 
– центр самоидентификации живого существа; субъект, отличающий себя от всего иного (объектного).
Таким образом, всё, что Я ощущает – уже не-Я. Как же всё-таки оно ощущает само себя? – Именно как своё отличие от всего, чему предстоит. Я дано во всяком ощущении как то в нём, что не это ощущение. Например: я волнуюсь, а – ощущаю при этом (буквально рефлектируя, отражая себя) – мог бы не волноваться; я – то, что не есть моё волнение, когда я волнуюсь. Субъект ощущает себя через объекты, которые ему дают знать о себе и вместе с тем – о нём самом. Без внешних ему ощущений Я себя не ощутит, но ведь и не может без них остаться.
Само себя Я поймать не может, ибо им является.
Я – это сопутствующая любому воспринимаемому (ощущению, чувству, состоянию) реакция самоидентификации воспринимающего (живого существа) как своей нетождественности с ним, в силу своей тождественности себе.
Я – активная самоидентификация живого существа, действующего в мире и испытывающего его сопротивление.
Я – это воля в живом существе, идентифицирующая себя как именно его воля.
Я – самоидентификация в мире – выступает и субъектом познания, а знать о себе в собственном смысле слова «знать», как об объекте – может лишь косвенно, через ощущение сопротивления себе внешнего мира.
Я – это сознание: со-знание, или знание, сопутствующее любому знанию, знание о знании («единство апперцепции», самоидентичность).
Далее. Я непрерывно отличает себя от любой своей собственной определённости – это сама свобода, и притом оно строго определено, оно всегда только «вот это»; оно – сама уникальность.
Я есть внутренняя свобода живого существа от всего, что не оно – сама его уникальность до всяких определений.
И ещё:
Я – нечто в существе, наличествующее в нём до всяких его конкретных определений, способное принимать бесконечно многие, но не любые, а только ему одному свойственные определения: «вещь в себе» существа.
• Можно сказать, что Я – это абсолютный инстинкт психического самосохранения (существ, обладающих психикой, то есть одушевлённых).
• Содержание Я – его отдельность от любого принимаемого содержания.
• Различие субъект-объектного и цельного – это отличие мышления (сознания) и бытия. Бытие, расколовшееся на субъект и объект – это сознание. Необходимость этого распада – признак Жизни, то есть возникшей автономии чего-то, называемого Я, внутри бытия. Мышление (работа сознания), бесконечно наводя мосты между субъектом и объектом, бесконечно приближается к бытию.
• Центр бытия – в любой его точке; каждое я – такая точка.
• Жизнь, бытие Я – это его самосохранение в самоидентичности, а значит, само-отделение от всего иного, – другими словами, это существование субъекта (в мире объектов). Познание, мышление – это бодрствование субъекта, то есть его отчёт в своей отдельности от объектного и связях с ним.
Самое жизнь, процесс жизни – это «субъект-объектное отношение»; Я – полюс, точнее, центр этого отношения; мышление – концентрированная форма жизни, актуализация, бодрствование субъект-объектного.
(Что до «смерти субъекта» и конца «бинаризма» – субъект-объектного в познании – это то же, что «квадратный шар»: свидетельство того, что сказать можно то, чего нельзя помыслить, – что называется, «язык без костей».)
• Сознание, в отличие от только ощущения – работа самоидентификации живого, высшая и деликатнейшая часть работы самосохранения; Я – центр этой самоидентификации.
• Одушевлённость – наличие в живом центра самоидентификации (какового нет в растении), неоценимое в деле самосохранения (выживания), – одним словом, это наличие в нём Я. (Я, как и свободой воли, обладает всё одушевлённое.)
...Иное, и в чём-то противоположное приведённым выше, значение Я –
– моя личность: сумма определённостей, которые в объективном мире принимает моё свободное я закономерно для себя, и которыми я не могу поступить ся, не ощутив душевной травмы.
• «Если нам нельзя заполучить наше я целиком, то мы можем составить о нём некоторое представление по его отдельным проявлениям в нас…» (В. Кувакин).
• Наше самолюбие надёжнее всего защищено тем, что ему менее всего нравится, а именно: другим до нас слишком мало дела.
• У каждого человека найдётся какое-то больное место. У самолюбивого такое место – его Я.
ЯВЛЕНИЕ 
– то же, что феномен; нечто, каким оно нам предстаёт – не интерпретированный факт, или факт, как задача для интерпретации.
Явление (и в особенности феномен) употребляется и с оттенком смысла «чудо»:
– факт, который слишком трудно как-то интерпретировать (понять).
Любопытную путаницу, или лучше сказать мистификацию, вносит в умы различение «явлений» как «вещей для нас» – от «вещей в себе». Как будто «явления» – это всё, что может быть в мире доступно нашему разумению, демонстрируемое, как в театре, каким-то незримым режиссёром специально «для нас», а «вещи в себе» – это их трансцендентная, уму непостижимая, спрятанная за устроенным этим режиссёром непроницаемым занавесом настоящая суть. – На самом деле явление – это вещь ещё не понятая, то есть не интерпретированная; «вещь для нас» – интерпретированная в каком-то интересующем нас отношении (а как иначе?); «вещь в себе» – видимо, вещь во всей бесконечности своих возможных отношений (постигнуть которые значило бы постигнуть универсум).
ЯВНОЕ 
– то же, что очевидное;
– «почти очевидное», становящееся очевидным; плохо скрытое.
• Очевидное недоказуемо. Очевидная неправда неопровержима.
• Любую несуразицу можно сформулировать с видимостью логики, а ещё легче защищать потом от возражений.
• Абсурд – может быть ошибка в логике, а может – и ложная аксиома. В последнем случае он бывает сколь угодно логичен и совершенно неопровержим.
• Нельзя доказать, что чёрное – не белое; их или различают, или не различают, или не хотят различать.
ЯЗЫЧЕСТВО 
– религия, в которой божественное (сакральное) ещё не воплощает в себе ни благости, ни абсолюта.
Или, подробнее –
– религия, в которой боги ещё не вполне отличимы от духов или тотемов – постоянных (бессмертных) спутников данного рода, требующих от него особого задабривания (культа). То есть, сакральная сила этих богов ещё не отождествилась с благой (не извергла из себя сатанинское, оставив за божеством лишь предикаты святого), и не ощущается как абсолютная, а лишь как одна из многих (не всемогуща, не всеведуща и не воплощается в одном лице).
• Что бессмертные боги были проказливы, отнюдь не воплощали в себе идеалов разума и добра, а только лишь обладали удивительными возможностями – в сущности сакрального, с которого и начинается религия (не подвластного разумению и не поделённого на доброе и злое). Любопытно, однако, что уже в язычестве боги, в виде привеска к дани себе, обязывали нравственностью самих смертных.
(Так барин, проигрывающий в карты целые деревни, отправлял на конюшню своего крепостного лентяя – и это было вполне понятно и тому и другому, потому что добродетель подвластного составляла основу благополучия властителя. И уж ясно, что эта добродетель могла быть только добродетелью послушания – «своё суждение» в крепостном неминуемо значит бунт.)
Как язычество ещё недалеко ушло от фетишизма и тотемизма, так монотеизм, с его «полуофициальной» верой в сакральную сатанинскую силу и в то, что святой Бог воплощён именно в лице и также есть сила, так что добродетель человека – не в разумении, а в послушании, – так и монотеизм ещё не далеко ушёл от язычества. А в своих пережитках – того хуже; обрядоверие отдаёт фетишизмом, а тенденция религии быть религией национальной, родовой – явный тотемизм.
ЯЗЫК 
– набор и логика обозначений, или система условных знаков и правил работы с ними – обеспечивающая возможность сохранения, передачи и обработки информации; в частности, такая система (лексики, синтаксиса...), стихийно сложившаяся в определённой людской общности (народе),
и, можно добавить, по-своему отражающая в себе опыт этой общности.
Язык – отличительная черта человека как «животного культурного», то есть накапливающего и передающего опыт от личности к личности, поколения к поколению, – «животного», кодирующего информацию.
• Язык, так сказать, – единственный инстинкт разумного существа как такового (прочие инстинкты у нас животные).
Ведь (как сказано мимоходом у Потебни) «вполне последовательное и искусное строение языка возможно при совершенной грубости народа, точно так, как правильное строение ячеек сот не предполагает в пчеле никаких познаний». Как и со всем прочим в нашей природе, мы пользуемся тут инструментом, который не могли бы сами создать, и едва постигаем, как он устроен…
• Всякое сообщение предполагает свой язык – если не слов, то каких-то других условностей. Условностей, иногда устанавливающихся, как это например происходит в изобразительном искусстве, прямо в процессе сообщения!
• Капитуляция философии: «философия – это только логика»; «философия – это только язык».
• Неоднозначность слов – и недостаток, несовершенство их как знаков (терминов), и их великое достоинство – они вмещают в себя и те истины, до которых мы ещё не доросли, делают возможным их будущее приятие языком.
• Нередко испытываешь чувство: в языке уже как будто содержались те истины, до которых ты только додумался! – В большинстве случаев так оно и есть, ибо «новое – хорошо забытое старое» (точнее – извечное). Но главное в том, что открыть истину значит не только ощутить нечто, но и преобразовать это в общезначимую форму, то есть мы открываем свои истины для языка. Следовательно, мы этим уже постулируем возможность их там отчасти и обнаружить, и делаем свой язык соответствующим – открытым для новых смыслов.
Все наши истины мы находим внутри языка, взращивая и развивая его.
• Введение новых слов (терминов) в философии – крайняя мера, коль скоро мы открываем свои истины для языка; в большинстве случаев это только снижает значимость её открытий.
• Выражать мысль – значит переводить её на язык слов; высшее достоинство такого перевода – понятность. А самым неудачным переводом должен быть признан такой, который использует несуществующие слова.
• «Мысль изречённая» есть перевод: перевод чувства в слова. Как известно, стопроцентная достоверность перевода невозможна. В данном случае – уже потому, что чувство это чувство, а слово – слово…
• Язык – материал, метод и результат философии.
• Мыслим ли мы без слов или словами? – Мыслить – значит кодировать свои интуиции словами и затем оперировать ими, стимулируя дальнейшие интуиции. То есть мы мыслим до слов, однако для слов, и при помощи слов.
• Несколько уточняя знаменитый афоризм, – кто честно мыслит, тот стремится излагать ясно. Вообще, мыслить – значит искать ясности.
• Легко выразить более или менее ясно, чего ты хочешь; труднее выразить ясно, что ты думаешь. Но сколько претендующих на внимание публики не знают, чего хотят (то есть хотят лишь привлечь её внимание), тем более – что думают.
• Традиция, эта сакрализованная форма, передача навыка навыком – «инстинкт самосохранения» языка. Так называемое чувство языка – не столько чувство какой-то его внутренней логики, сколько, скорее, способность к быстрому приобретению навыка в том насквозь условном, даже случайном, что оказалось так или иначе принятым, и острое безотчётное чувство неприятия ненормативного. Действительно, оперетта – с двумя т, сигарета – с одним: логики тут никакой, так как суффикс по происхождению один и тот же – ette, – но как возмутили бы наше чувство языка «оперета» или «сигаретта»! Заимствования из разных романских языков сохраняют соответствующий характер слов, тогда как логика языка, конечно, должна была бы унифицировать их на латинский манер. Нам кажется смешным и даже отталкивающим народное «рожество», однако появление лишнего д в «рождество» подчинено тому же самому закону, что и в столь же смешном и отталкивающем «ндравится». Церковно-славянский пласт в современном русском составляет его высокий стиль, отличая, например, пронзить от проткнуть, избранный от выбранный, однако коренное русское шелом воспринимается «выше» церковнославянского, но привычного шлем. Этимология, конечно, демонстрирует, что закономерности существуют и ничто не является из ничего, – но её раскапывание корней и истоков производит обычно эффект каких-то забавных разоблачений. Тут вы узнаёте, что зонтик – не уменьшительное от зонт, а искажённое Sondeck, что от фокус произошла буханка, от хирург – цирюльник, а подлинное вполне то же, что подноготное (говоримое под пыткой). Не случайно знакомство с иностранными языками или с этимологией собственного языка не только не развивает, но даже бьёт по так называемой врождённой грамотности – по этому самому чувству языка: оно колеблет веру, что в том или ином написании слов есть внутренний смысл. А вера, вообще говоря – душа традиции.
И всё же настоящий смысл языка – коммуникация, значит, универсализация опыта. И традиционализм языка находит своё оправдание именно в этой универсализации: без инстинктивного фиксирования его форм языка и не было бы, универсализация не была бы возможна.
• «Падение языка» – упрощение его, как, скажем, упрощение латинского до любого из романских – это, видимо, следствие развивающейся понятливости говорящих на нём народов, позволяющей им обходиться в быту (то есть в большинстве случаев) менее детализированной грамматикой и лексикой. Когда же приходится выражать содержания более сложные, «философские» – жалеешь о латыни. Достаточно хороши ещё, однако, немецкий, русский…
• ...Дальнейший процесс смешения (неразличения) высоких и низких слов. «Не отвлекайте водителя, ибо он следит за дорогой». А уж думали, «ибо» исчезает даже из учёной лексики.
• Если историческая память народа существует, она в его языке.
Причём, эта его память – не столько на то, что мы только привыкли называть историей (то есть бессмысленную историю межгосударственных и внутренних разбоев), – нет, это именно память на подлинную историю, наш настоящий культурный арсенал.
Хорошо, когда слов много – как, например, в русском языке; когда само слово способно весьма близко передать интонацию и намерение говорящего. Но главное богатство языка даже не в этом и не передаётся на письме: оно – в сумме и характере смыслов, в которых слово может быть употреблено. Язык, на котором осмыслили, высказали и прочувствовали, написали и прочли, с которым пережили всё то, что было осмыслено, воспринято, пережито – несёт в себе этот опыт. Одни из нас чуют этого опыта меньше, другие – больше; в устах одних каждое слово более ёмко, чем в устах других, но сам язык вмещает всех. Все свои умственные подвиги мы совершаем внутри языка – даже когда сами обогащаем его.
• …Что касается языка русского. – Здесь восприятие Евангелия или Гегеля с Шеллингом вдвое обогатило сам словарный запас, что само по себе замечательно. Но не менее важно, что на нём прочли то и другое, написали «Войну и мир», «Преступление и наказание»...
В советскую эпоху, если не ошибаюсь, язык изрядно поглупел: сам его авангард, язык философский, силою обстоятельств приобрел явные черты бюрократического и даже канцелярского, а канцелярский проникает в быт… К счастью, это в принципе дело поправимое – на то и письменность.
Однако в нынешнюю «постсоветскую» эпоху язык, кажется, стараются и вовсе забыть! Слишком большую роль начинает играть жаргон – и наверное потому, что каждое жаргонное слово, как известно, заменяет собой – даёт возможность заменить – с десяток литературных. Сколько понятных и точных синонимов «убивает», скажем, слово «крутой»?.. – и т.д.
• Наш чиновный (особенно, кажется, советский) обыватель как будто стесняется русского языка, и потому не применяет слов по их прямому назначению. Где ещё, кроме как у нас, не «входят и выходят», а «производят посадку и высадку»? Где едят – нет, «принимают в пищу» – не хлеб и не булки, а «хлебобулочные изделия», а носят «изделия» – «чулочно-носочные»? – То же и чиновный философ. Его выдаёт страсть к дефису – между словами, выражающими одно и то же. Характерное в этом смысле «изделие» – «морально-этический».
• Если такая категория, как историзм, имеет какой-то смысл – он, конечно, не в том, что истина или добро определяются исторической конъюнктурой; историзм – это понимание культурного языка той эпохи, о которой судишь.
• То, что в качестве общего «учёного» языка не принят эсперанто, кажется ошибкой: английский, с его трудным правописанием (да и бедностью) явно для этой цели не годится. Возможно, это потому, что отпугивает искусственность эсперанто – но тогда разумнее было бы вернуться к латыни.
Вообще же национальные языки не переводятся друг в друга, и особенно явно это именно в сфере культурной – литературе... Так что (гипотетическая) полная замена языков на земном шаре на какой-нибудь эсперанто обернулось бы гигантской потерей для культуры, причём потерей не узко-национального, традиционного, а общечеловеческого универсального: по меньшей мере того универсального общечеловеческого, что может открыться лишь с платформы данного национального языка.
• В языке, говорят, выражается дух нации. В существование этой мистической сущности я не верю… нет, я бы сказал так: если дух нации вообще существует, то именно в языке он и состоит.
• Язык – важнейшая составляющая среды, формирующей личность, то есть родины. А соответственно и национальности.
• «Великий, могучий…» – Что бы ни говорили записные патриоты, это – чистая правда, объективный факт.
• Изменениям в языке нужно всячески противиться. Чтобы культура не оставалась «писаной вилами по воде».
• В языке можно совершенствоваться бесконечно – как в самопознании. Язык – живое.