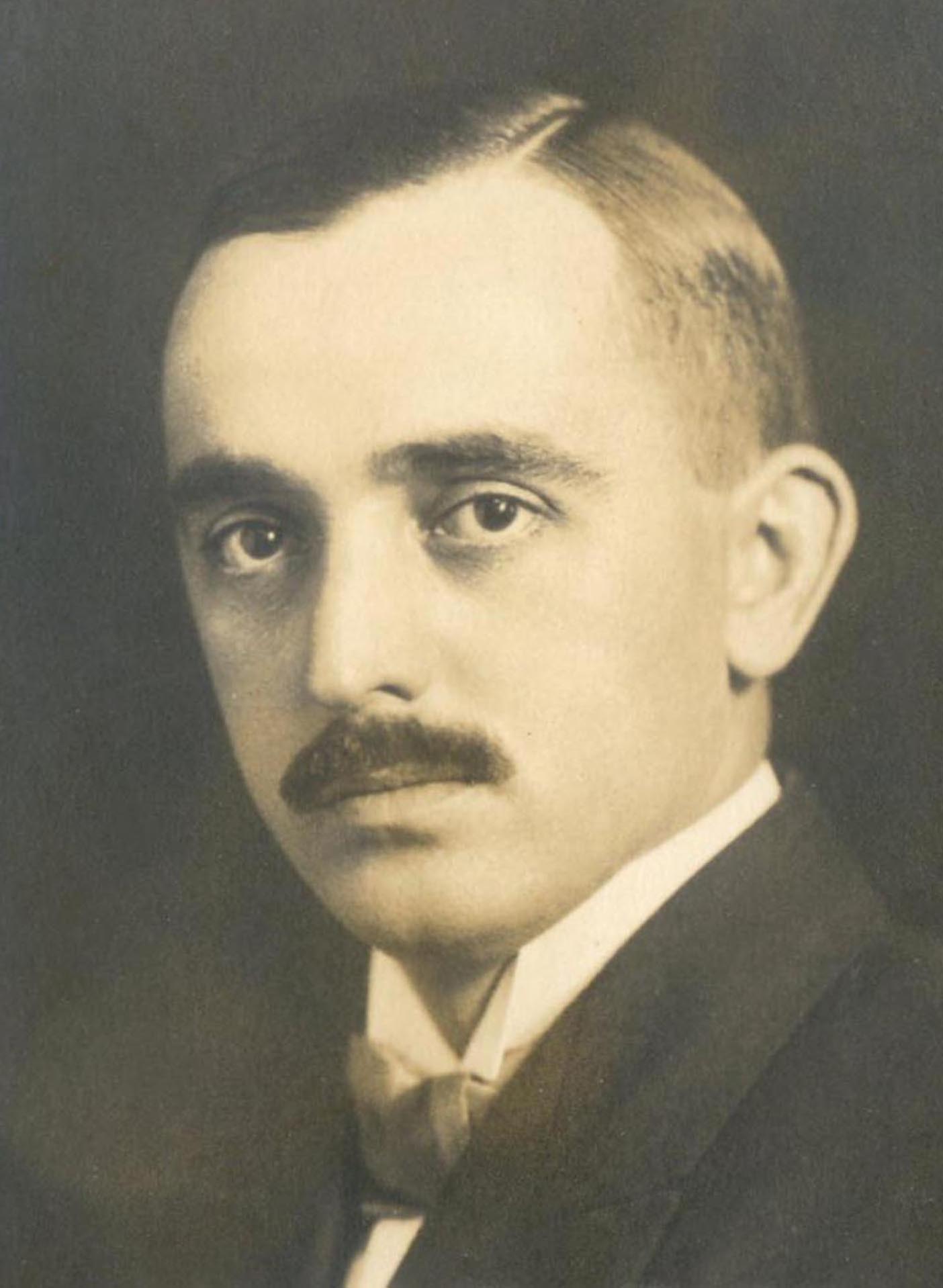
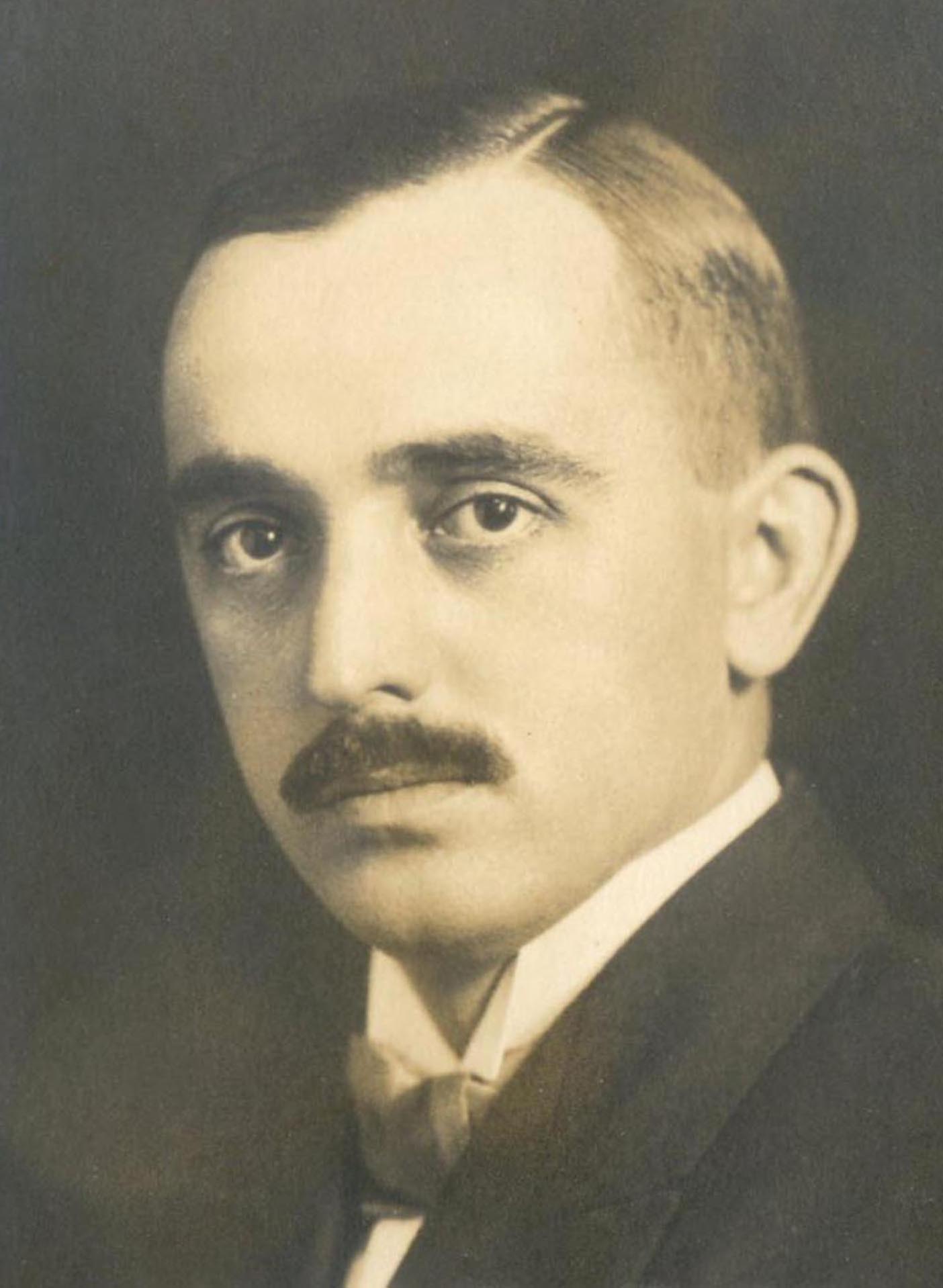
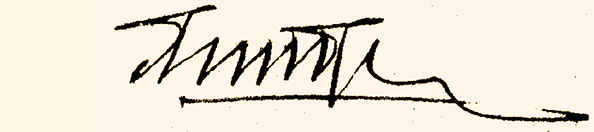
Адольф Августович Цибарт
(фото: август 1922 – февраль 1923, Данциг)
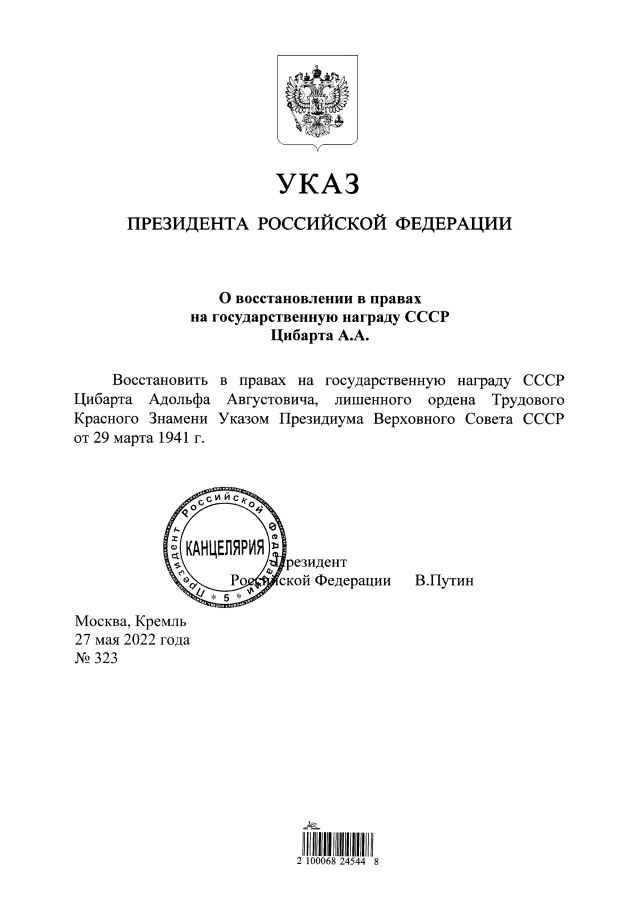
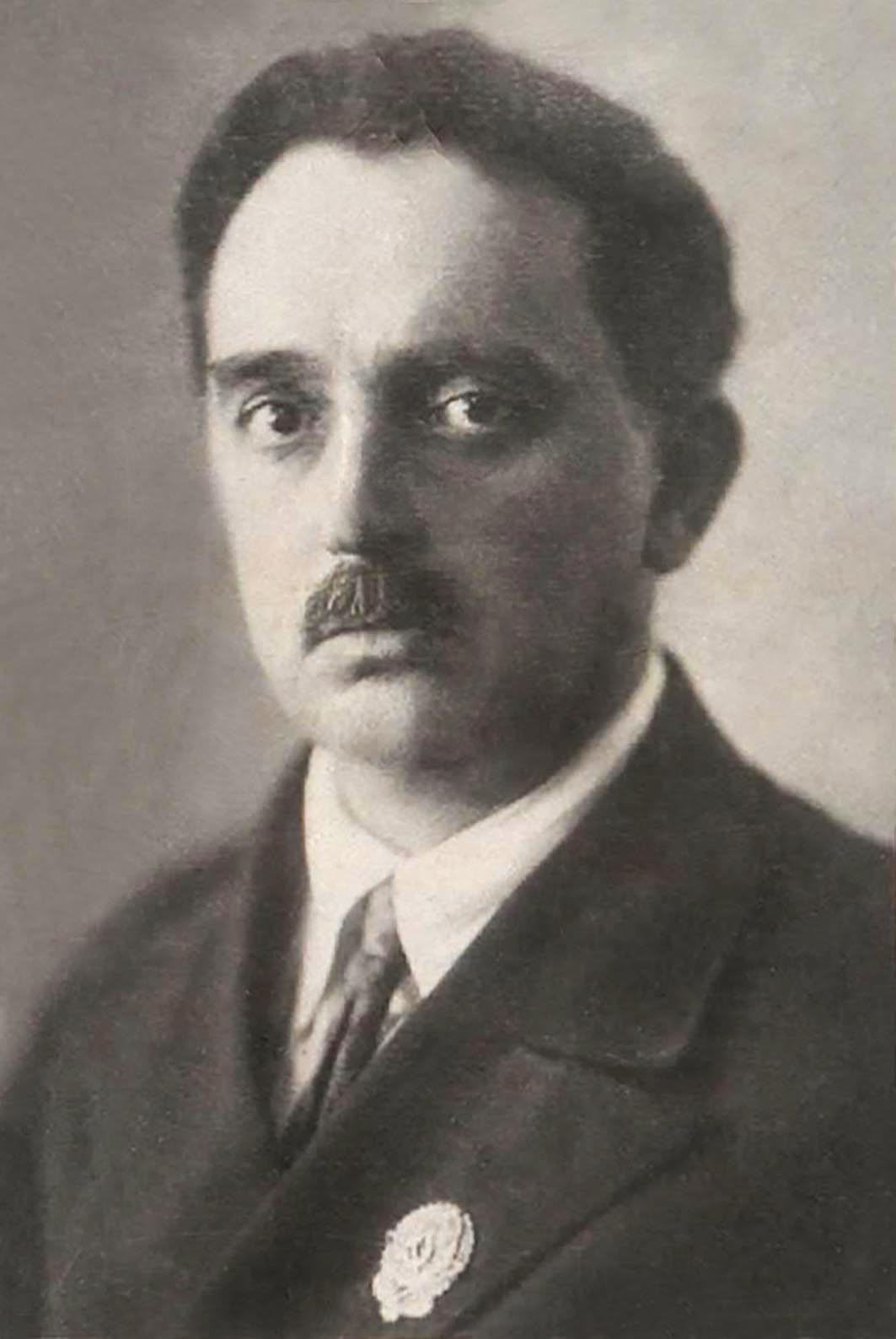
Адольф Августович Цибарт
(слева: Указ Президента РФ от 27 мая 2022 г.; справа: фото ноябрь 1933 – июнь 1935, Москва)
Последние добавления / правки внесены 25 января 2026 г.
Дождитесь полной загрузки страницы (3,3 мб), чтобы заработала навигация
Благодарю зав. архивом "Мемориала"* А.Г. Козлову за точные инструкции по обращениям в архивы ФСБ и МВД (Москвы и Магадана),
а также постоянных участников форума "Всероссийское генеалогическое древо", консультировавших меня по другим архивам,
сотрудников архивов ЦА ФСБ России, ГАРФ, РГАСПИ, ЦГАМ, ГАМО, Магаданского областного краеведческого музея и других.
Особая благодарность вед. архивисту Государственного архива Магаданской области Галине Юрьевне Зеленской, директору ГАМО Н.Б. Применко, а также зам. нач. Магаданского областного краеведческого музея по науке Светлане Владимировне Будниковой
Благодарен директору Музея МГТУ им. Баумана Галине Алексеевне Базанчук и всем сотрудникам Музея.
Благодарен Ивану Иванову, предоставившему мне возможность пользоваться его коллекцией сканов по истории МГТУ им. Баумана из архивных и библиотечных фондов
Благодарен библиографу Отдела редких книг библиотеки МГТУ им. Баумана Э. Наумовой.
Большая помощь в поиске книг оказана мне Александром К. knigi.ishem@yandex.ru
* Международное общество "Мемориал" состоит в списке иностранных агентов в России.
При всем своем, самом остром, неприятии нынешней политической активности "Мемориала" (независимо от источников его финансирования),
я убежден, что отрицание или замалчивание факта сталинских репрессий не только несправедливо, но и недальновидно,
и работа по сохранению памяти их жертв, проводимая в основном "Мемориалом", безусловно необходима
▼ А.А. Цибарт. Очерк биографии на фоне событий.
Список архивных и литературных источников, включая собственные статьи Цибарта и пр.,
с внутренними ссылками на сканы и тексты важнейших из источников
П р и л о ж е н и я :
▼ Некоторые (самые общие) цитаты о МММИ им. Баумана и сканы из изданий 1930–37 гг.,
фото МГТУ им. Баумана (июнь 2018)
▼ Дневник А.А. Цибарта – обзор и внутренняя ссылка на текст
▼ А.А. Цибарт в последние лагерные годы (дополнения к очерку).
Сканы некоторых архивных документов,
сканы и тексты отдельных писем А.А. из лагеря, внутренняя ссылка на их полный обзор
▼ Судьба семьи
▼ А.А. Цибарт. Фотографии из семейного архива
▼ Происхождение. Родительская семья
▼ Лодзинское мануфактурно-промышленное училище. Техник-механик
▼ «...Учиться в самом лучшем учебном заведении»: студент Императорского Московского технического училища.
Репетитор в семье препод. ИМТУ В.А. Ушкова (?)
▼ «Нуждающийся студент»
▼ «Поступил к Ушакову»: Василию Афанасьевичу Ушкову?
▼ «При ком»: великие директора ИМТУ Александр Павлович Гавриленко и Василий Игнатьевич Гриневецкий
▼ Предметная система в ИМТУ: «интерес к делу» vs «диплом».
«Дни и ночи сидели в библиотеке и рылись в материалах»
▼ Война. Земсоюз. Минская губерния, Синявка; Минск
▼ Март 1917 г.: Москва. Вступление в РСДРП. Революционный романтизм
▼ Продолжение работы в Минске и завершение учебы в ИМТУ/МВТУ.
Высшее образование: законченное или незаконченное?
▼ Начало советско-партийной деятельности.
Железнодорожный Совет рабочих депутатов,
Наркомтруд (член коллегии Всероссийского музея труда)
▼ Авторское отступление: общие замечания о жизни и личности А.А.
«На мое несчастье, я не умею отдаваться частично»
▼ «Неужели опять хотят меня перекидывать». Номенклатура
▼ «Договор с Природой». «Рост». «То что мне будет суждено сделать и открыть будет за лучшие идеалы человечества»
▼ «Новый Христос – Ленин», «апостол Павел – Сталин», «Троцкий – черт – ад»
▼ «Забрались мы на вершину материального благополучия»
▼ Родственные чувства. «...Легла спать не покушав как следует...»
▼ Гомель. Комиссар труда
▼ Ольга Адамович
▼ Советская Белоруссия, Минск.
Председатель и зам. председателя Белорусского СНХ; особоуполномоченный по Западной области;
зам. Наркома внешней торговли; инспектор торгпредов в Варшаве и Берлине
▼ «Независимая» С.С.Р.Б.
▼ Совнархозбел
▼ Внешторгбел
▼ «Тайные связи»
▼ Женитьба. Мария Иосифовна Сыч (Цибарт)
▼ Москва. Егорьевско-Раменский Государственный Хлопчато-Бумажный Трест
▼ Оренбург. Директор Илецкого соляного промысла.
Член президиума Казпромбюро ВСНХ РСФСР; член коллегии и 1-й заместитель председателя ЦСНХ Казакской АССР
▼ Москва. Директор Директората текстильной промышленности ВСНХ РСФСР
▼ БАУМАНСКИЙ, 29.01.1930 – 14.12.1937
(механический факультет МВТУ; ВММУ; c 28.10.1930 МММИ им. Н.Э. Баумана)
▼ «Здравствуйте, инженеры царства теней!» «Индустриализация» и удушение технического образования:
«поскорее выпустить на производство», узкая специализация, борьба ВКП(б) с научным «балластом», «тысячники» и пр. – МВТУ ко времени прихода Цибарта
▼ «Красный декан» как будущий директор втуза. А.А. Цибарт – декан механического факультета МВТУ
▼ Раздробление МВТУ свершилось. А.А. Цибарт – Директор ВММУ (Высшего механико-машиностроительного училища)
▼ Наследство МВТУ. «...Безусловно "старшим сыном" оказалось ВММУ»
▼ Рождение Бауманского: втуз стал «Бауманским» при Цибарте.
А.А. Цибарт – директор МММИ (Московского механико-машиностроительного института) им. Н.Э. Баумана
▼ «Дело Промпартии». «Спецеедство» партячейки ВММУ/МММИ и «оппортунизм» Цибарта
▼ Общий взгляд: восемь лет работы Цибарта во втузе в его «наиважнейший период» (январь 1930 – декабрь 1937).
Лучшее из возможного
▼ 1930 – 1932: прежним курсом. «Пролетаризация», «бригадный метод», «непрерывное производственное обучение», 4 курса вместо 5, и проч.
▼ «Охват учебой командиров промышленности». Между вузом и ликбезом (Курсы красных директоров, ФОН, МММИПКХ)
▼ Поворот на 180 градусов:
спасительные реформы Кржижановского 19 сентября 1932 года
▼ Первый год реформ в Бауманском: 19 сентября 1932 года – конец 1933 гг.
«Полный возврат к старой школе», «по руслу копирования бывшего императорского технического училища»?
Доклад Цибарта на 6-м пленуме ЦК ВЛКСМ, возвращение профессоров в МММИ, создание факультетов и многое другое
▼ 100-летний юбилей Училища (1830 – 1930) в 1933-м году: реабилитация отечественной науки.
Приказ Серго
▼ Юбилейный сборник «Сто лет МММИ им. Баумана»
▼ Орден Трудового Красного Знамени: награждение Бауманского и Цибарта.
«ВТУЗ находится на крутом подъеме. Мы идем вверх по большинству наших качественных показателей»
▼ Цибарт и партия: чужой среди своих. «Не было ни одного выступления где он разоблачил бы хотя бы одного врага»;
парттысячники «его очень не любили и с ним всегда сражались»
▼ Новые школы и старые специалисты
▼ Профессор, доцент, ассистент в 1930 – 1937 гг. Ученые «старые» и «молодые»
▼ «Партийно-пролетарская аспирантура» в 1930 – 1937 гг.:
«проведя успешно задачу комплектования аспирантуры в части партийного и социального состава...»
▼ Иностранные языки в МММИ:
между «сделать обязательным знание по крайней мере одного из иностранных языков» и «втуз все равно языкам не научит»
▼ Студенческие научные кружки в МММИ – «группы содействия» кафедрам
▼ Физкультура и спорт в ВММУ–МММИ:
рождение кафедры, спортивная школа, спартакиада втузов, зимняя спартакиада, шахматы и др.
▼ «В первой шеренге социалистического соревнования». Ударничество и звание «Лучший втуз Советского Союза».
Прежними методами – но за подлинную учебу
▼ Чудесное продолжение соцсоревнования: «стахановско-бусыгинское движение» и абсурдизм во втузах.
«Все учебники надо пересмотреть и по-новому составить.» Ерманский, Шаумян, Беспрозванный и другие.
Почетный нагоняй Бауманскому и Цибарту
▼ Брошюра А. Ямского (Г. Нехамкина? М. Акимова?) «Лучший втуз Советского Союза». Отступление: о быте МММИ в годы триумфа
▼ События, победы и бедствия 1934–1935-х гг.
Первые с начала реформ общетехнический факультет и ученый совет, Труды КрМММИ,
отделение для слабослышащих, спартакиада, прокатная лаборатория,
«Заметки о высшей школе», Радищевка и др.
▼ «Я включен в расписание по математике и физике... Вот это реальное достижение»
▼ События и успехи 1936–1937 гг.
«Московский процесс», сентябрьский прием, постановление СНК и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г. и угроза «переброски»,
пушкинские дни, научно-техническая конференция, право приема диссертаций и другое
▼ Семейный разлад
▼ Продолжение. Февральско-мартовский пленум 1937 г.
«...Как меня травят, как троцкистская сволочь хочет меня выжить»
▼ «...Опасности, связанные с успехами, с достижениями»
▼ «Фамилия очень неподходящая.» «Портрет контрреволюционера Петровского рядом с портретами вождей»
▼ «Большевистская критика, невзирая на лица.» «Надо прямо поставить вопрос, что тов. Цибарт не может работать в институте»
▼ «Из партии тов. Цибарт исключить.» «Пусть судит меня партия, но не троцкисты»; «веру в то, что делает Сталин, нельзя терять»
▼ «Смотри, ты враг народа, а я террорист и сидели рядом с секретарем ЦК...»
▼ «Октябрьские дни»
▼ «Из зала трижды кричали: "Цибарта"»; «Меня встретили студенты громом аплодисментов»
▼ «Неужели шайка подлых троцкистов победит?» «Даже сторож, который умер в Ильинских дачах, приходил и спрашивал: "правда, что Цибарта снимают?"»
▼ Захар Малинкович. «Тут что-то не то. Идет расправа»
▼ «Теплое письмо» Сталину. «Вы какой-то сверхчеловек...»
▼ Последние дни в МММИ. Арест. «Разберутся, я завтра приду»
▼ «Очиститься от вражеского охвостья». По завершении юбилейного 1937-го
▼ Архивное уголовное дело № Р-24817
Бутырская тюрьма. Так называемое следствие: вина не признана,
«я участником антисоветской организации правых не был».
Приговор ОСО
▼ Магадан: Севвостлаг, Маглаг. Инженер-теплотехник
▼ Рабочая биография А.А. Цибарта в заключении.
Проектный отдел ГУС ДС; конструкторское бюро Колымпроекта ГУС ДС; затем ЦНИЛ ДС; затем непосредственно ДС
▼ «Подлежит лишению ордена Трудового Красного Знамени».
Восстановление в правах на орден указом В.В. Путина (27 мая 2022)
▼ «Пересидчик»
▼ Надежда умирает последней. Опять Малинкович. Зайцев. «Мне видно здесь могила...»
▼ Когда А.А. Цибарт был освобожден
▼ «Признан умершим», «место смерти неизвестно»
▼ Реабилитация...
▼ «Прекращение дела производством за отсутствием состава преступления»
▼ Роль в истории МГТУ. «Получается так, что я ничего не делал. Мои заместители тоже, а втуз все время идет вверх...»
▼ ПРИЛОЖЕНИЕ: как складывался современный архитектурный облик старого здания МГТУ – Слободского дворца.
Предыстория и первоначальный вид; штукатурка и покраска – или кирпич; нереализованная перестройка в 1900-х гг. и «безбожные» надстройки, судьба ограды, а также загадочные письмена и прочее
▼ Источники
▼ 1. Литература, архивные и др. источники
▼ 2. Статьи, заметки, предисловия А.А. Цибарта
Адольф Августович Цибарт родился 21 августа (по новому стилю) 1892 года. Эта дата приводится в его «служебной карте работника ВСНХ» в 1925-м году (РГАЭ ф. 3429, оп. 20, д. 600, л. 25), а благодаря помощи специалистов «Всероссийского генеалогического древа» найдена и его метрика («Дупликатъ Актовъ Гражданскаго Состоянiя Евангелическо-Аугсбургскаго Филiала в Поддембицахъ на 1892 годъ», Акт № 44, рождения): «Состоялось въ Поддембицахъ шестнадцатого / двадцать восьмаго Августа тысяча восемьсотъ девяносто втораго года в два часа по полудни. Явился Августъ Цибартъ /: August Ziebart :/ шинкарь из Фулки двадцати четырехъ летъ, въ присутствiи Михала [Михаила – ?] Фриске владельца из Одехова пятидесяти пяти летъ и Карла Геншъ ткача из Поддембице сорока трехъ летъ, и предъявилъ Намъ младенца мужескаго пола урожденного въ Фулкахъ девятаго / двадцать перваго Августа текущаго года в пять часовъ по полудни отъ жены его Леокадiи урожденной Фриске /: Leokadya z Friske :/ двадцати однаго года от роду. Младенцу этому при Святомъ Крещении дано имя Адольфъ /: Adolf :/ а воспрiемниками его были первый свидетель и Флорентина Баеръ вдова. Актъ сей прочитанъ и подписанъ. – / August Ziebart / М. Фриске / К. Не... [нем., нрзб]». («Девятаго / двадцать перваго Августа» – по Юлианскому и Григорианскому календарю.)
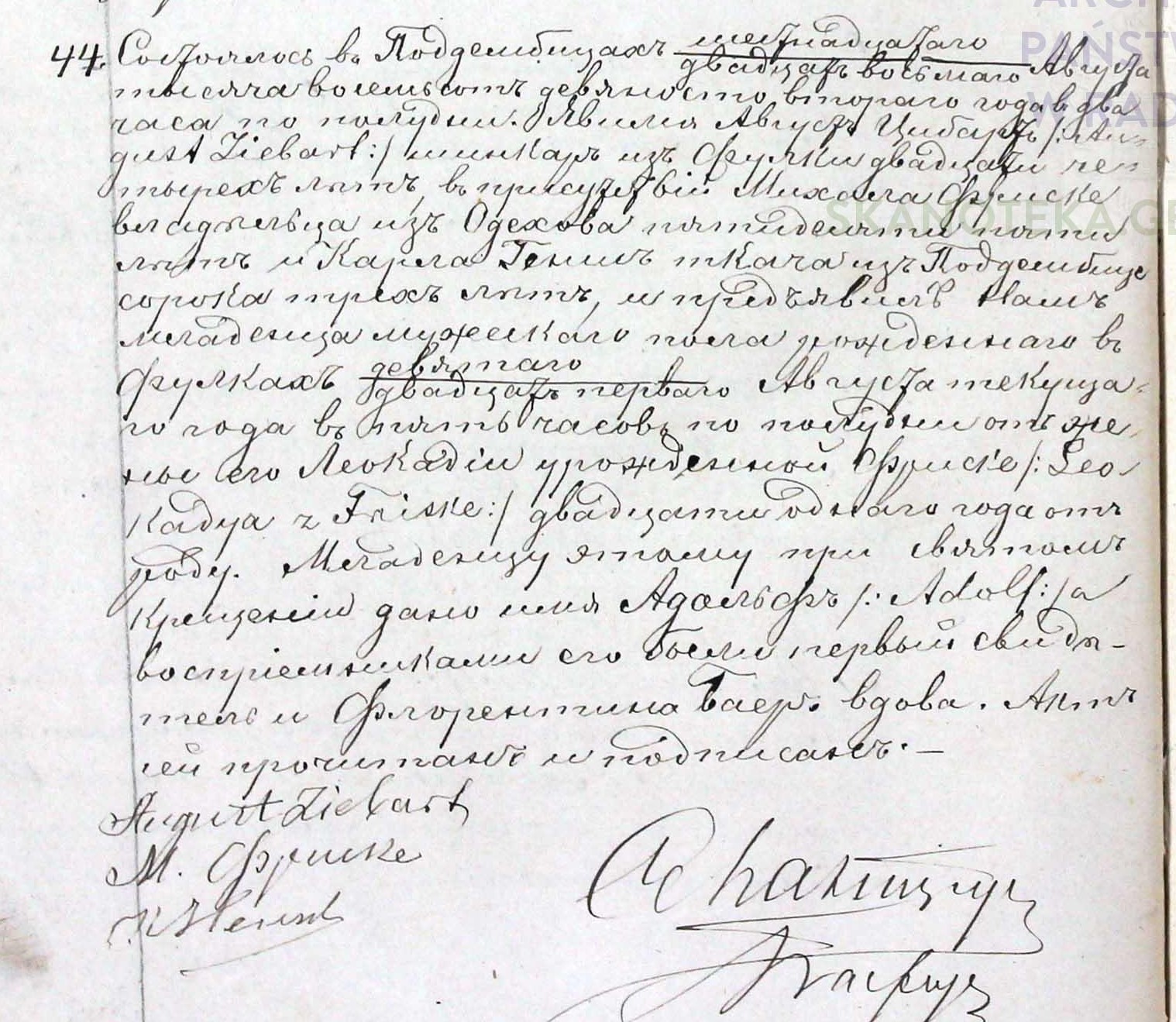
В скобках. – В самом, наверное, уничижительном для Цибарта отзыве о нем (насквозь нелепом и лживом), якобы принадлежащем Г.А. Николаеву (профессор МММИ с 1933 г. по каф. сварки, в 1964–1985 гг. ректор МВТУ, с 1979 г. академик), первый «компрометирующий» Цибарта пункт – пикантное «разоблачение»: «... начну повествование с образа директора Адольфа Августовича Цибарта, еврея по происхождению, с немецким именем и отчеством. …» – в кн.: Академик Г.А. Николаев. Среди людей живущий (М., МГТУ им. Баумана, 2021). Как если бы в 1930-х годах коммунист имел хоть какую-то причину скрывать свое еврейское происхождение! – Впрочем, книга состоит всего лишь из обработанных записей бесед с Николаевым некоего С.А. Жукова – возможно, сам академик и не пожелал бы подписаться под этими записями.
Место рождения, таким образом – Польша, Калишская губерния (губернский город Калиш, польск. Kalisz). Любопытно, что относительно более точного места своего рождения сам А.А. оставил две различные версии – истинную и ложную. Согласно регистрационному бланку члена ВКП(б) 1936 г. (см. материалы РГАСПИ), он (неверные сведения!) родился в Кольском уезде Калишской губернии (адм. центр г. Коло, польск. Koło); в то время в Российской империи существовал и другой одноименный уезд, и А.А. в своей биографии от 1936 г. (см. РГАСПИ) уточняет: «на германской границе», которая проходила тогда по этой губернии. Однако в упомянутой выше, более ранней «служебной карте работника ВСНХ» он еще дает правильные, согласующиеся с метрикой сведения: Калишская губерния, Ленчицкий уезд, Поддембицк<ая> в<олость>, деревня Фулки (Łęczyca – Poddębice – Fułki). С чем связано появление ложной версии, неизвестно, но можно предположить, что А.А. хотел скрыть указанную в метрике Поддембиц работу отца (крестьянского звания) на момент своего рождения, а может и позже, – работу шинкаря. Итак, он родился в деревне Фулки (нынешнего Лодзинского воеводства), в несколько домов вдоль дороги, в 30 км к западу от Лодзи.
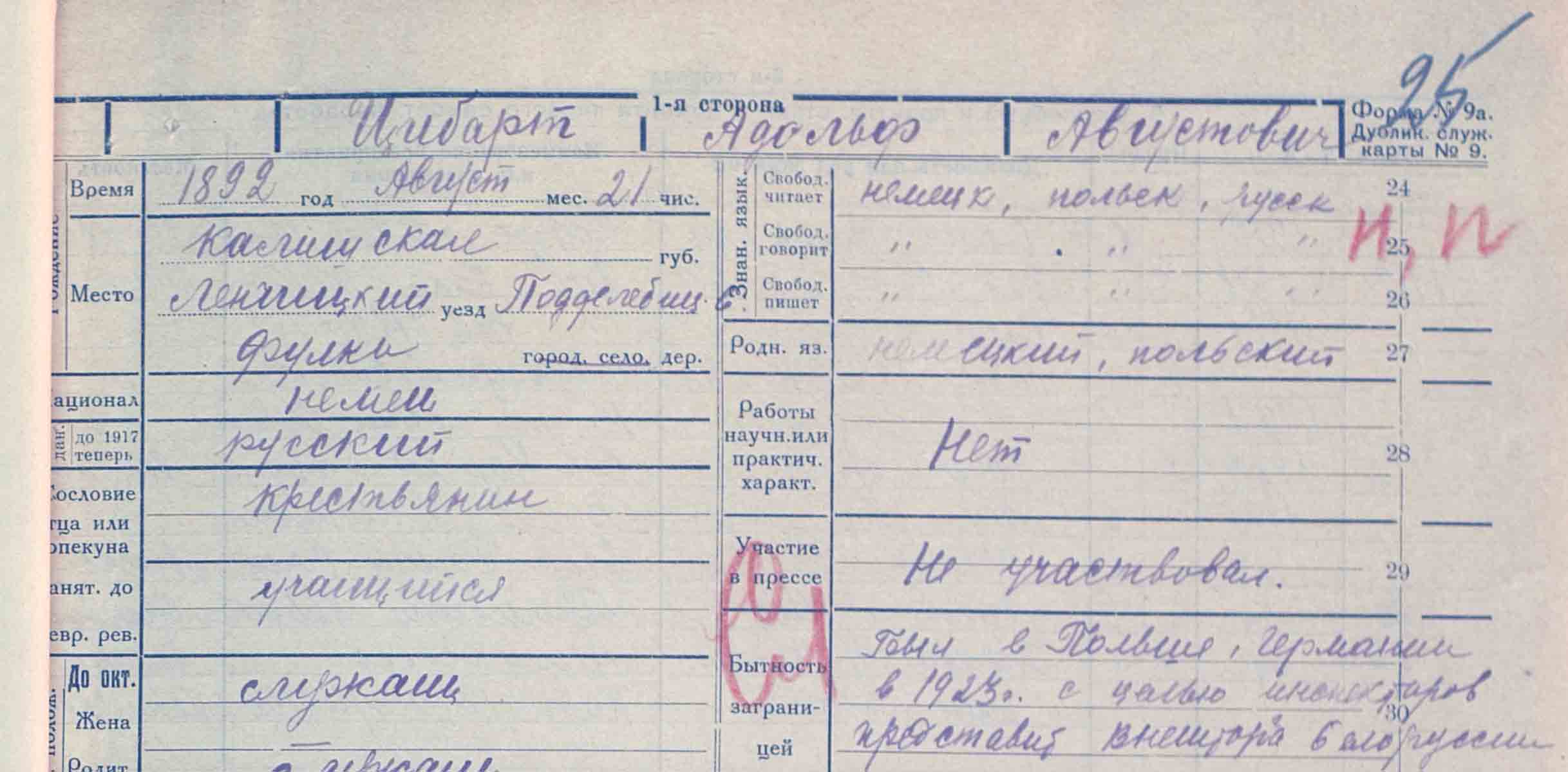

По национальности обоих родителей немец, «евангелическо-лютеранского исповедания», «звания крестьянского». Точное немецкое написание фамилии – Ziebart. Родной язык А.А., «тоже и разговорный» – немецкий, а в упомянутом документе от 1925 года он указывает в качестве родного и польский; с детства владел также, что в его сословии общего правила не составляло, русским языком, на котором в дальнейшем писал даже личные дневники. Среди его личных записей 1930-х годов, на русском языке, встречаются изредка и на немецком, но ни слова на польском.
«Воспитывался в Лодзи»; этими словами из краткой автобиографии (1933) как будто не предполагается, что в город переехала вся семья. В Лодзи работал его отец.
Многие интересные сведения, весьма вероятно, можно было бы обнаружить в личном деле Цибарта – студента: как сообщают на форуме «Всероссийское генеалогическое древо», дела студентов ИМТУ бывают довольно объемными, до 60-и страниц, и могут содержать даже метрики студентов, различные прошения их и их родителей, и т.п. Увы, в Центральном государственном архиве г. Москвы, в фонде "Московское Императорское техническое училище, г. Москва" (Ф. 372) личного дела и сведений о принятии в число студентов и учебе там Адольфа Августовича Цибарта в 1910–1916 годах нет. Также нет личного дела студента Цибарта (и другого личного дела – директора Цибарта, которое, как сообщает И.Л. Волчкевич, сохранилось) и в само́м училище – МГТУ им. Н.Э. Баумана – куда ЦГАМ рекомендовал нам обратиться.
Все то немногое, что здесь можно сказать о происхождении А.А. (с польской ветвью родственников связь потеряна с 1960-х годов) типично для Лодзи того времени. Каждый 3-й житель Лодзи – немец, лютеранин; город, как второй по значению промышленный центр Королевства Польского, обеспечивает рабочие места. Обращают на себя внимание и такие его характеристики (ЭСБЕ): Лодзь один из «самых нездоровых городов во всем Привислинском крае. Воздух испорчен дымом ежегодно сжигаемых местными фабриками 20 млн. пд. угля; вода в Лудке и в окрестных озерах заражена фабричными отбросами; большинство домов и квартир устроены без соблюдения важнейших требований гигиены» – рабочей семье Цибартов, скорее всего, довелось испытать эти тяжелые жизненные условия в полной мере. – Август Цибарт трудился в Лодзи литейщиком на машиностроительном (приводостроительном) и чугунолитейном заводе «I. Iонъ» и текстильной фабрике Израиля Познанского в течение 8-10 лет, а затем около 25 лет вагоновожатым на трамвае (кстати, трамвай был гордостью Лодзи – именно в этом городе в самом конце 1898 г. состоялся пуск первого в Польше электрического трамвая). Эти данные о местах работы Августа Цибарта взяты из краткой автобиографии, составленной А.А. в 1933-м г. (Сведения из регистрационного бланка к партийному билету образца 1936 г. с этими как будто разнятся: из них можно понять так, что отец А.А. работал вагоновожатым лишь с 1917 года. Автобиография в этом пункте выглядит достовернее). Если вспомнить, что в 1929–1932 гг. Август Цибарт был в Москве, а с 1933-го года никакой информации о родительской семье А.А. иметь уже не мог, то получается, что сменил род деятельности отец А.А. Цибарта во время Русско-японской войны, когда на заводах Лодзи прошли массовые увольнения. В студенческие годы А.А. семья, в которой он был старшим из 4-х детей, никак не могла ему помогать: «отец был вагоновожатым на трамвае в Лодзи, получал 60 р. в месяц и основательно к тому же выпивал» (письмо А.А. из лагеря 13.02.1944). Однако ценность образования, как будет видно из дальнейшего, в семье понимали хорошо.
Полноты ради надо упомянуть, что в своей служебной карте в ВСНХ (1925), в графе «Имуществен. полож.» / «до Окт.» / «родит.» – Цибарт указывает: «служащ.». Понимать ли это так, что на самом деле Август Цибарт, до работы на трамвае, рабочим не был и работал на заводах в какой-то иной должности, или как-нибудь иначе – неясно.
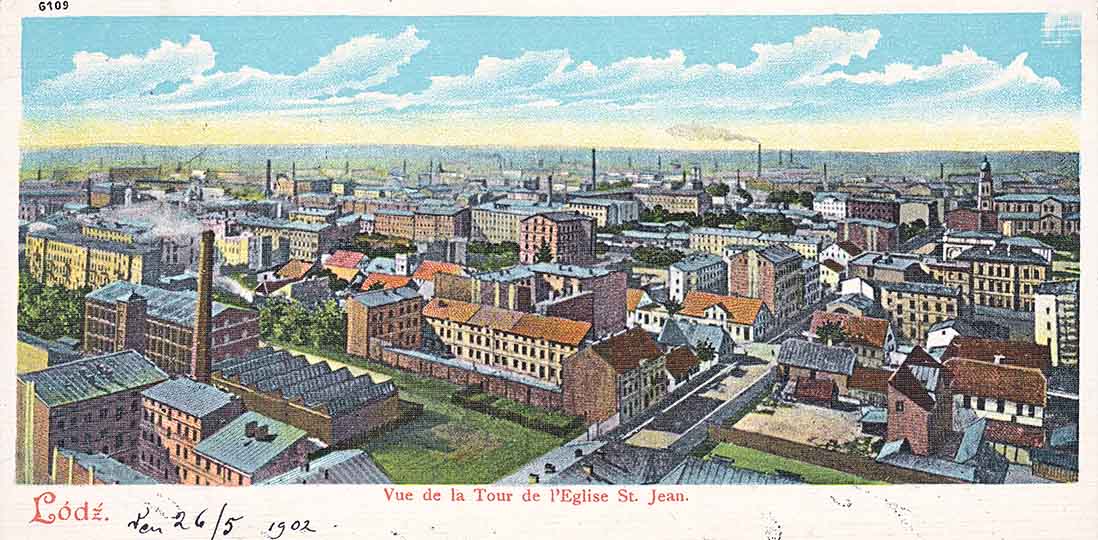


Лодзь на открытках 1900-х гг. (из собрания В. Кмитовича); лодзинский трамвай на фото ок. 1899 г. (музей истории гор. транспорта Лодзи).
Мать А.А., как записано в метрике (см. выше) – Леокадия, урожд. Фриске, домохозяйка. «Матери приходилось очень тяжело» (письмо А.А. 13.02.1944). По крайней мере до конца 1935-го года она была вероятно жива; ей в это время в своем дневнике (переписки не могло быть) А.А. желает здоровья и счастья. Из других сведений о ней – только то, что по крайней мере в начале 30-х она сильно болела. Был младший брат – Бруно (ок. 1897 г.р.), и две младших сестры (однажды А.А. сказал о трех – видимо, имелась в виду и какая-то двоюродная); во время студенчества А.А. все они учились в гимназии. Одна из сестер умерла в 1932 или 1933 году. С сестрой Эльфридой (? – в письме А.А. «Ида») – А.А. связывали особенно теплые отношения. Может быть, именно с ней или ее дочерью (если она была) в хрущевскую эпоху какое-то время переписывалась старшая дочь Адольфа Августовича – Эльфрида-Леокадия.
О семьях брата и сестер А.А., были ли у них дети – племянники А.А., – ничего пока не известно.
«Тяжело было», и тем не менее – «жили, пробивались и всем детям давали образование». В этом А.А. позже приходится оправдываться, ибо профессиональная учеба А.А. в Польше вызывала у партийных товарищей сомнение в его «каноническом» рабоче-крестьянском происхождении (например: «Я ставлю под сомнение социальное происхождение Цибарта. И возьмите самого Цибарта. В царское время он учился в коммерческом техническом училище. Я не думаю, чтобы лодзинский ткач мог послать своего сына учиться. И дочки у него тоже учительницы» – С. Шевяков, ЦГАМ ф. П-158 оп. 1а, д. 39, л. 93). Брат Бруно, хотя это сведение неточно, получил образование юридическое, затем работал счетоводом или бухгалтером; сестры, как говорит Цибарт, «учительствовали».
Впрочем (что до материальной обеспеченности), все относительно: когда А.А. на последнем перед арестом партсобрании говорит, что его отец имел заработок в 60 рублей, ему с места посылают реплику «это много!». Действительно, в центральной России эта сумма, по некоторым данным, составляла для рабочего 40 рублей. А.А. отвечает лишь, что «там так платили».
В 1929-м году отец и брат А.А. приехали, по его приглашению, из Польши в Москву («я выписал своего брата и отца потому, что им там плохо жилось», – см. Партсобрание). Отец устроился в артель и «набивал шнурки для ботинок», брат работал на фабрике, видимо в администрации. Предполагалось перевести в Москву всю семью: «...почему не взял родителей к себе? – Я пытался их взять...».
В 1932-м оба они, за эти годы благоразумно не приняв подданства СССР, вернулись «через посольство» в Польшу: как объяснял А.А. бдительным товарищам по партии и затем, после ареста, на Лубянке, – потому, что мать заболела и сверх того подвергалась в Польше каким-то полицейским преследованиям из-за родственников в СССР, а согласно доносу на А.А. в НКВД, отец и брат якобы говорили, что «здесь голодно». С тех пор они жили в Польше под Лодзью в «местечке Радогощ» (Радогост, ставший печально знаменитым со времен фашистской оккупации). В том же 1932 году связь А.А. с родительской семьей, как с «заграницей», становится уже невозможной: «кроме открытки о том, что умерла моя сестра, я от них ничего не получал. Первое время после их от'езда я писал, ответа не получал. Живы ли они, работают ли – не знаю». Из тех же доносов и стенограмм партсобрания декабря 1937-го года известно, что в этом, 1932-м году Цибарт обращался к командированному в Данциг другу и сотруднику С.И. Шевякову с просьбой написать оттуда Бруно – чего «Сережа», обманув А.А., не исполнил. («Когда я уезжал заграницу в 32 году, в Данциг, Цибарт дал мне адрес Бруно и просил написать в Польшу. Я адрес взял, конечно, но не писал. / Цибарт спросил меня когда я приехал – "писал"? Я ответил писал. Ничего неэтического я тут не вижу. Он член партии, он должен понять, что нельзя члена партии заставлять переписываться с заграничными людьми» – ЦГАМ ф. П-158 оп. 1а, д. 39, л. 93.) Были, кажется, у А.А. и другие безуспешные попытки того же рода дать родным о себе весть.
Пройдя начальную школу, в 1902 г. А.А. Цибарт поступил в Лодзинское мануфактурно-промышленное училище.
В этом году заведение уже носило именно такое название (в 1901-м году был принят «Устав Лодзинского мануфактурно-промышленного училища»), но располагалось оно еще в своем старом здании на главной лодзинской площади – «Новый рынок».
Кстати, несколько слов касательно топографии – это место тесно связано с детством А.А. Для официальной биографии одного из ректоров МВТУ такие подробности, конечно, совершенно излишни, но нас здесь все подобное живо интересует. – Здание почти вплотную примыкало к евангелическому храму Св. Троицы (по другую сторону храма – городская ратуша). Ныне площадь носит именование «пляц Вольности» (площадь Свободы), а в доме № 14 по этой площади, бывшем помещении Училища, располагается Музей археологии и этнографии. Здание, увы, в настоящее время неузнаваемо: оно изменило декор и было надстроено на этаж, а в месте примыкания к храму, где оно было (с флангов) понижено – на два (что существенно повредило ансамблю площади, зрительно «задавив» храм). Как и прежде, по площади ходят трамваи. |

На открытке 1900-х гг. – площадь Новый рынок, ныне пл. Свободы.
В здании, примыкающем к евангелическому храму Св. Троицы (с 1945 г. католический костел Сошествия св. Духа) располагалось до 1903 года
Лодзинское мануфактурно-промышленное училище
(ныне в этом доме помещается Музей археологии и этнографии, здание основательно перестроено; совр. адрес: пл. Свободы, 14).
В 1903-м году училище переехало в новое здание по ул. Панской

Фото со страницы pastvu.com/435718 (Rustam253). Фрагмент
Лодзинское мануфактурно-промышленное училище, евангелический храм, трамвайная развязка...
В 1901 г. по решению городского магистрата, выделившего 2,5 га парковой территории по ул. Панской (недалеко от Пиотрковской, центральной улицы Лодзи), и при финансовой помощи промышленников Л. Гейера и И. Познанского начинается строительство великолепного нового здания училища (арх. П. Брукальский, медалист Российской академии художеств) – точнее комплекса зданий, включающего лаборатории и мастерские (см. сайт Школы им. Кароля Войтылы; сайт Baedeker Łódźki). В мае 1901 г. был утвержден проект, а в 1903-м году строительство было завершено, новое здание встретило первых учащихся.
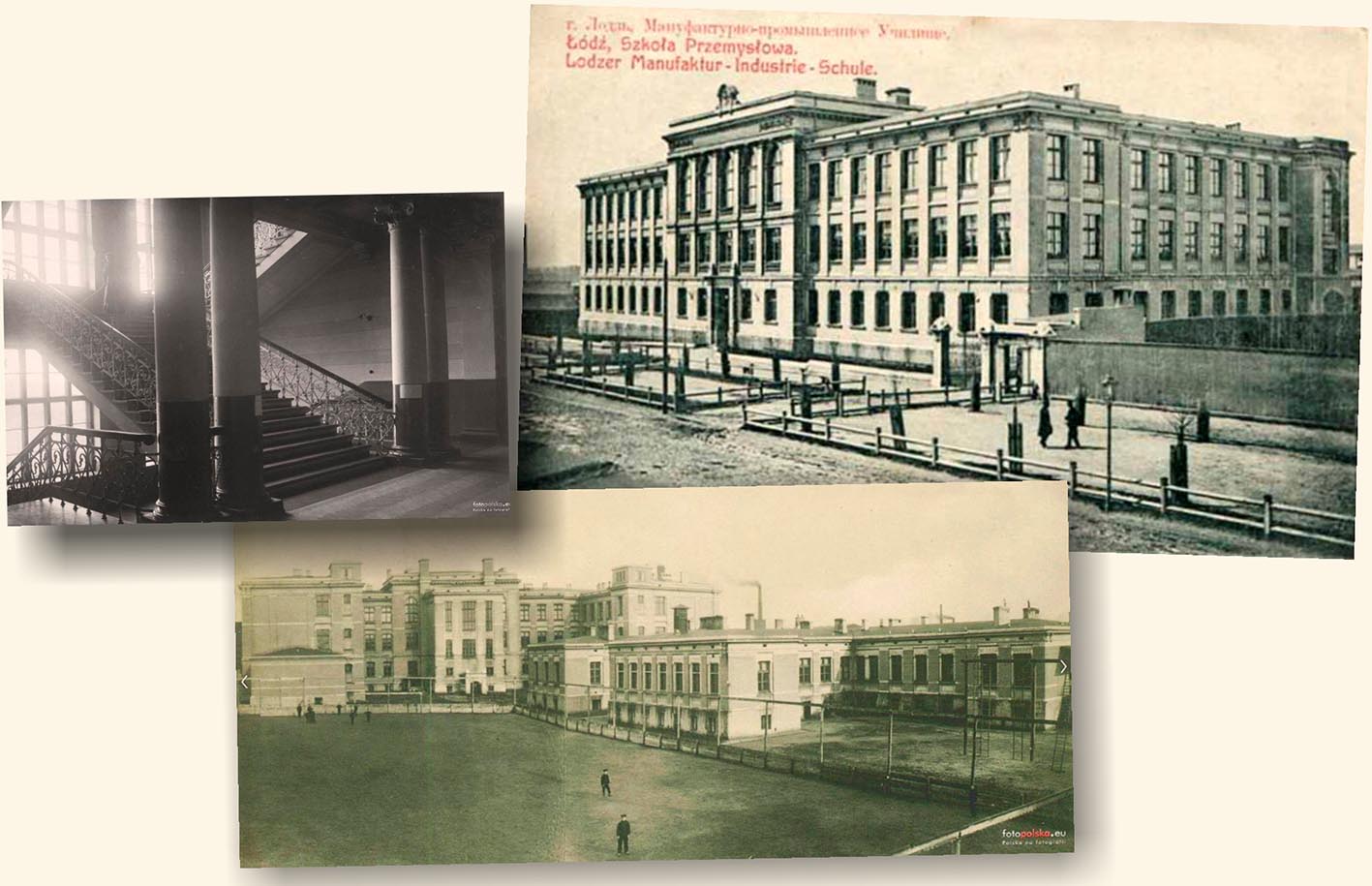
Лодзинское мануфактурно-промышленное училище. Арх. П. Брукальский. 1900-е гг., ул. Панская, 115
(Открытка из собрания Е. Шолох; фотографии с сайта fotopolska.eu)
Лодзинское училище, существовавшее под разными названиями с 1869-го года, было одним из важнейших средних технических учебных заведений Российской империи (в военном 1915 году его сочли нужным эвакуировать – в Иваново-Вознесенск). Преподаватели, согласно Уставу училища 1901 г., должны были иметь образование не ниже высшего; у некоторых имелись научные труды. В заведение принимались «лица всех состояний и вероисповеданий»; от платы за обучение могли быть освобождены и даже получать единовременные денежные пособия и ежегодные стипендии «заслуживающие того по своему прилежанию и поведению сыновья недостаточных родителей и притом не более 1/7 части учащихся» – скорее всего, Цибарт вынужден был ориентироваться на эту малую часть. «Когда я учился в средней школе [т.е. училище], книги, одежду мы получали от благотворительного общества. Там был пастор Штиллер, который собирал одежду у детей фабрикантов, а потом нам отдавал. Тяжело было...» (см. Партсобрание). Преподавателями изначально были русские и немцы, занятия велись на русском языке: «я получил образование только потому, что знал [русский] язык». Училище было семилетним, последние три класса были преимущественно специальные, по двум отделениям – механико-техническому (ткацкому) и химико-техническому (красильному); Цибарт учился на механико-техническом. К общим предметам в училище относились Закон Божий, русский и немецкий языки (но не польский), история, география, математика, естествознание, рисование и чистописание, к специальным – физика, механика, химия, химическая и механическая технология, красильное искусство, ткачество, прядение и уроки черчения. Предполагалась также, «с разрешения министра народного просвещения», организация приготовительного класса.
1904–1905 гг. – Русско-японская война. Тяжело страдает экономика Польши. В частности, ограничение внутреннего российского рынка, в связи с занятостью железных дорог военными поставками, душит ее текстильную промышленность. В Лодзи проходят массовые увольнения рабочих-текстильщиков. По всей Польше разгораются социалистические и анти-имперские настроения. Лодзь становится одним из важнейших очагов революции 1905–1907 годов в Королевстве Польском. Одной общей целью самых разных революционных групп в королевстве было возвращение польского языка в учебные заведения, гминное правление (местные администрации) и судопроизводство. В 1905-м году, вслед за общероссийской рабочей забастовкой, в Польше началась так наз. Школьная забастовка, управляемая ученическими, родительскими и учительскими комитетами, – ее целью было главным образом введение преподавания на польском языке. К забастовке присоединились Варшавский университет и Политехнический институт. Бессрочный бойкот русских учебных заведений – и в том числе Лодзинского «Włókiennik'а» (Włókiennictwo – ткачество), – мануфактурно-промышленного училища, – был объявлен 19 февраля 1905 года. В конце концов, после долгих маневров властей, это требование бастующих было удовлетворено. В 1907-м году училище получает название «Szkoła Rękodzielniczo-Przemysłowa» и переходит на польский язык, а русский остается в качестве факультативного (см.: сайт e-reading.club, Польша в ХХ веке / Очерки политической истории; сайт Объединения послегимназиальных школ им. Кароля Войтылы).
Таким образом, последние три класса лодзинского училища Цибарт учился на польском.
К концу пребывания в училище Цибарт изучил французский язык, с которого затем переводил в студенческие годы. Вероятно, в освоении французского ему помогло какое-нибудь знакомство в более образованной и обеспеченной семье, чем его собственная.
Если говорить о школьных знакомствах А.А., то в найденных к настоящему времени материалах встречается прямое упоминание лишь об одном из них. Вместе с Цибартом (на год младше), на химико-техническом отделении, учился сын торгового агента и будущий крупный советский деятель Григорий Аронштам.
|
Григорий Наумович Аронштам – член РСДРП с 1913 г., старший брат более известного советского деятеля – военачальника РККА Лазаря Аронштама и еще двоих младших братьев, также большевиков, погибших в Гражданскую; по этим судьбам можно представить себе авторитетность старшего! Лазарь и Григорий Аронштамы были расстреляны в годы Большого террора. – Сталин, заметим здесь, расстрелял практически всю историю РСДРП(б) – ВКП(б), чем и объясняется бесцветность и невразумительность казенной «истории КПСС», чудовищной, но во всяком случае не скучной и не бедной на лица. |
После Лодзи пути Цибарта и Аронштама не раз пересекутся, и дальше мы к этому еще будем возвращаться.
А.А. Цибарт закончил Лодзинское мануфактурно-промышленное училище в 1910 году (видимо, в связи со Школьной забастовкой год был пропущен). Училище давало квалификацию техника-механика – помощника инженера. С этим выпускник получал право «на поступление в высшие учебные заведения по соответственной специальности» (стало быть, ни по какой другой).

Здание Лодзинского мануфактурно-промышленного училища. Современный вид.
Улица Стефана Жеромского, 115 (бывшая ул. Панская, 115). Объединение послегимназиальных школ № 19 им. Кароля Войтылы
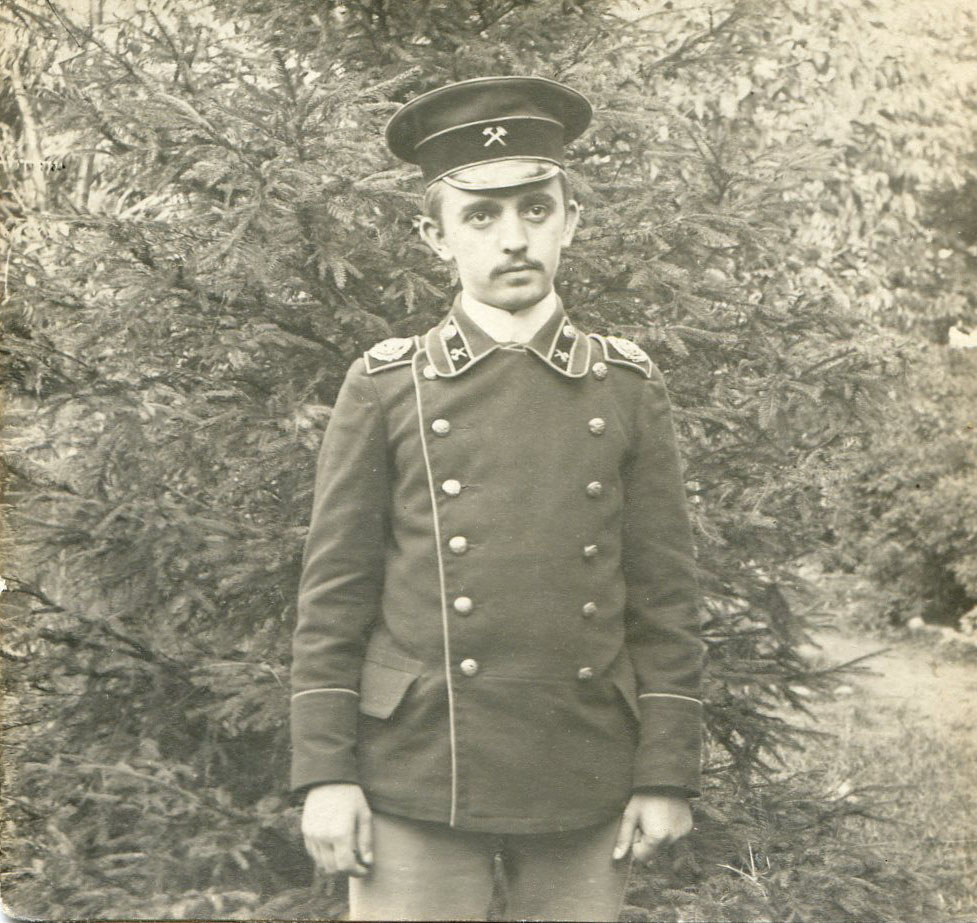
Студент ИМТУ Адольф Цибарт. 1910 г.
Сад ИМТУ – курдонер Слободского дворца
В августе 1910 г. А.А. «приехал из далекой Польши в Москву, чтобы учиться в самом лучшем учебном заведении» (из письма к дочери 1945 г.); но какая характерная для А.А. фраза! «...Я поехал в далекую Москву учиться с 5 рублями денег в кармане. Помню, что все таки мама напрягла все финансы и я поехал не как нибудь, а во II классе!» (письмо 1944 г.). «Выдержал конкурсные экзамены» (математика, физика, русский язык) – упоминание об этом в автобиографии А.А. (как и других его сверстников) имеет тот смысл, что «проверочные испытания» в вузах того времени превращались в конкурсные далеко не всегда – и поступил на механический факультет Императорского Московского технического училища.
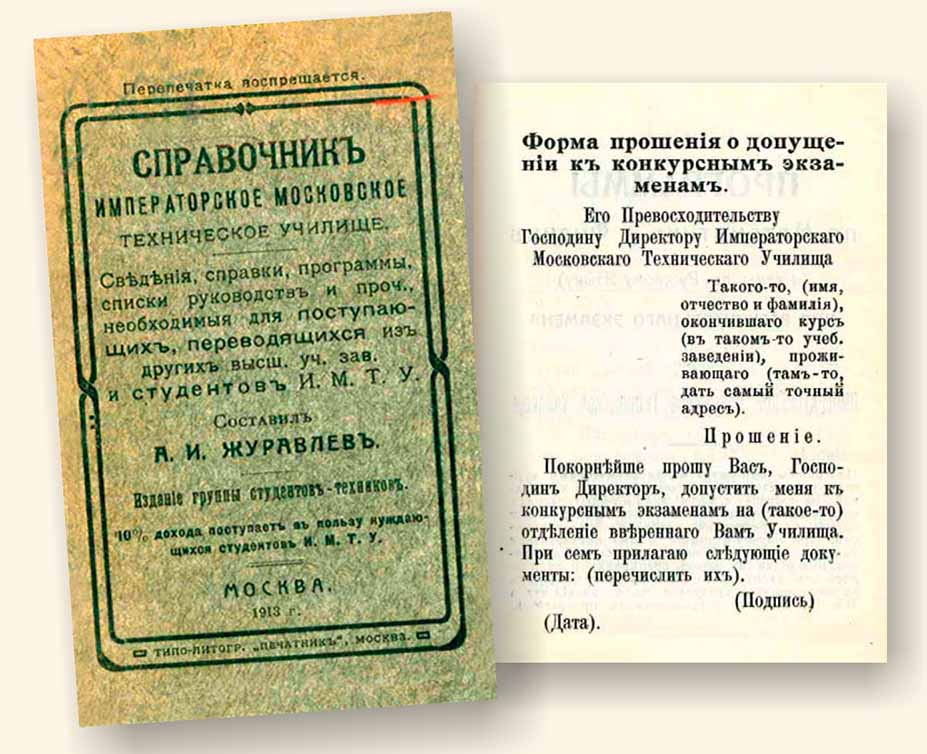
«Желающие поступить в студенты Училища ... подают прошения на имя Директора ... не позже начала августа, с приложением подлинных документов о рождении, звании (происхождении), полученном образовании, о приписке к призывному участку по отбыванию воинской повинности и свидетельства о благонадежности от местной администрации, засвидетельствованных копий с их документов, четырех фотографических снимков с собственноручным обозначением на сих снимках звания, имени, отчества и фамилии просителя и с засвидетельствованием его подписи. В прошении должно быть указано избираемое просителем о т д е л е н и е Училища» (Журавлев, Справочник...). Этих материалов, увы, нам найти не удалось.
Программы по физике и математике (алгебре, геометрии с задачами на построение, тригонометрии) можно найти, например, в справочнике для поступающих в ИМТУ в 1913-м году (см. Журавлев, Справочник...). Экзамен по русскому языку представлял из себя сочинение на заданную тему; литературных тем не было, т.к. в технических средних учебных заведениях литература и не преподавалась, а были, в 1907–1912 гг., такие: «Значение науки в жизни отдельных людей и целых народов»; «Труд подневольный и труд свободный»; «Какие открытия и изобретения наиболее способствовали успехам всемирной культуры?» (там же). Сочинение должно было уместиться в 1-2 листа, т.к. будущий инженер должен был уметь выражать свои мысли предельно сжато, и – что особенно примечательно ввиду послереволюционных десятилетий, когда неграмотность поступавших и заканчивавших вузы стала ужасающей – максимум две грамматические ошибки означали «неуд». Именно на экзамене по русскому языку «среза́лись» большинство поступавших в вузы – 27 процентов поступавших (см. журнал Высшая техническая школа 1935 № 5, проф. Е.Н. Медынский, Высшее техническое и сел.-хоз. образование в дореволюционной России, ч. 2). А ведь в семье А.А. общались на немецком языке, и после 1905-го года А.А. учился на польском, своем втором родном языке.
Впрочем, «неуд» в то время еще не обязательно значил провал. «Согласно разъяснению Министерства Народного Просвещения, неудовлетворительный балл не лишает конкурента права продолжать испытания и при надлежащей сумме баллов быть даже принятым в училище» (Журавлев, справочник...).
В 1910-х годах в ИМТУ проходили по конкурсу 40-42% поступающих; в 1909-м году, на который мог ориентироваться Цибарт, из 719 подавших «прошение о приеме» на механическое отделение ИМТУ было принято по конкурсу, включая принятых «сверх комплекта», 314 человек, т.е. 43,7% (см. Обзор преподавания... за 1910-11 г.). Для того времени такой отбор, учитывая в т.ч. образовательный уровень поступавших, был весьма серьезным, «но, несмотря на это, отсев за время последующего обучения был очень велик. Из каждых трех-четырех студентов, поступивших на первый курс, оканчивал училище только один» (из книги сына и биографа профессора МВТУ А.Н. Шелеста, учившегося в ИМТУ в одно время с Цибартом). Так, в 1913/14 году из ИМТУ выбыло до окончания курса 654 студента, т.е. 24,5% всего состава. Надо сказать, большой отсев был вообще характерен для втузов того времени – он колебался от 13 до 25% ежегодно, – и ИМТУ, как видим, находилось в этом отношении на его верхней планке (см. ВТШ 1935 № 4, ч. 1, Медынский). Учиться «в самом лучшем учебном заведении» было действительно чрезвычайно трудно. Тогдашний директор ИМТУ А.П. Гавриленко отмечал «особенность условий, в которых находятся студенты Императорского Технического Училища, проистекающая из огромной трудности проходимой ими программы», «отделял студентов Технического Училища по огромности требуемой от них работы от других учебных заведений Москвы...» (см. Памяти Александра Павловича Гавриленко, Мастрюков).
Заметим, что студенты из «низших» сословий во втузах того времени и в частности в ИМТУ отнюдь не были редкостью – по крайней мере в ИМТУ в 1914-м году таких было более половины. В 1914-м году в ИМТУ в числе студентов дети «дворян и офицеров», лиц «духовного звания» и «почетных граждан и купечества» составляли вкупе 42,6% (19,7%, 2,6% и 20,3% соответственно), тогда как дети «мещан и цеховых» и «крестьян» – 49,7% (32% и 17,7%), т.е. последних было на 5,1% больше. Понятно, что рабочее или крестьянское звание поступавшего могло не вполне соответствовать фактическим занятиям его семьи. Что до национальных и вероисповедных меньшинств, к которым также относился А.А., то в 1913-м году русские и украинцы («православного вероисповедания») в ИМТУ составляли 78,5%; студентов «магометанского вероисповедания» (татар, тюрков, узбеков) было всего 5 на 2666 учащихся, евреев (в некоторые вузы их не принимали, в ИМТУ вакансии для евреев составляли 3%) было (все-таки) 3,9%, армян – 1,2% (см. ВТШ 1935 № 4, Медынский). Случай студента Цибарта попадал в оставшиеся 16,2%.
Зарабатывал молодой Цибарт на первых порах частными уроками и переводами с немецкого и французского. Затем он поступит репетитором в семью (весьма вероятно) преподавателя ИМТУ, будущего ректора МВТУ В.А. Ушкова, о чем будет рассказано в следующей рубрике.
Стоимость обучения составляла 75 рублей в год, и взнос в 40 рублей за первый семестр поступающим надо было оплачивать в любом случае. Так что минимум 40 рублей на учебу А.А. небогатая рабочая семья Цибарта все-таки накопила. «О 1-ом годе / несколько слов начинающим. / В начале каждого семестра открывается запись на практич. занятия, а потому, запасшись справкой о взносе денег за семестр, идите в деканскую (хим. корпус) и просите записать вас...» (Журавлев, Справочник...). Далее А.А. был от этой платы освобожден, «так как хорошо учился» (см. автобиография, ЦГАМ, РГАСПИ). Это «хорошо учился» – существенно. «Одна только бедность ученика» признавалась недостаточной для освобождения от оплаты учебы – еще по «Уставу Общества Вспомоществования нуждающимся воспитанникам ИМТУ» 1888-го года необходимо было проявить также «способность к учению, прилежание и хорошее поведение» (см. Устав...; Краткий исторический очерк...). Когда от этого правила отступали, само студенчество обращало внимание на несправедливость «непринятия во внимание успешности», и ко времени учебы Цибарта «все просители стали делиться по категориям, сначала по степени нуждаемости, а затем все, отнесенные к данной категории студенты, подразделялись на группы по количеству полученных ими в течение года зачетов» (см. Краткий исторический очерк...). «Отличнейшие по успехам из недостаточных студентов Училища, русские подданные, могут получать стипендии или могут быть освобождаемы от взноса платы за учение»; «При распределении стипендий и освобождений от платы преимущество дается тем студентам, которые наиболее продвинулись вперед по учебному плану и оказали наилучшие успехи» (Обзор преподавания ИМТУ...). К 1 января 1911 г. при общем числе студентов в 2893 человека были освобождены от платы за обучение, как и обычно, всего 50, и в том числе, как это запротоколировано в «Кратком отчете о состоянии Императорского Московского Технического Училища за 1911 г.», – А.А. Цибарт. В дальнейшем в списках освобожденных от оплаты имени Цибарта не встречается – видимо потому, что он, как только что упоминалось, поступил репетитором в семью преподавателя ИМТУ на достаточно хороших условиях (претендующий на эту льготу студент обязан был представить «несомненные доказательства своей материальной необеспеченности»).
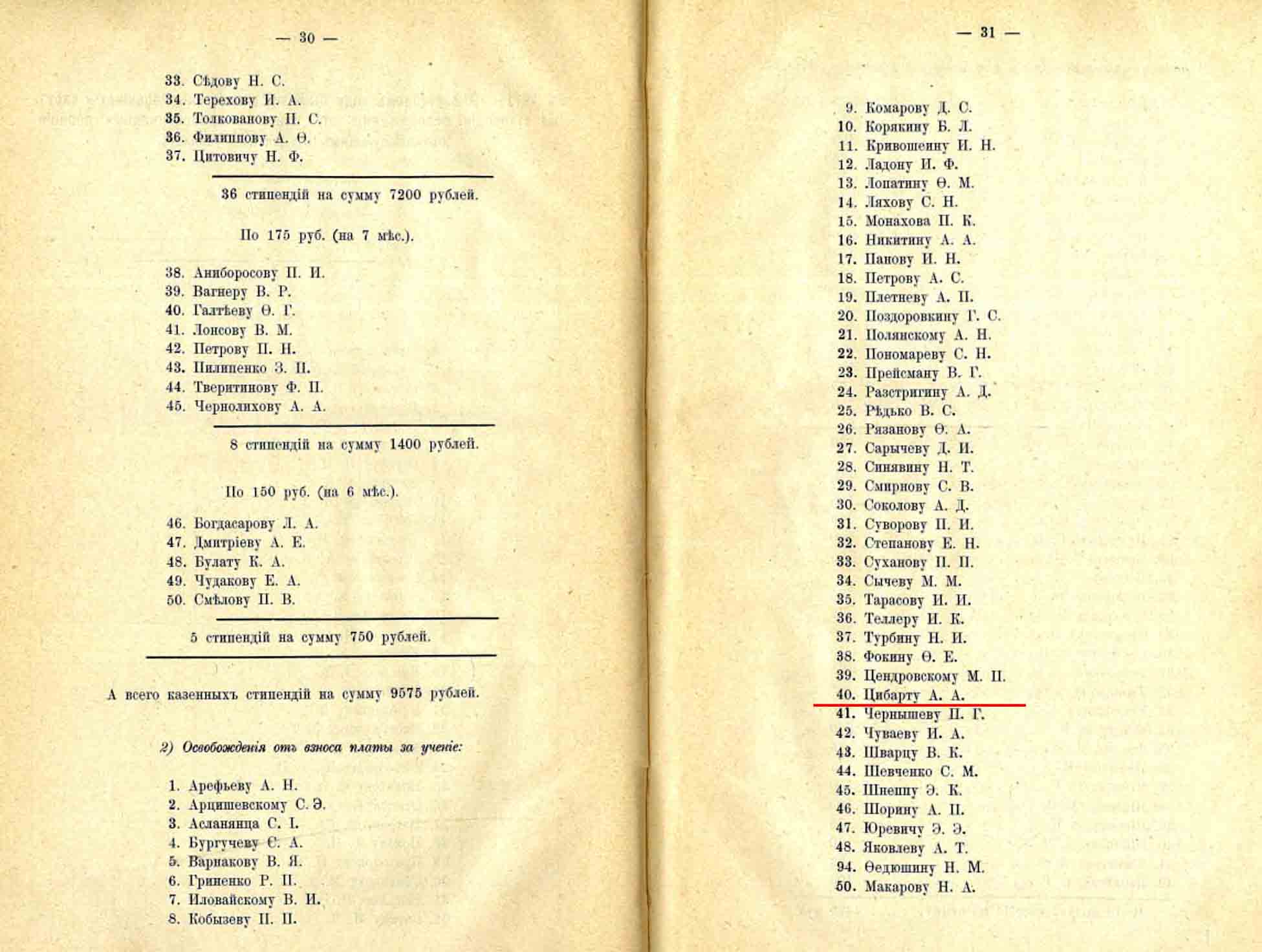
«Краткий отчет о состоянии Императорского Московского Технического Училища за 1911 г.»:
«В 1911–1912 учебном году были предоставлены казенные и частные стипендии, освобождения от платы и единовременные пособия
нижеследующим студентам училища. ...»
Слова о «количестве полученных студентом зачетов» нуждаются в пояснении. При нынешней «курсовой» системе обучения число зачетов, не равное требуемому, значило бы только наличие «хвостов» – то есть неуспеваемость. Но в ИМТУ с 1907 года действовала иная, «предметная» система (о ней дальше будет рассказано подробнее), при которой, кроме обязательных, студент самостоятельно выбирал предметы для изучения, причем жесткости в сроках контрольных испытаний не было. «Учебный план разбухал различными предметами, и студентам приходилось сдавать более 60 зачетов»; «основная масса студенчества по предметной системе, в особенности первогодники, не привыкшие к самостоятельной работе, отставали и сдавали за год не более двух-трех предметов. Некоторые настолько отбивались от школы, что сдавали не более одного предмета, а то и вовсе ничего не сдавали» (Юбилейный сборник, Нехамкин). Влиться в эту «основную массу студенчества» первогодник Цибарт позволить себе не мог бы.
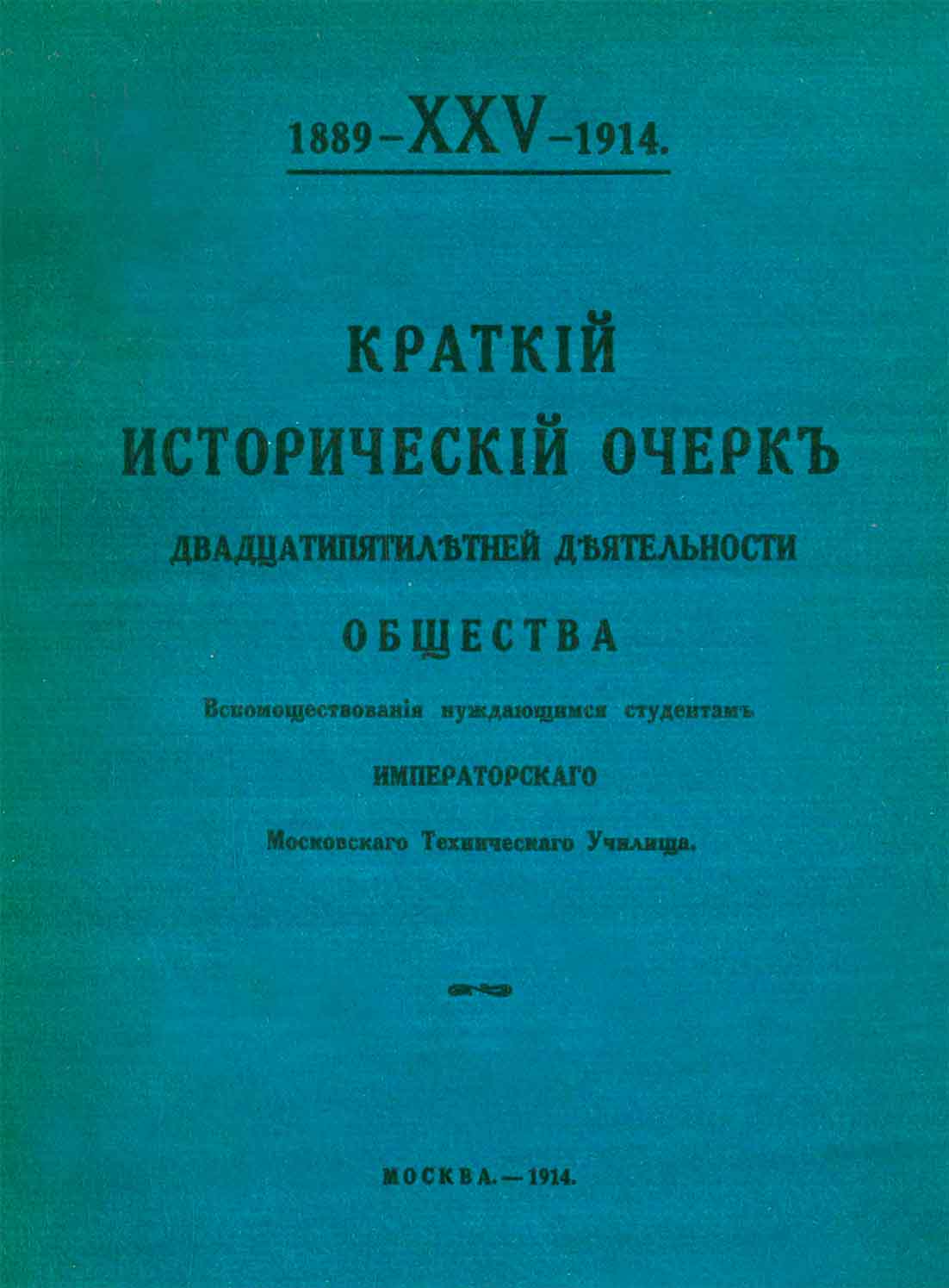
Быт студента Цибарта точно воспроизводит ту общую картину, которую можно себе составить по «Краткому историческому очерку двадцатипятилетней деятельности Общества Вспомоществования нуждающимся студентам Императорского Московского Технического Училища», изданному в 1914-м году. Если, по свидетельству авторов Очерка, «в первые годы существования Общество было в состоянии только немного успокоить совесть лиц, близко видевших студенческую нужду, но отнюдь не уменьшить самую нужду», то ко времени учебы Цибарта его помощь хоть и оставалась все еще далеко не достаточной, но все-таки стала существенной.
Цель учреждения «Общества Вспомоществования...» конечно, очевидна. Все же приведем здесь слова из речи его председателя В.Ф. Листа в 1914-м году: «Скольких Ломоносовых, скольких ученых, с мировой может-быть, славой, наше училище дало бы нашей дорогой родине благодаря тому, что среди нуждающихся учащихся находятся таланты, а может-быть и гении, которые гибнут потому, что острая нужда заставляет их по целым дням рыскать по заработкам, вместо того, чтобы отдаться всецело основательному изучению науки». В речи Листа, как и других материалах Очерка, множество интересных подробностей, но излагать их здесь не место; кончается же она так: «Дорогому же нам Императорскому Техническому Училищу высказываю сердечнейшие пожелания жизни, роста и процветания на бесконечные времена на пользу нашей любимой родине» (см. Краткий исторический очерк...).
Между прочим. «Студенты поголоднее развешивали билетиков по Москве сколько вам угодно. Дескать, делаем конкурсные проекты и выполняем всякие чертежные работы» (из рассказа А.И. Гусева, мастера чертежно-модельной мастерской МММИ им. Баумана – «За промышленные кадры» 1934 № 1). Имеются в виду проекты и работы, выполняемые «голодными» студентами за обеспеченных и ленивых. При этом среди студенческих обществ существовало в Училище «Бюро Труда Студентов И.Т.У.», имевшее целью «содействие своим членам в приискании занятий», а также в частности «Кружок Взаимопомощи Судентов-Поляков И.Т.У.» (имел ли к нему какое-либо отношение студент Цибарт, неизвестно).
Кроме сего, скажем к слову, работала «Студенческая театральная касса» – «для студентов, желающих посещать московские театры, покупается театральною кассою определенное число билетов, правила пользования которыми вывешены в помещении кассы. Билеты можно получать в оба Императорские театра – Большой (опера) и Малый (драма), Художественный (драма), Зимина (опера), Незлобина (драма) и Корша (драма)» (Журавлев, Справочник...).
Итак. Ни о каких московских родственниках или знакомых Цибартов, у которых А.А. мог бы остановиться, семье ничего не известно.
Обосновывая (в 1895-м году) необходимость строительства училищного студенческого общежития, товарищ председателя Общества вспомоществования неимущим студентам ИМТУ (тогда В.А. Морозовой) Н.П. Зимин, в числе прочего, говорит: «Местность, в которой расположено Императорское Техническое Училище, не представляет собою удобств для приходящих учащихся. Местность эта, как известно, есть окраина города, на которой нет домов, приспособленных для жилья и питания учащихся. Благодаря этому большинство их размещается по частным квартирам, устроенным неудобно и в санитарном отношении неудовлетворительно. Многие живут прямо в углах, в холоде и сырости. Правда, углы эти дешевы, но если принять во внимание, что в них страдает молодой организм, что они воспитывают чахлое молодое поколение, – то эта кажущаяся дешевая жизнь окажется жизнью очень дорогой. / Хотя и трудно, но еще возможно находить учащимся квартиры; несравненно же большие затруднения представляет получение стола, потому что далеко не каждая семья принимает к себе квартирантов, а если и принимает, то больше тяготится нахлебниками, чем простыми жильцами.» «Представим себе сначала такое положение: один из студентов Училища, студентов большей частию бедных, не имея возможности нанять для себя приличное и мало-мальски подходяшее помещение вблизи Училища, вынужден приютиться где-нибудь, в тесной комнате частной квартиры, в обстановке, которая не дает ему решительно никаких удобств для занятий. / Проработав день в училище, возвращается молодой человек в свою квартиру. Ему надо бы сосредоточиться в самом себе, подумать о том, что он слышал, чему его учили, надо поработать, – а тут за перегородкой шум и гам: дерется пьяный хозяин, бушует унимающая его хозяйка, ребятишки плачут. Какое тут занятие пойдет на ум. Так и хочется бежать куда-нибудь подальше из этого неприглядного угла, бежать от этой обстановки. / Сколько молодых людей, благодаря подобной обстановке их жизни, оставляют Училище, не окончив в нем курс, – приходят в тяжелое положение, а иногда и гибнут безвозвратно...» (Об устройстве общежития...)
Построенное, наконец, неимоверными усилиями Общества Вспомоществования к 1903-му году (на фронтоне общежития указана дата «1902»), «общежитие для неимущих студентов» ИМТУ, на 200 мест, справило «торжество открытия» 22 октября 1904 года (NB: в отчете об этом событии в «Кратком историческом очерке...» на стр. 40 опечатка: ошибочно указан год «1914») и «уже осенью 1906 года Общежитие не только было заселено сполна, но даже записывались кандидаты на комнаты» (Краткий исторический очерк...). Вопреки ожиданиям студентов общежитие оказалось – как, впрочем, это было и в 1930-х гг. – платным (хотя и «плата за номера была назначена ниже той нормы, при которой Общежитие могло сводить концы с концами»). Скорее, новоиспеченный студент Цибарт поселился не в общежитии, а снимал – или для него снимало Общество Вспомоществования – какой-то угол: с 1907-го года расходы Общества именно на квартиры для студентов выросли в десятки раз. «Ведь только двум стам студентам мы можем дать приют; большая же часть наших нуждающихся будущих товарищей принуждена ютиться по комнатам, питаться в кухмистерских...» – Об этом времени как будто свидетельствуют две дневниковые записи А.А. 1936-го года. 12 февраля, говоря о своем разочаровании в отношениях с близкими, он упоминает: «Я один сегодня. Был у Лид<ии> Артем<овны>. Гнет. Иконы живут [?] веков давит на психику. Сатрики [?] старинные, манеры древние от всего веет спертым душным консерватизмом. Точка на этом». И 17 декабря: «Вечером при лекции Ерманского [в МММИ им. Баумана] <беседа> с Лид<ией> Ар<темовной>». Странные визиты, непонятная связь для деятеля-коммуниста со столь непохожим на него человеком, но вполне естественные, если, скажем, они были данью памяти давнишним отношениям бедного студента и доброй домовладелицы, из числа сотрудников еще бывшего ИМТУ.
Также и стены общежития ИМТУ для студента Цибарта скорее всего были не чужими. Во всяком случае, студенческая столовая при общежитии, расположенном напротив главного здания ИМТУ (на углу Коровьего брода и Бригадирского переулка; здание сохранилось), была общей – рассчитанной на 300 мест. Столовая при общежитии «открыта в учебные дни от 12 ½ до 5 ½ час. дня, в праздничные дни от 1 до 4 час. дня. Каждое кушанье расценено, а потому можно обедать и дорого и дешево» (Журавлев, Справочник...).
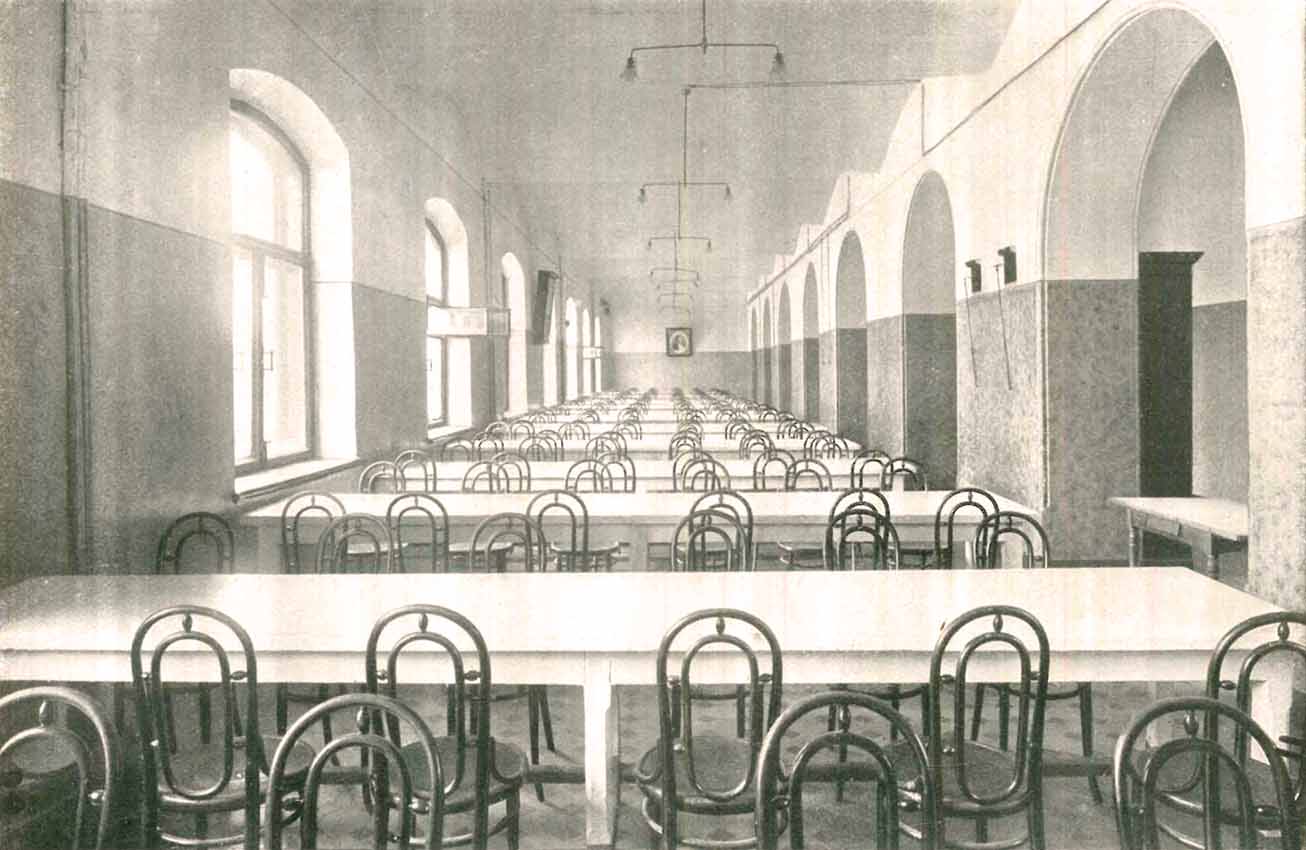
Столовая при общежитии для студентов ИМТУ.
В торце помещения – портрет первого председателя Общества вспомоществования студентам ИМТУ
Варвары Алексеевны Морозовой
Нормальная (скорее рекомендуемая) продолжительность прохождения курса в ИМТУ составляла 5 лет, но допускался и меньший и больший срок, с 1911 г., конца I курса Цибарта, максимум составлял 8 лет; от этого правила, по обстоятельствам, отступали, и срок пребывания студентов во втузе доходил и до 12 лет. Каким был средний срок? По словам наркома просвещения Луначарского, сказанным им в 1928-м году (см. Луначарский, Правда), «Наркомпрос ... установил, что в довоенное [т.е. дореволюционное] время, когда студенты были почти богаты, когда разрухи во втузах было несомненно меньше, когда профессора и преподаватели получали в три раза большее жалованье, – среднее прохождение курса было все же семилетним». – Цибарт будет переходить с курса на курс каждый год.
(Трудно не обратить внимание на то, что довольно неустроенные, как мы видели, студенты царского времени были в сравнении с советскими студентами 1920–30-х гг. «почти богаты», – нарком, конечно, не стал бы в этом пункте преувеличивать.)
Специализация на механическом факультете в ИМТУ начиналась на III курсе: это были специальности «тепловая технология», «инженерно-строительная», «механическая», «электротехническая» и «гидротехническая». Больше всего студентов специализировались по тепловой технологии (Высшая техническая школа 1935 № 4, Медынский; Обзор преподавания... и др.). Есть основания полагать, что Цибарт во время учебы был членом правления студенческого кружка теплотехников (см. об этом далее). И уже по тому, что в Магаданском лагере в 1938–1946 гг. А.А. работал инженером-теплотехником и называет своей специальностью теплотехнику, можно судить, что он обучался в ИМТУ именно по этой специальности.
Личный состав
Императорского Московского Технического Училища
Директор – Гавриленко А.П. / Помощник Директора – Астров А.И. / Секретарь Учебного Комитета – Никитинский А.Я. / Декан Механического Отделения – Чарновский Н.Ф. / Декан Химического Отделения – Чичибабин А.Е. / Секретарь Механического Отделения – Кифер Л.Г. / Секретарь Химического Отделения – Шустов А.Н.
Заслуженные Профессоры И.М.Т.У.
Жуковский Николай Егорович. / Никитинский Яков Яковлевич. / Петров Петр Петрович. / Федоров Семен Андреевич. / Худяков Петр Кондратьевич.
Профессоры:
Гавриленко Александр Павлович. / Гриневецкий Василий Игнатьевич. / Лазарев Петр Петрович. / Прокунин Михаил Павлович. / Сидоров Анатолий Иванович. / Чичибабин Алексей Евгеньевич.
Адъюнкт-Профессоры:
Астров Александр Иванович. / Кузнецов Александр Васильевич. / Ланговой Сергей Петрович. / Мерцалов Николай Иванович. / Шарвин Василий Васильевич. / Шилов Николай Александрович.
Преподаватели:
Андреев Константин Алексеевич. / Арбатский Иван Владимирович. / Артари Александр Петрович. / Болотов Евгений Александрович. / Бочвар Анатолий Михайлович. / Бриллинг Николай Робертович. / Бриткин Алексей Сергеевич. / Бубекин Борис Михайлович. / Бычков Владимир Игнатьевич. / Васильев Леонид Осипович. / Васильев Николай Алексеевич. / Величковский Анатолий Перфирьевич. / Вессель Александр Карлович. / Виноградов Дмитрий Иванович. / Волков Александр Александрович. / Гандурин Александр Лаврентьевич. / Фон-Гартман Александр Николаевич. / Герасимов Дмитрий Григорьевич. / Герке Федор Карлович. / Гетье Александр Александрович. / Гольдштейн Иосиф Маркович. / Горбенко Виктор Моисеевич. / Горский Константин Николаевич. / Грейфе Эрнест Генрихович. / Григорьев Иван Кондратьевич. / Долгов Александр Николаевич. / Дуров Александр Николаевич. / Жеребов Леонид Петрович. / Залесский Василий Герасимович. / Залесский Иосиф Петрович. / Зворыкин Владимир Васильевич. / Зернов Алексей Алексеевич. / Зернов Борис Сергеевич. / Зубарев Дмитрий Васильевич. / Иванов Александр Павлович. / Иванов Алексей Иванович. / Игнатов Константин Михайлович. / Калинников Иван Андреевич. / Кашинский Аркадий Александрович. / Кестнер Евгений Генрихович. / Кирш Карл Вильгельмович. / Кифер Людвиг Генрихович. / Красовский Федосий Николаевич. / Кременецкий Андрей Никитич. / Круг Карл Адольфович. / Куколевский Иван Иванович. / Курдюков Николай Сильвестрович. / Курсанов Николай Иванович. / Кустов Иван Сергеевич. / Ламакин Александр Андреевич. / Ларионов Герасим Илларионович. / Лахтин Николай Козьмич. / Лукин Матвей Григорьевич. / Мазинг Евгений Карлович. / Мейер Павел Константинович. / Михалевский Иван Елеазарович. / Мозер Александр Эдмундович. / Новицкий Александр Васильевич. / Отт Альберт Альбертович. / Павлов Владимир Евграфович. / Пацуков Николай Григорьевич. / Пафнутьев Николай Капитонович. / Пешель Оскар Адольфович. / Писарев Владимир Петрович. / Поливанов Михаил Константинович. / Поляков Алексей Петрович. / Поляков Рувим Вениаминович. / Прокофьев Александр Васильевич. / Прокофьев Иван Петрович. / Пудовкин Александр Илларионович. / Раковский Евгений Владимирович. / Розанов Павел Петрович. / Ронжин Николай Васильевич. / Румянцев Василий Алексеевич. / Савков Евгений Иванович. / Сидоренко Константин Викторович. / Смирнов Владимир Александрович. / Смирнов Леонид Петрович. / Соколов Владимир Дмитриевич. / Солонина Борис Андреевич. / Ставровский Александр Иванович. / Суреньянц Яков Суренович. / Сушкин Николай Иванович. / Тищенко Иван Александрович. / Угримов Борис Иванович. / Ушков Василий Афанасьевич. / Фортунатов Алексей Федорович. / Церевитинов Федор Васильевич. / Цируль Сергей Мартынович. / Чаплин Владимир Михайлович. / Чарновский Николай Францевич. / Чиликин Николай Михайлович. / Шварцман Николай Николаевич. / Швецов Борис Сергеевич. / Шустов Александр Николаевич. / Щапов Николай Михайлович. / Ясинский Всеволод Иванович.
(Справочник Императорское Московское Техническое Училище.
Сведения, справки, программы, списки руководств и проч., необходимые для поступающих,
переводящихся из других высш. уч. зав. и студентов И.М.Т.У.
Составил А.И. Журавлев. Издание группы студентов-техников. М., 1913)

Схема расположения зданий ИМТУ в ХХ-м веке
(только по ул. Коровий брод)


Главное здание ИМТУ, механический факультет – Слободской дворец (слева, в основном закрыт деревьями);
справа, по другую сторону улицы – здание химической лаборатории
(ул. Коровий Брод, с 1912 г. – ул. Техническая, после 1917 г. прежнее название "Коровий брод" возвращается; с 1933 г. – 2-я Бауманская).
В перспективе – здание лаборатории по механической технологии волокнистых веществ
(угол ул. Коровий брод/Техническая/2-я Бауманская и Спиридоновского/Технического пер.)
и общежитие ИМТУ для неимущих студентов (угол ул. Коровий брод/Техническая и Бригадирского пер.)

Главный корпус ИМТУ. Открытка 1900-х гг. из собрания М. Комолова.
Здание сохраняет значительные фрагменты Слободского дворца и усадьбы сер. XVIII в.
Настоящий облик предопределили арх. Д.И. Жилярди и А.Г. Григорьев (1827–1932); Л.Н. Кекушев (надстройка двухэтажных частей здания, 1899)
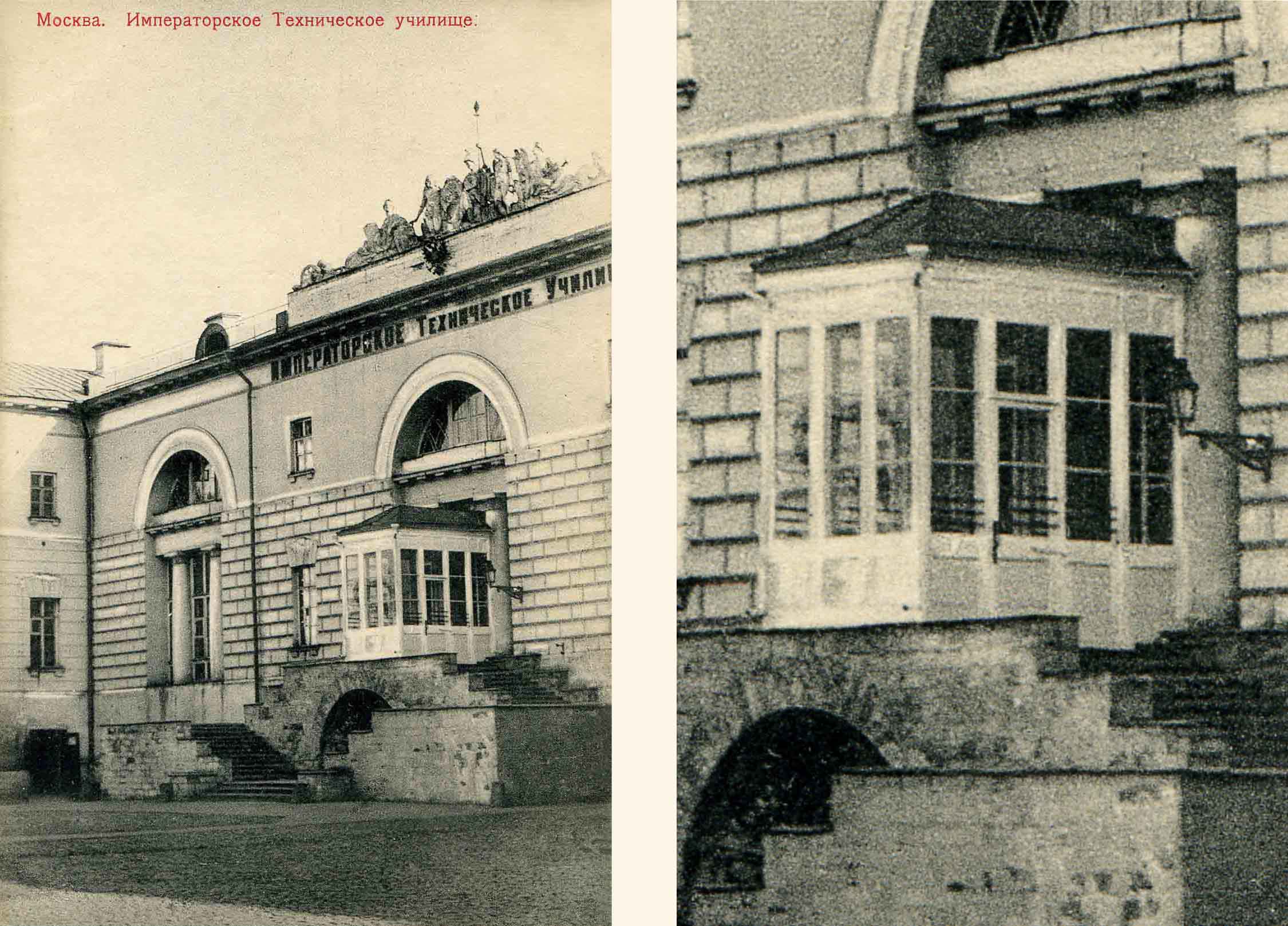
Главное здание ИМТУ, центральный вход. 1912 г. (Внешняя примета времени учебы Цибарта – пристроенный на крыльце тамбур)
Открытка из собрания М. Комолова

МВТУ им. Баумана, Слободской дворец. Центральная часть, парковый фасад
(верхний этаж в полуротонде – алтарная часть бывш. училищной церкви св. Магдалины; основной 2-й этаж в ней – окна актового зала)
Фото 1960-х гг.
Парковый фасад, в отличие от того, что видно на фото, еще не был оштукатурен.
Также и площадка с балюстрадой перед ротондой – поздняя, сер. ХХ в.

Интерьер церкви Св. Магдалины. Главное здание ИМТУ, верхний этаж, центр. часть
Открытка из собрания М. Комолова
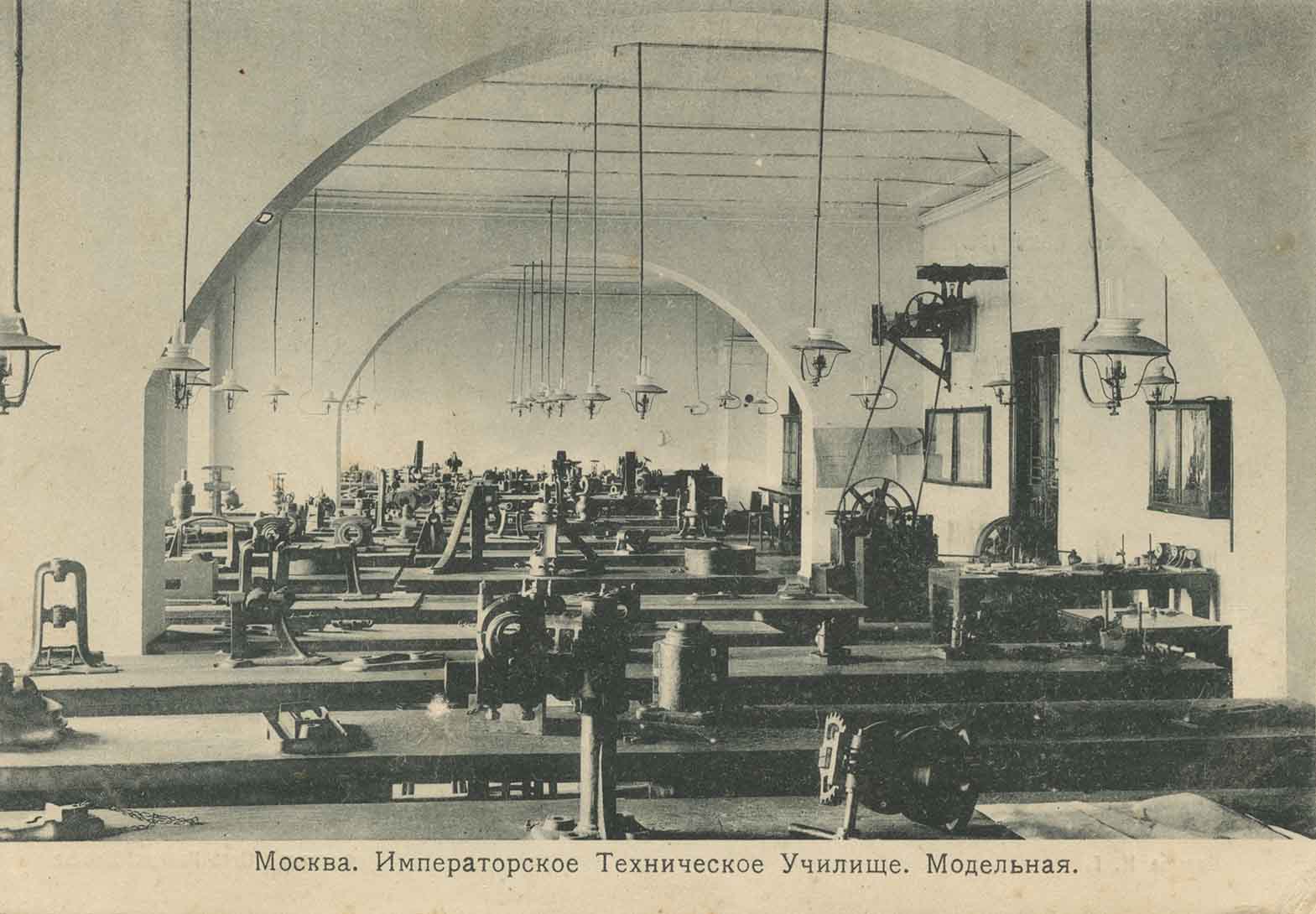
Императорское Московское техническое училище. Главное здание, северо-западное крыло, 2-й этаж. Модельная.
Открытка из собрания М. Комолова
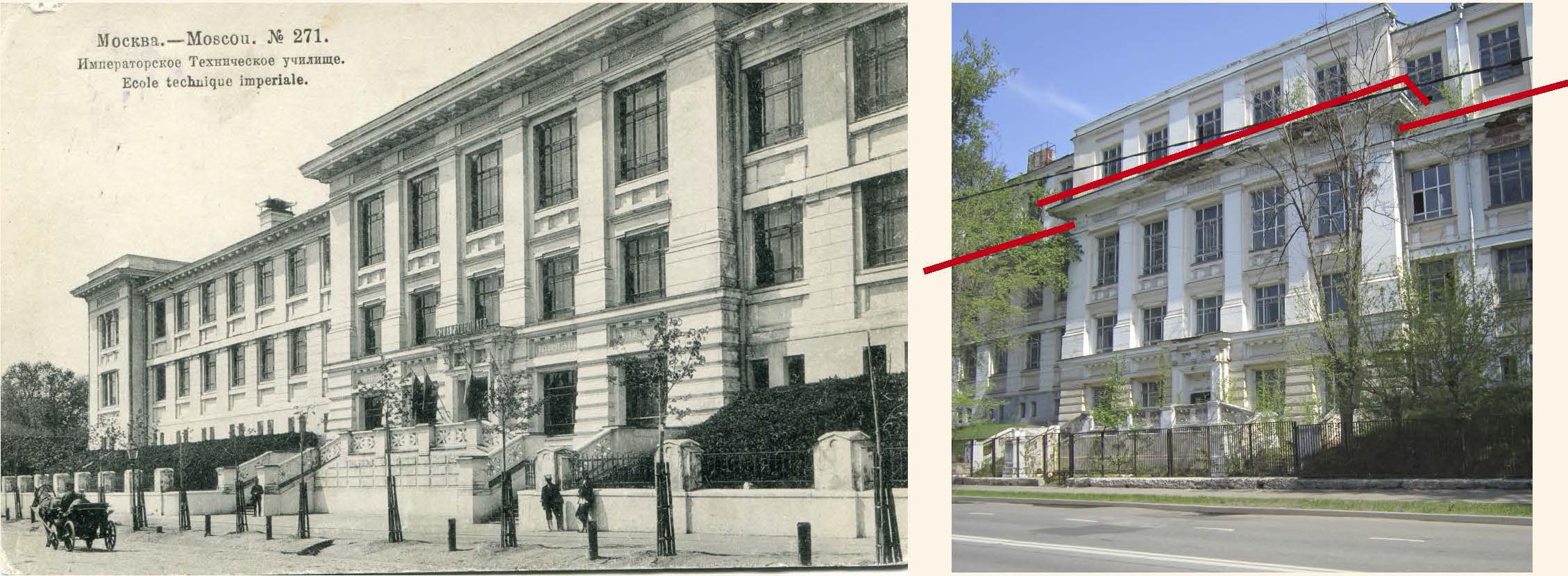
Здание химической лаборатории ИМТУ (Химико-технологического института). Открытка из собрания М. Комолова
(в советское время здание надстроено на этаж)
Арх. Л.Н. Кекушев (на фото 22 марта 1902 г. /см. Щапов/ здание уже полностью отстроено)

ИМТУ. Здание химико-технологического института. Химическая лаборатория.
Фото с сайта pastvu.com

ИМТУ. Здание физико-электротехнического института (напротив центр. части главного здания, со стороны Яузы)
Фото нач. XX в. (из статьи М.В. Нащокиной "Работы Льва Кекушева...")
Арх. Л.Н. Кекушев (1901)
(Здание снесено в 1950-х гг. в связи с реконструкцией МВТУ)


1. ИМТУ. Здание механического института (между главным зданием и Яузой). Фото с сайта pastvu.com
Арх. Л.Н. Кекушев (нач. 1900-х гг.)
2. ИМТУ. Портик здания механического института и здание физико-электротехнического института. Открытка из собрания М. Комолова
Арх. Л.Н. Кекушев (1901)
(Здания снесены в 1950-х гг. в связи с реконструкцией МВТУ)
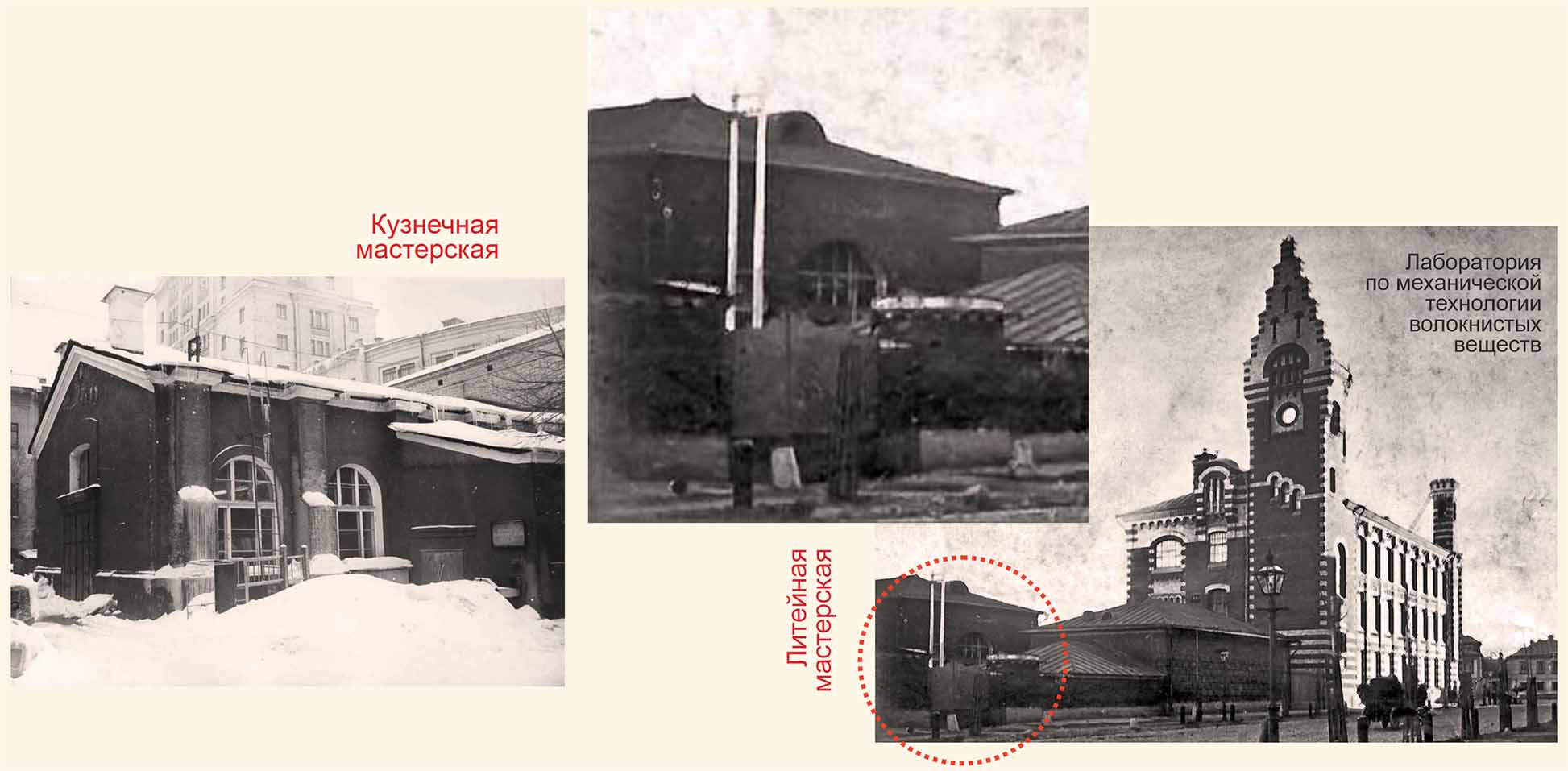
1. ИМТУ. Кузнечная мастерская (между главным зданием и механическим институтом). Фото 1985 г. с сайта pastvu.com
Постройка до 1860 г.
(Здание потеряло сводчатые перекрытия, были прорублены часть окон в нишах и т.д.)
2. ИМТУ. Чугунно-медная литейная мастерская. Фото с сайта pastvu.com
(Здание снесено в 2020-х гг.)

ИМТУ. Здание лаборатории по механической технологии волокнистых веществ, вид в 1912 г.
(ныне перестроено до неузнаваемости). Открытка из собрания М. Комолова
Архитектор не установлен. 1902

ИМТУ. Общежитие для нуждающихся студентов. Открытка из собрания М. Комолова
Арх. Л.Н. Кекушев, Л.О. Васильев (1902–1903)

Здание лаборатории по механической технологии волокнистых веществ и общежитие для студентов ИМТУ.
Слева на фото – угол главного здания и ограда ИМТУ.
Уменьш. фото с сайта vfi.ru

Дом Политехнического общества при ИМТУ в Малом Харитоньевском переулке.
Фото с сайта Radiovera
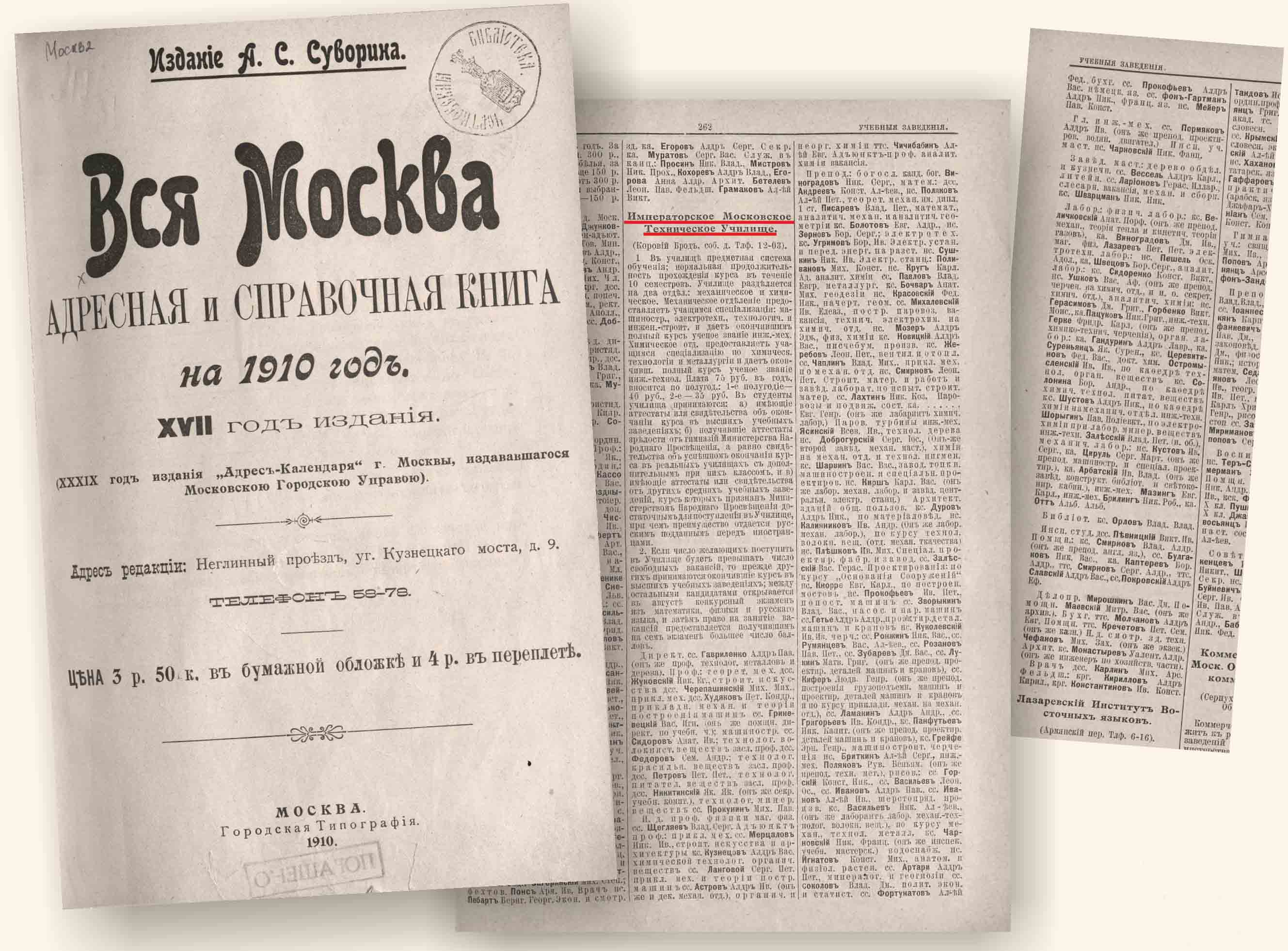
Адресная и справочная книга "Вся Москва". ИМТУ в 1910 году.
Сведения о программах и структуре училища, условиях оплаты, приема и др., список преподавателей и сотрудников
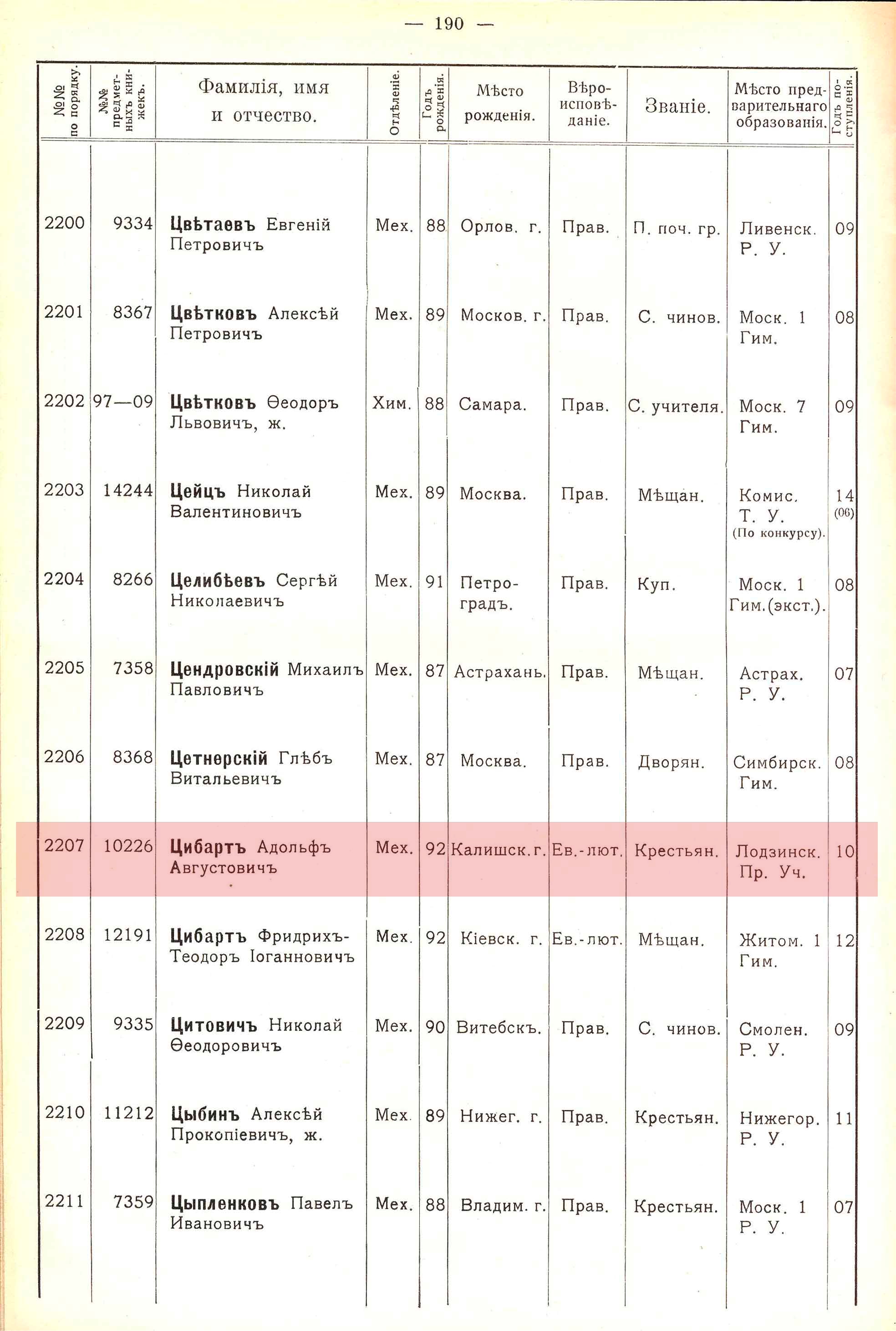
Лист из списка студентов ИМТУ за 1914/1915 уч. г.
Требуемые «способность к учению, прилежание и хорошее поведение» наверное были проявлены студентом Цибартом в полной мере, и вскоре его положение улучшилось. «Когда я приехал сюда без гроша в кармане, в Москву, – рассказывает А.А. на партсобрании в декабре 1937 года то, чего нет в его официальных автобиографиях, – я занимался только тем, что репетиторствовал, а потом поступил к Ушакову [Ушкову?], получал квартиру, все готовое и плюс 25 рублей в месяц и занимался с его детьми по всем предметам, в течение нескольких лет.»
Кем был этот столь значимый в МВТУ человек, названный в стенограмме партсобрания «Ушаковым», который 1) был настолько хорошо знаком сотрудникам втуза в 1937-м году, что Цибарту не приходится делать на этот счет никаких пояснений, 2) работал во втузе еще в предреволюционное время, 3) имел тогда несовершеннолетних детей, и был притом достаточно состоятелен, 4) не вызывал отторжения у партийной верхушки заведения, и 5) такой, о «связи» с которым заподозренному во «вредительстве» Цибарту можно было упоминать без опаски скомпрометировать его самого (т.е., видимо, к этому времени умерший)?
Подходящих «кандидатур» с такой фамилией в литературе об ИМТУ и МВТУ, как и в адресных книгах, обнаружить не удалось. Но «Ушаков» в тексте стенограммы – это вполне мог быть и «Ушков». Вообще неправильности в записях фамилий, обозначений и пр. в стенограммах дело обычное, причем в принятой в 1930-х гг. системе стенографии «а» в середине слова не записывалась (помечалась лишь черточкой) и, ввиду сравнительной редкости этой последней фамилии, при перепечатке записи легко могла быть «додумана» стенографисткой.
То есть, вероятно, пригласил студента Цибарта в свою семью репетитором не кто иной, как Василий Афанасьевич Ушков, один из заметнейших ученых и администраторов в истории ИМТУ–МВТУ.
В.А. Ушков (1871–1931) – как указывается в справочниках – специалист по технологии топлива и пирогенных производств. Кстати, он представитель видной и разветвленной купеческой династии, специализировавшейся на химической промышленности и имевшей тесные меценатские, научные и производственные связи с ИМТУ. – Длительное время по 1909 год В.А. Ушков находился в заграничных командировках от ИМТУ. В 1910 году, как раз во время поступления А.А., этот ученый – преподаватель черчения на химическом отделении ИМТУ, и.о. секретаря отделения аналитической химии (см. «Вся Москва»); «был избран преподавателем вновь введенного в план преподавания Химического Отделения Училища [курса] "Устройство топок и печей" и руководителем проектирования по этому предмету», «в 1912 году был избран кроме того преподавателем технологии топлива» (РГАЭ ф. 1884, оп. 27, д. 267, л. 6об, "Curriculum Vitae"). – В 1918 году В.А. – «сверхштатный экстраординарный профессор», и.о. ректора МВТУ; в 1919-м – 1920-х годах (с небольшим перерывом) – избранный ректор МВТУ (первый «советский» ректор); позже – проректор МВТУ по учебной части (см. РГАЭ; Коршунов; др. источники).
Все сходится как нельзя лучше, однако, как узнаём из личного дела В.А. Ушкова в наркомате Путей сообщения, где с августа 1918-го по июль 1919 года В.А. заведовал Отделом топлива при Экспериментальном институте, – по крайней мере до этого времени В.А. был холост и детей не имел (РГАЭ ... л. 1 и др.). Но нет ничего невозможного и в предположении, что у него в 1910-х годах могли находиться на воспитании не родные дети.
Рядом с памятником В.А. Ушкова на Ваганьковском кладбище (уч. 14), в одной ограде, находится крест с табличкой «Ушкова Анна Михайловна. 1894–1951». Это почти наверняка его жена, уже после 1919-го года. На скромной стеле выбита надпись «ПРОФЕССОР ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ УШКОВ 1871 – 1931», имелась и фотография, но не сохранилась – на ее месте овальное углубление в камне. (Благодарю за помощь О. Любчинову.)

Памятник проф. В.А. Ушкова. Ваганьковское кладбище
(Фото с сайта Pogost.Info)
К сожалению, фотографии Ушкова обнаружить не удается нигде. «Поразительно, но я не нашел фотографии одного из ректоров МВТУ, первого послереволюционного ректора – Василия Афанасьевича Ушкова. Так, оказывается, безжалостна история к своим сыновьям» (Коршунов [проректор МГТУ им. Баумана]).
В своей вводной статье к юбилейному сборнику 1933-го года «Сто лет МВТУ – МММИ» директор Цибарт упоминает о директорах ИМТУ, при которых учился, лишь по одному разу и только как о специалистах, в ряду прочих. Видимо, советскому директору надлежало отзываться о своих «царских» предшественниках «либо плохо, либо никак». Меж тем и Гавриленко и Гриневецкий были поистине выдающимися, если не сказать великими людьми. – Составлявший, по словам Н.Е. Жуковского, «славу Технического Училища» ученый, великолепный, чрезвычайно много сделавший для Училища администратор, самый чуткий педагог и исключительно достойный человек, А.П. Гавриленко был первым и единогласно (или «почти единогласно») избранным Учебным комитетом Училища директором ИМТУ (это стало возможным после царского указа 27 августа 1905 г., даровавшего вузам в т.ч. право выбирать руководителей). Затем этот ученый четырежды переизбирался на эту должность и оставался в ней вплоть до своей скоропостижной кончины (в возрасте 53 лет) 10 мая 1914 г. Смерть эта потрясла и коллег и – если не в первую очередь – студентов. В то время студент Цибарт заканчивал 4-й курс, шла экзаменационная сессия... О таком своем предшественнике, знакомом по личному опыту, директору Цибарту наверняка было, что рассказать. Но в статье А.А. находим лишь следующее. «Заслуга создания конструкторского направления и преподавания, машиностроения в Техническом училище (а тем самым постановка его в России) принадлежит проф. П.К. Худякову и его ближайшим сотрудникам в этом деле – проф. А.П. Гавриленко и А.И. Сидорову». И о В.И. Гриневецком: «Из Технического училища выросли целые научные школы, и его профессора сыграли исключительную роль в развитии отдельных наук: проф. Сидоров и проф. Худяков – в машиностроении; проф. Кирш и Гриневецкий – в теплотехнике; проф. Н.Е. Жуковский и его ученики Туполев и Архангельский – в авиации».
Однако в историческом очерке истории Училища, помещенном в том же сборнике, за авторством преподавателя «диалектического материализма» в Бауманском Г.А. Нехамкина (см. на сайте), об А.П. Гавриленко и В.И. Гриневецком говорится также и как о директорах. Причем, насколько это было возможно в отношении досоветских деятелей, доброжелательно. Если учесть обличения «травителей» Цибарта в 1937-м году, якобы «вскрытый» к тому времени «заядлый троцкист» Нехамкин во время подготовки юбилейного сборника особенно тесно общался с А.А. («Нехамкин троцкист, – обличает Цибарта П.М. Зернов, – он в 33 году буквально по пятам за тобой ходил»), – то можно думать, что под характеристиками Нехамкина, даваемыми им этим ученым, мог бы подписаться и сам Цибарт.
«Сильный и добрый»: А.П. Гавриленко
Итак, А.П. Гавриленко (по Нехамкину) «был буржуазный демократ, который не только тактично вел себя по отношению к студентам, но и пользовался у них авторитетом и даже покровительствовал их общественной деятельности, представляя собой полную противоположность прежней чиновничьей администрации. Но нужно сказать, что как Гавриленко, так и его преемники, стремились изгнать политику из училища». «Свое руководство училищем проф. Гавриленко, главным образом, направлял на изменение учебного строя, введение предметной системы [см. ниже] и частичной специализации. Самым деятельным помощником Гавриленко являлся проф. Гриневецкий, который, по сути дела, является автором предметной системы [в ИМТУ].»
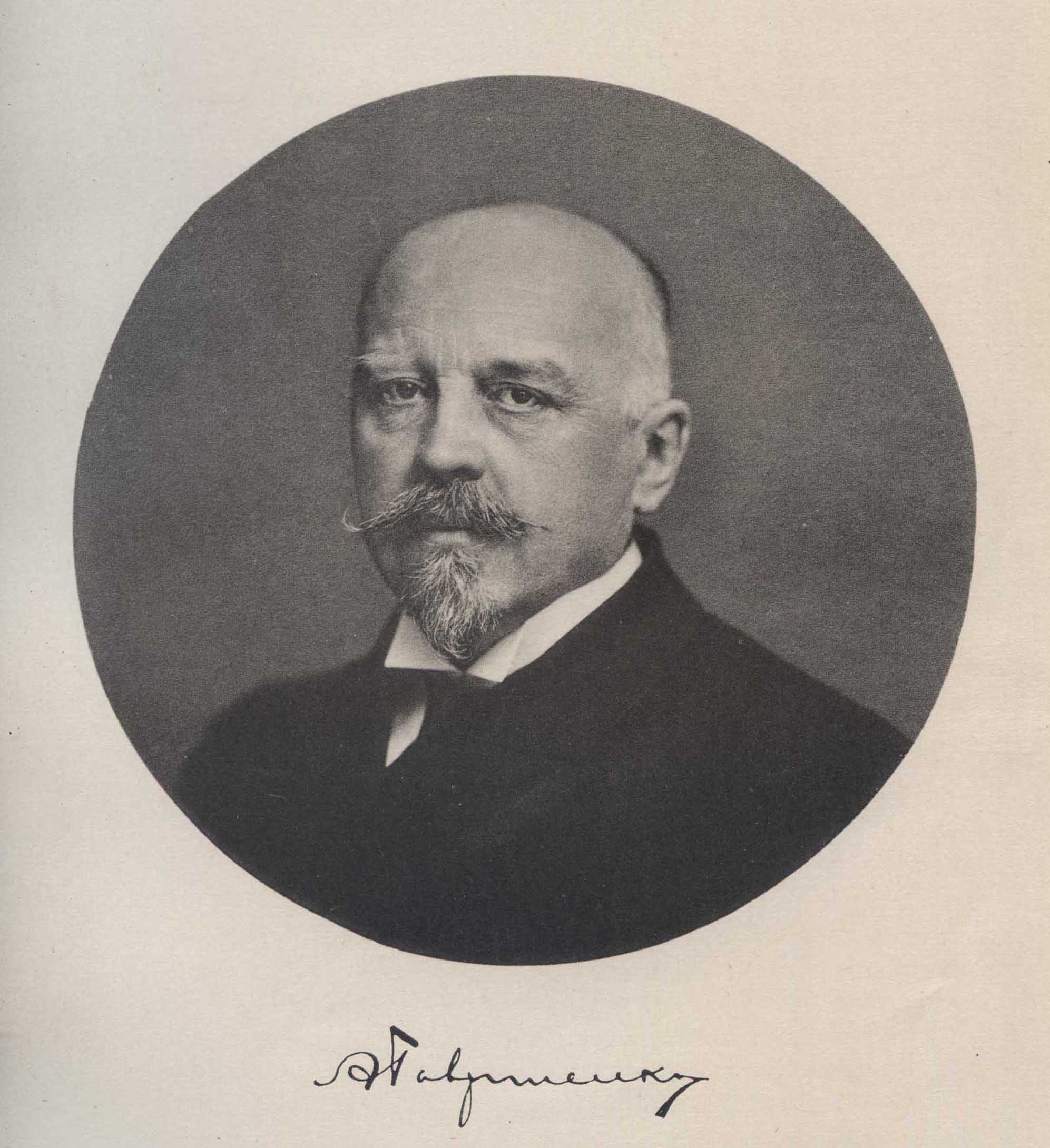
А.П. Гавриленко, профессор, первый избранный директор ИМТУ (7 сентября 1905 – 10 мая 1914).
(из книги "Памяти Александра Павловича Гавриленко", 1915)
|
...Спустя год после безвременной смерти предпоследнего директора ИМТУ, в 1915-м году Политехническое общество (председателем которого он также был) издало драгоценную для нас книгу – «Памяти Александра Павловича Гавриленко». Содержащая, кстати, множество по тому времени идеально воспроизведенных фотопортретов и других фотографий, – эта книга представляет собой прекрасный источник не только для воссоздания биографии и необычайно привлекательного образа этого ученого, но и для характеристики ИМТУ в те годы, его атмосферы, настроений, студенческого и преподавательского быта, многих исторических обстоятельств... Как это всегда и бывает, вопреки обывательским представлениям, настоящий специалист в любой частной сфере, в т.ч. и технической, оказывается в первую очередь глубоким, что называется понимающим человеком, – это касается не только самого́ А.П. Гавриленко (его в первую очередь), но и всего коллектива авторов посвященного его памяти сборника. Практически вся книга написана в лучшем, на наш взгляд, литературном стиле из возможных – стиле серьезных ученых, далеких от собственно литературы. (К сожалению, среди авторов сборника нет В.А. Ушкова – это дало бы возможность лучше узнать человека, с которым так тесно был знаком в то время студент Цибарт.) Книгу хочется цитировать едва не от первой до последней страницы – настолько точны и глубоки наблюдения и оценки мемуаристов, в правдивости которых уже в силу одного этого не приходится сомневаться, и настолько значительна, интересна и обаятельна личность А.П. Гавриленко. «Сильный и добрый» – вот, повидимому, самая краткая и емкая, и несомненно идущая от сердца, его характеристика (Памяти А.П. Гавриленко, Лист). Или, в сущности то же: «благородный, большой» (С.С.)... «Чуждый и тени рисовки, позы, важности, он делал свое дело, не обставляя его никаким внешним эффектом. Проявляя редкую самостоятельность и твердость, он держался всегда так, что никому из нуждавшихся в нем не было нужно считаться с ним самим, с его настроением или расположением, и, с другой стороны, имея с ним дело, было совершенно невозможно использовать и тень лести или угодничества. У него не было любимцев, но, зато, и не было, кажется, человека, из имевших с ним дело, которому он не сделал бы всего добра, которое мог сделать, и, даже больше, – которое он сделал, переходя предел возможного. / Его деловая атмосфера слагалась, во-первых, из огромного, непрерывного труда, во-вторых, из совершенного, деятельного доброжелательства к людям, нуждавшимся в нем» (Памяти А.П. Гавриленко, Мастрюков). «Кто шел к Александру Павловичу, тот знал, что встретит у него самое заботливое отношение к своей нужде, как бы мала она ни была, и получит именно тот ответ, который подсказывался не сухой буквой правила или закона, а требованиями жизни и сплетениями всевозможных обстоятельств, непредвиденных установленной формой» (Памяти А.П. Гавриленко, Ставровский). «Кем же был Александр Павлович в своей общественной деятельности? Он был работником в чистом значении этого слова, и вся его психология отвечала такому типу деятеля. Практическую цель, результат деятельности он ставил всегда выше формальных соображений, но шел к этому результату всегда прямыми путями. Трудно найти другого деятеля, который бы так последовательно направлялся в своих поступках тем началом, что "суббота" существует для человека, а не человек – для "субботы". Это основное свойство Александра Павловича придавало ему исключительную мягкость в отношениях с людьми и облегчало ему мирное и плодотворное разрешение иногда весьма запутанных и острых вопросов» (Памяти А.П. Гавриленко, Гриневецкий). Природную человечность и истинно либеральный настрой директора ИМТУ Гавриленко может характеризовать следующий эпизод, описанный в цитируемой здесь книге одним из свидетелей, секретарем Политехнического общества и лаборантом физической лаборатории ИМТУ, инженером-механиком Дм. Ив. Виноградовым, и не один раз упоминавшийся в литературе об ИМТУ. Поместим его описание здесь вместе с комментариями автора. «Я вспоминаю день похорон Баумана. Группа преподавателей, в том числе и я, смотрели вместе с Александром Павловичем из окна на двор. Двор был залит огромной толпою; гирлянды, флаги, плакаты... Все были тревожны, только Александр Павлович сохранял спокойствие. И вот, – как сейчас себе это представляю, – бледный и взволнованный подошел к Александру Павловичу смотритель зданий и сказал, что "вывешивают флаги неподходящего, красного цвета. Что делать? Снимали их, опять вывешивают, и ясно, что хотят их защищать". Александр Павлович совершенно невозмутимо ответил приблизительно следующее: "Что же вы думаете, государственный строй России изменится что ли от красной тряпки на нашем крыльце?" Эти спокойные, может быть, резкие слова сразу изменили настроение. Конечно, это пустяк, но такие пустяки иногда кончались кровью. По моему, в этом эпизоде Александр Павлович обрисовался весь, с его ясным умом, расположением к людям, готовностью взять на себя ответственность, полным пренебрежением к форме». Также, в тот день, Александр Павлович распорядился не выдавать властям тело убитого во время демонстрации Н.Э. Баумана, перенесенное студентами в актовый зал ИМТУ (точнее, смертельно раненый Бауман скончался уже в стенах ИМТУ); просил московского генерал-губернатора о том, чтобы по пути похоронной процессии полиция и войска отсутствовали... «Это был уважаемый профессор и интеллигент в том высоком понимании, какое оставили нам произведения А.П. Чехова, – глубоко порядочный, деликатный, бескорыстный. По словам его сына, Бориса Александровича, он не принадлежал ни к каким партиям – но ведь всегда русская интеллигенция сочувствовала революционерам!» (см. Анцупова). (По другим сведениям – см. Памяти А.П. Гавриленко, Угримов, – «Александр Павлович был одним из учредителей московской группы конституционно-демократической партии» и, при своем неизменном уважении к чужим взглядам, в т.ч. и крайне левым или правым, оставался «верным до самой смерти партийному знамени». Правы и Угримов, и Б.А. – слова «партийное знамя» не совсем подходят к случаю Гавриленко.) Вряд ли все-таки за этими поступками А.П. (в отношении похорон Баумана) стояло однозначное «сочувствие революционерам». Скорее, он ждал от властей проявления тех свойств терпимости и великодушия, которыми в высшей степени обладал сам. «Политика не должна быть в школе, ни с той, ни с другой стороны» – так сформулировал свое убеждение А.П. (см.: Памяти А.П. Гавриленко, Астров). Но обе противостоявшие стороны, и революционная (в особенности) и государственно-монархическая, по сути своей не могли мыслить иначе, как «кто не с нами, тот против нас», расценивая всякую независимую позицию как враждебность или предательство, и не признавая заповедных для себя сфер. А.П., разумеется, мыслил шире и глубже. И ему, с его личным обаянием и авторитетом, удалось совершить невозможное: прочно поселить «академические настроения» в совсем еще недавно столь мятежных умах своих студентов. Нет никаких свидетельств того, чтобы какую-то революционную активность проявлял в то время и юный Цибарт. Говоря о годах учебы А.А. в ИМТУ, весьма уместно обрисовать отношение А.П. Гавриленко именно к студентам, к их нуждам, интересам и судьбам – тем более, что это отношение имело, по доброте, уважительности и мере затрачиваемых на заботу о конкретных студентах времени и сил, совершенно исключительный характер. Об ответной любви студентов Училища к А.П. можно судить по цитируемому сборнику «Памяти А.П. Гавриленко», – всех свидетельств этого в книге привести здесь физически невозможно. Современный биограф Гавриленко Л.И. Уварова замечает (2006), что «описание и оценка работы А.П. со студенчеством может составить специальное исследование» – жаль, что такого исследования еще нет! Она приводит также цитату из сборника Памяти А.П., из надгробной речи студента И.П. Захарова, которую тот произнес «сильно волнуясь, едва подавляя рыдания» – ее отчасти воспроизведем и мы. «С А.П. у нас были наши обще-студенческие идеалы, наши обще-студенческие принципы. На его знамени всегда были написаны – вера в науку, доверие к студенчеству, любовь к свободе, в пределах, по крайней мере, нашей академической жизни...» Сборник «Памяти Александра Павловича Гавриленко» дает нам возможность погрузиться в эту тему во многих ее примечательных деталях; из-за их обилия трудно выделить важнейшие из них. Вот часть из сказанного по поводу отношений его со студенчеством в статье проф. Н. Чарновского. – «Нельзя не упомянуть также о той готовности выслушивать всякие студенческие просьбы, которую неизменно проявлял А.П. при всех своих многочисленных обязанностях. Александр Павлович в сущности не имел своего времени в Училище, так как его время целиком принадлежало всем имевшим к нему какую-либо просьбу лицам и в особенности – студентам. Не имея определенных часов для выслушивания студенческих просьб, он выслушивал их всюду: на ходу по коридорам Училища, в директорском кабинете, в канцелярии при подписывании бумаг. Короче говоря, Александр Павлович, в ущерб себе, отдавал свое время в первую очередь студентам, как бы ни были малы по своему значению их просьбы, и надо было удивляться, как он мог при постоянном отвлечении своего внимания от других очередных дел по управлению Училищем, не теряя ни на минуту обычного своего равновесия, ни нити в делах, возвращаться к ним и продолжать с неослабевающим вниманием и терпением свою прерванную работу»... Замечательные слова встречаем в Адресе студентов – членов теплотехнического кружка (расцвет активности студенческих кружков в ИМТУ – также заслуга Гавриленко) по случаю празднования 25-летней педагогической деятельности А.П. (1913), устроенного для него, к смущению А.П., самими студентами. Эта встреча, о которой А.П. не был извещен заранее, не была им отвергнута, при том, что «всякие юбилейные чествования со стороны учреждений, товарищей, друзей» А.П. отклонил «самым решительным образом». «Много такта и нравственного здоровья нужно иметь, чтобы делать свою трудную работу так, как Вы ее делаете» (см. Уварова, факсимиле Адреса). – «...Я всегда был против подобных празднеств, – ответствовал на том студенческом собрании А.П. – Но в настоящем случае, я вижу нечто, дающее мне основание смотреть на происходящее несколько иначе: я вижу, что между вами и мною существует дружеская связь; видеть все это так дорого, что, вероятно, для большинства из вас, находящихся еще в первой половине жизни, вряд ли и понятно. И это меня так трогает, что я, собственно, предпочел бы...» А.П. не договорил своей речи. «И, будучи не в состоянии ни слова сказать больше, бледный Александр Павлович забрал ворох поднесенных ему адресов и удалился так поспешно, как только возможно было, пробиваясь через битком набитую аудиторию» (см. Памяти А.П. Гавриленко, Мастрюков). «Особенно поражала способность А.П. творить добро незаметно, всячески скрывать свою инициативу в добром деле... А между тем, дорогой учитель-друг, всякий, имевший счастье видеть тебя, чувствовать твою душевность, всякий, знавший тебя, жил твоим делом. / Только твоя обаятельная личность удерживала студентов от рискованных шагов и тем сохранила относительную свободу нашего Училища» (см. Памяти А.П. Гавриленко, /студент-еврей/ Гордон). «Помню – на дворе, у крыльца, разговор с группой студентов-евреев. Подали венок, и я прочел на лентах стих из св. писания "искавший правды и милости найдет вечную жизнь и славу". Кто-то спросил меня, можно ли прямо на дворе вывесить объявление о том, что в синагоге будет особое, торжественное богослужение в память покойного; я подумал, от кого это разрешение может зависеть – вероятно, от полиции – и сказал, что можно. И инженеры-евреи прислали отдельный венок, тоже со стихом из св. писания, и помню, он начинался словами "умер праведник!" Да, для него не было ни эллина, ни иудея; они оценили это» (см. Памяти А.П. Гавриленко, Д.И. Виноградов). Приведенная евангельская цитата («ни эллина, ни иудея») была и на венке от студентов-кавказцев – видимо, мусульман. Студент Цибарт родился также не в «титульном» православном, а «евангелическо-лютеранском исповедании»... «Процессия трогается со двора. Впереди студент с иконою, за ним две шеренги студентов поперек улицы, от них – студенческие цепи вдоль процессии; колесницы с венками; приглашенный хор, за ним хор студентов, духовенство и гроб на руках; дальше родственники, сослуживцы, члены О<бщест>в – колоссальная толпа, которую оценивали десятками тысяч ... Это была грандиозная манифестация ... Студенты охраняли порядок, так что лишь старшие чины полиции дежурили на улицах; студенты заменили и прислугу у гроба...» (Д.И. Виноградов). Трудно прервать здесь студенческую тему. Поставим точку на следующей цитате (см. Памяти А.П. Гавриленко, Мастрюков): «...Фраза "пойду к Гавриленко" употреблялась студентами в годы его директорства при самых разнообразных затруднениях и всегда – с надеждой и даже с чем-то большим, чем только надежда. И не удивительно, что когда распространялась весть о его внезапной кончине, многие из студентов не в силах были и передать не знавшему товарищу этой вести и многие, я видел и слышал, плакали так, как плачут только по родным»... Мы почти не коснулись здесь темы необыкновенной работоспособности А.П., отмечаемой едва ли не всеми основными авторами книги, и вовсе опустили всю профессиональную сторону его деятельности, как собственно инженера и технического деятеля (этому в книге специально посвящены очерки профессора Н.Е. Жуковского, Р.В. Полякова и др.), как руководителя втуза (проф. А.И. Астров и др.), и как преподавателя (проф. А.И. Сидоров и др.). |
...Пока неизвестно, в чем состояло общение студента Цибарта с директором Гавриленко, но в любом случае ясно, что и образ этого человека, и духовная – творческая и нравственная – среда, созданная им в ИМТУ, и те события и общие переживания, что были связаны с его внезапной и безвременной кончиной, не могли не запечатлеться в памяти А.А.
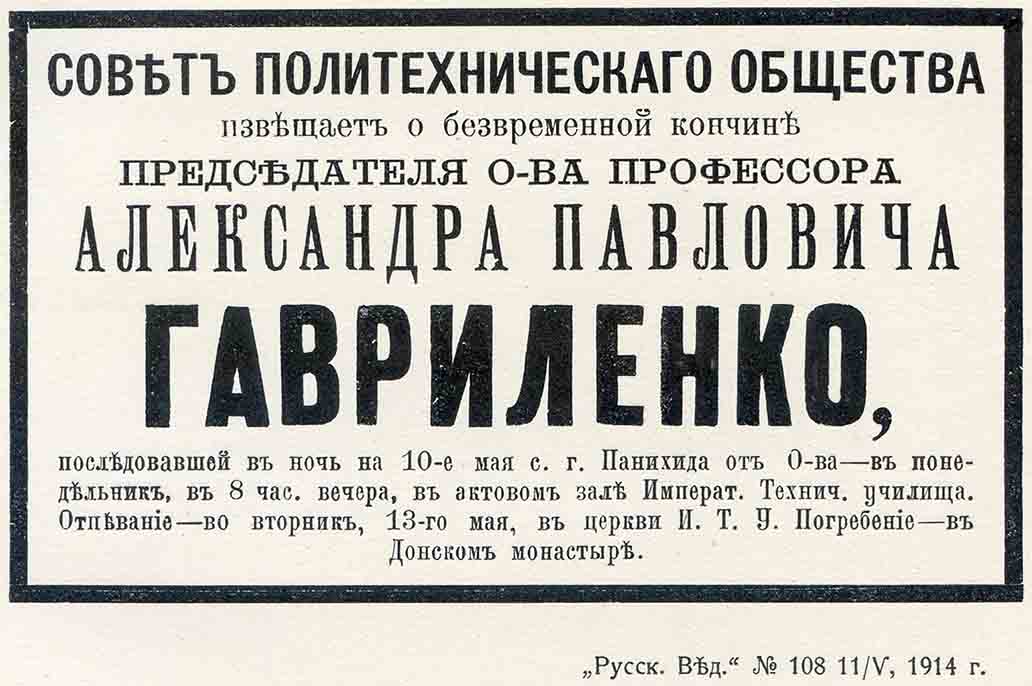
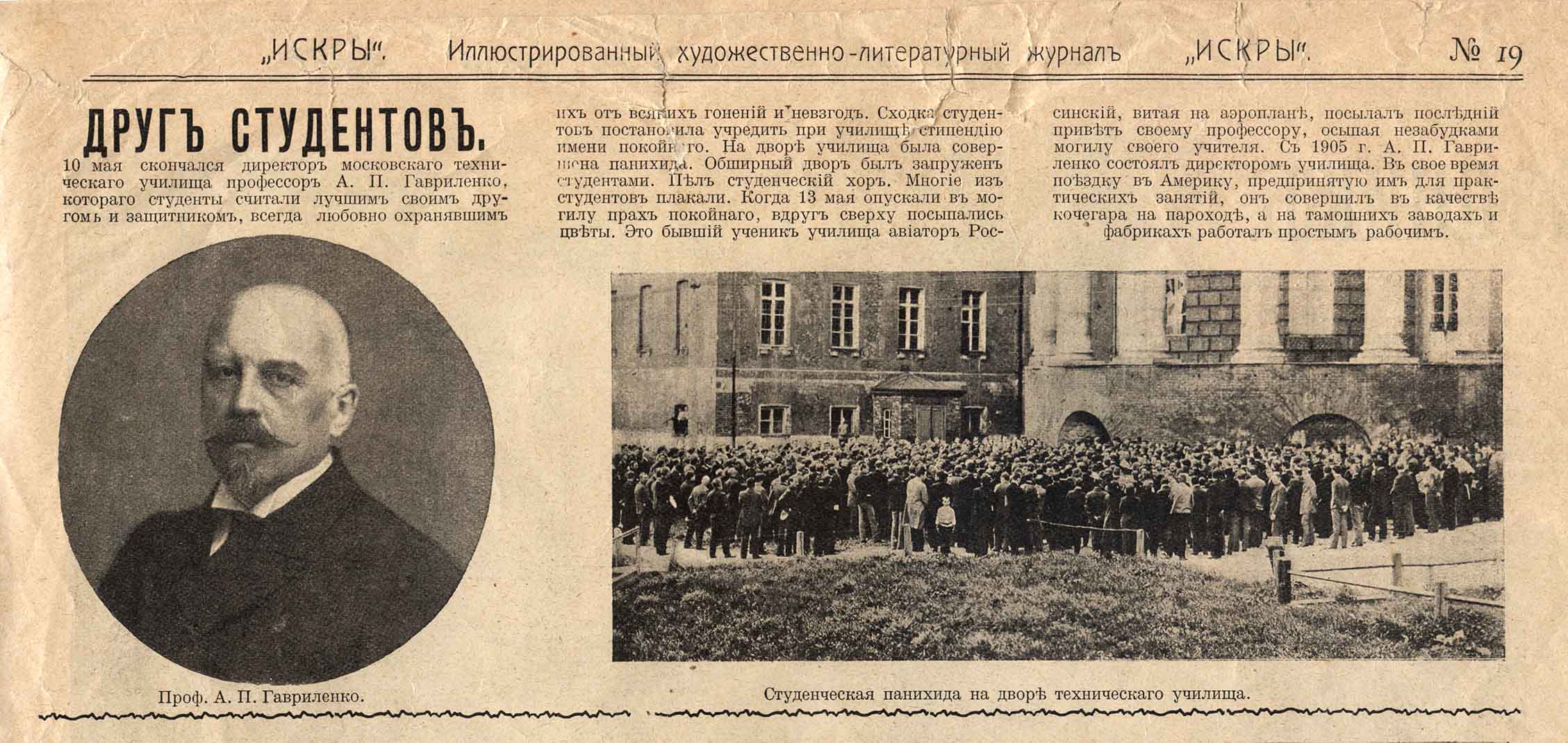
«Друг студентов.» Фрагмент страницы из журнала «Искры» № 19 от 18 мая 1914
«ДРУГ СТУДЕНТОВ.
10 мая скончался директор московского технического училища профессор А. П. Гавриленко, которого студенты считали лучшим своим другом и защитником, всегда любовно охранявшим их от всяких гонений и невзгод. Сходка студентов постановила учредить при училище стипендию имени покойного. На дворе училища была совершена панихида. Обширный двор был напружен студентами. Пел студенческий хор. Многие из студентов плакали. Когда 13 мая опускали в могилу прах покойного, вдруг сверху посыпались цветы. Это бывший ученик училища авиатор Россинский, витая на аэроплане, посылал последний привет своему профессору, осыпая незабудками могилу своего учителя. С 1905 г. А. П. Гавриленко состоял директором училища. В свое время поездку в Америку, предпринятую им для практических занятий, он совершил в качестве кочегара на пароходе, а на тамошних заводах и фабриках работал простым рабочим.» (Искры 2014 № 19)

Кончина А.П. Гавриленко. Похоронная процессия при выходе со двора Технического училища 13 мая 1910 г.
Фото из книги "Памяти Александра Павловича Гавриленко" (Политехническое общество, 1915)
«Широта и даль взглядов»: В.И. Гриневецкий.
А.А. Цибарт – вероятно, член Правления студенческого кружка теплотехников
В «экстренном заседании» Учебного комитета 7 сентября 1905 г., последовавшим за царским Указом 27 августа, единодушно избраны были на должность директора – А.П. Гавриленко, на должность помощника директора – профессор (с 1900 г., теория паровых машин) Василий Игнатьевич Гриневецкий. «Выборы эти нельзя не признать исключительно удачными и счастливыми для Технического Училища. Имена А.П. Гавриленко и В.И. Гриневецкого навсегда и неизменно останутся как в памяти Высшего Технического Училища, глубокое преобразование и развитие которого при исключительно трудных внешних обстоятельствах связано с их именами, так и в памяти русской высшей технической школы вообще ... Если А.П. Гавриленко, как директор, с гражданским мужеством, достоинством и честью встал на охрану Училища и создания в нем нового строя и быта, то помощнику директора В.И. Гриневецкому принадлежит, несомненно, инициатива и разработка многих важнейших вопросов, связанных с созданием этого нового строя и быта. "Известия" Училища содержат целый ряд докладов и записок В. И–ча по этим вопросам, характеризующих широту и даль его взглядов на задачи высшей технической школы. Следует пожалеть, что деятельность В. И–ча, сменившего потом А.П. Гавриленко на посту директора после безвременной кончины последнего (1914 г.), увековеченная Совнаркомом созданием Теплотехнического Института его имени (и проф. Училища К.В. Кирш), до сих пор не получила освещения в общем и целом, как это сделано Политехническим Обществом по отношению к бывшим директорам Технического Училища В.К. Делла-Вос и А.П. Гавриленко» (см. Катушев /1926/).
При «непосредственном» директорстве В.И. Гриневецкого (избран 23 августа 1914 г.) Цибарт учился лишь полгода, до своего отъезда на фронт в качестве инженера, плюс, эпизодически, в 1917–1918-х годах.
Видимо, А.А. был весьма активным и интересующимся студентом: на групповой фотографии с В.И. Гриневецким в центре и молодыми людьми, двое из которых в мундирах ИМТУ, запечатлен также А.А. Цибарт. В докладе директора музея МГТУ им. Баумана Г.А. Базанчук эта фотография подписана: «В.И. Гриневецкий с Правлением студенческого кружка теплотехников (1916 или 1917 г.)» (точнее, если судить по биографии Цибарта, с марта по май 1917 г.: на это время он отлучился из Минска в Москву).

«В.И. Гриневецкий с Правлением студенческого кружка теплотехников (1916 или 1917 г.)»
(фото и подпись из доклада директора музея МГТУ Г.А. Базанчук /см. Источники/)
В центре на фото: В.И. Гриневецкий, профессор, директор ИМТУ (20 сентября 1914 – 1918)
Справа на фото – студент А.А. Цибарт. Дата съемки: март – май 1917 г.
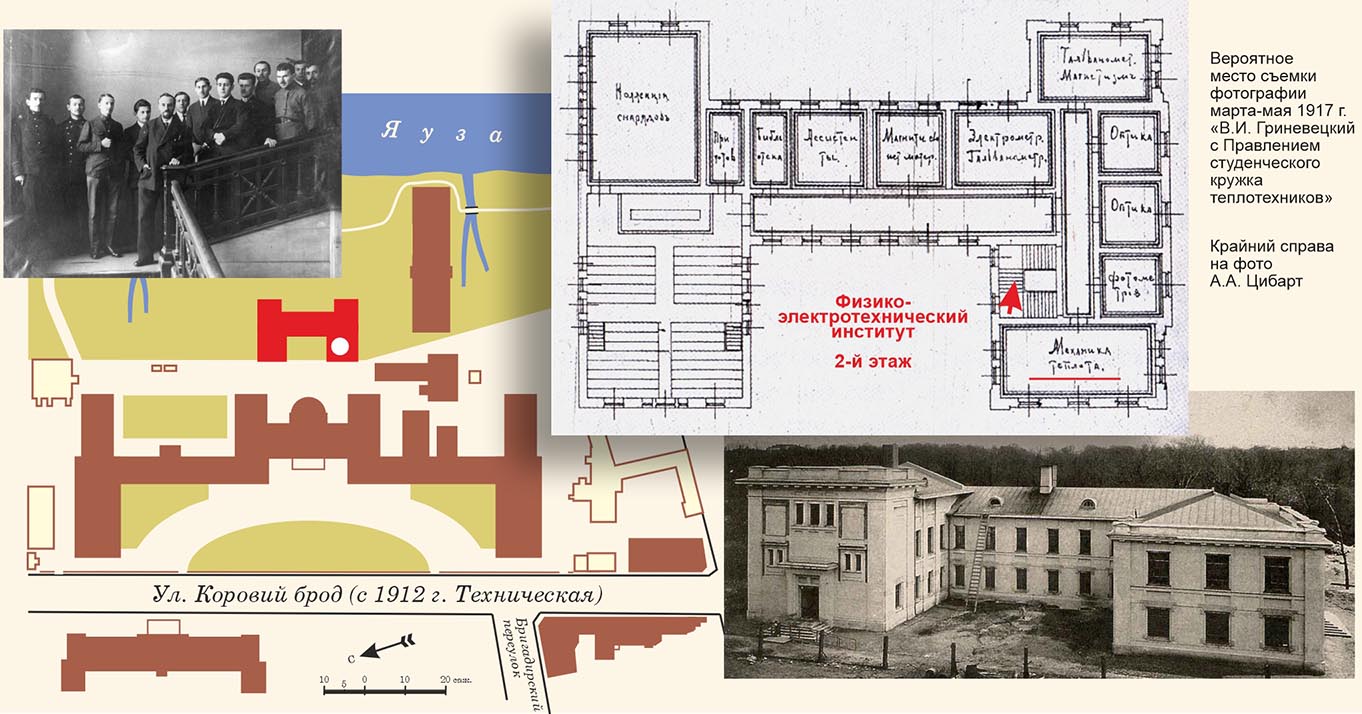
О профессоре Гриневецком, кроме его авторства предметной системы в ИМТУ, Г.А. Нехамкин сообщает в Юбилейном сборнике 1933 г. несколько больше, чем о его предшественнике.
Так, во время «реакционнейшего руководителя МТУ, тайного советника Аристова» «…профессора Жуковский и Никитинский, а также адъюнкт-профессора Павлов и Гриневецкий высказывают такие бунтарские мысли, как, например: "Думать и действовать дозволяется лишь на основании того, что предписано правилами, а это кладет отпечаток пошлости и безыдейности на всю будущую жизнь". Эти же профессора высказываются за разрешение студенческих корпораций, тогда как одного этого слова, как огня, боялось реакционное руководство высшими школами».
«После смерти Гавриленко в 1914 г. были выбран ректором училища его помощник – проф. Гриневецкий, который первой своей задачей поставил преобразование Московского технического училища в школу политехнического типа, которая имела бы не два отделения, а четыре и давала бы возможность более дифференцировать преподавание, более приблизить его к запросам промышленности. Им был тщательно, со всеми деталями, разработан проект, но его пожелания не могли быть осуществлены в старой царской России, и лишь после Октябрьской революции этот проект получил реализацию. В частности, изменения старого устава оказались возможными только в 1918/19 г.» (Здесь неясность. Если Г.А. Нехамкин имеет в виду создание в МВТУ 4-х отделений, то такое нововведение утвердило еще Временное правительство в сентябре 1917 г., осуществив, по оценке Гриневецкого, «давнишние пожелания Училища». А ко времени написания Нехамкиным цитируемого очерка, от проекта Гриневецкого не осталось ничего: все эти отделения МВТУ, ввиду ставки ВКП/б/ на узкую специализацию втузов, стали самостоятельными втузами. Впрочем, сравнительный анализ предложений Гриневецкого и его «реализации» в первые советские годы в нашу задачу, конечно, не входит.)
«…Характерные противоречия социально-политического строя и реакционная политика царского правительства задерживали развитие технического образования, и отсталость русских экономических отношений здесь сказывалась сильнее, чем где бы то ни было. Это непосредственно отражалось и на Московском техническом училище. Все эти противоречия ярко изложены проф. Гриневецким в его брошюре "О развитии Императорского московского технического училища (политехнического типа)". Сопоставляя условия развития, в которые поставлена высшая техническая школа в Германии и у нас, проф. Гриневецкий приходит к следующим печальным выводам: <обширная цитата; см.> Социально-экономические противоречия, на последствия которых правильно указывает проф. Гриневецкий, были уничтожены только победоносной пролетарской революцией в нашей стране…»
…О категорическом неприятии Гриневецким Октябрьского переворота, как и социализма (с его системой хозяйствования) как такового, институтский наставник по идеологии, конечно, не упоминает. И тем не менее ученый удостаивается от него добрых слов. Причина столь удивительной расположенности партдеятелей к Гриневецкому в том, что в 1918-м году, за год до своей смерти от сыпного тифа, этот ученый и мыслитель выпустил брошюру «Послевоенные перспективы русской промышленности» – и его труд, несмотря на свой нескрываемо «антисоветский» настрой, восхитил Ленина и во многом вошел в основу плана ГОЭЛРО…
За три года до поступления А.А., ИМТУ первым в России проводит примечательную реформу образования, которая давно вынашивалась российской научной общественностью (но в дальнейшем распространения не получила) – задержаться на этой теме здесь нелишне. Реформу в России связывают с именами известнейших российских ученых и педагогов, в т.ч. цитируемого в этом очерке Л.И. Петражицкого (см., напр.: Князев Е.А. Лев Петражицкий и аутодидактика в высшей школе). Настоящий «отец» ее в ИМТУ, как уже говорилось, – зам. директора, тогда А.П. Гавриленко, и затем последний директор ИМТУ проф. В.И. Гриневецкий.
Это т.н. предметная система обучения, в отличие от традиционной курсовой.
Еще в 1901 г. министру народного просвещения (ген.-адъютанту Ванновскому) было представлено «Мнение Учебного Комитета ИМТУ» относительно многих назревших тогда реформ в российском техобразовании. Вопрос о введении предметной системы, действовавшей уже в частности немецких вузах, увязывается авторами «Мнения» с непрерывным развитием техники и необходимой в связи с этим специализации техобразования, которая, однако, не должна быть «преждевременной и поэтому вредной» и должна начинаться уже после получения учащимися солидной научной базы. Тогда же становится востребована и творческая самостоятельность учащегося. – Позиция Учебного Комитета ИМТУ внимательно анализируется Я.М. Катушевым в «Историческом очерке развития МВТУ» 1926-го года (см. на сайте), помещенном в книге «Обзор деятельности МВТУ...»: «В вопросе о с и с т е м е о б у ч е н и я Учебный Комитет отмечает, – пишет автор очерка, – что крайняя регламентация срочности всех видов занятий, обусловленная жесткой курсовой системой, мало благоприятна для активной работы учащихся и полного использования ими школы. Учебный Комитет полагал тогда, что курсовая система могла и должна быть оставлена на младших курсах как ввиду того, что тогдашняя средняя школа доставляла высшей школе "контингент учащихся, носивший в себе очень мало благоприятных задатков для проявления самодеятельности", так и потому, что "чисто предметная система совершенно не соответствует духу и задачам о б щ е г о п е р и о д а технического образования, а формальное ее подобие в немецких школах, не принося серьезных преимуществ, обременяет школу и уменьшает ее продуктивность, и поэтому введение такой системы нежелательно". По мнению Учебного Комитета, предметная система обучения могла и должна быть предоставлена учащимся на старших курсах. Таким образом, " в с я с и с т е м а я в л я е т с я с м е ш а н н о й, и этим удовлетворяется как необходимое ограничение настоящей чрезмерной срочности всех работ, как наиболее интенсивное использование средств школы, так и наибольшее использование сил учащихся, которым, по мере приобретения подготовки и увеличения самодеятельности в работе, предоставляется и больше свободы в занятиях"».
Фактический переход на предметную систему в ИМТУ был окончательно подготовлен в ИМТУ, в результате напряженной работы его Учебного комитета, к концу 1905/06-го учебного года, во время последовавшего в ходе революции 1905-го года и состоявшегося по требованию студентов периода закрытия вузов для учебы (ИМТУ было закрыто с февраля 1905 по 17 апреля 1906 г.). Как пояснялось в издании вуза «Обзор ИМТУ на 1906–7 учебный год» (см. Источники), «...учебная система Училища подверглась коренному преобразованию. Введена предметная система прохождения курса и свобода научно-технической специализации в пределах целей и учебных средств Училища. Расширено преподавание в специальных областях. Все преимущества нового учебного строя учащиеся могут использовать только при условии самостоятельного и продуманного отношения к поставленным ими себе учебным целям».
Надо заметить, что предметная система в ИМТУ была реализована под руководством В.И. Гриневецкого в более радикальной форме, чем она была предложена Учебным комитетом ИМТУ в 1901 г., и была уже не «смешанной», а распространялась на все годы обучения («курсы»), в т.ч. и на первые два. Во всяком случае, так считает редакция «Обзора деятельности МВТУ» 1926-го года (редакция критикует авторов новой системы за отступление от планов ИМТУ 1901 г. и находит нововведения «дезорганизующими»; см. в: Катушев). То же сообщает о положении первогодников соавтор Юбилейного сборника 1933 г. Г.Н. Нехамкин, имевший возможность ознакомиться с ситуацией прямо от первокурсника 1910-го года Цибарта: «основная масса студенчества по предметной системе, в особенности первогодники, не привыкшие к самостоятельной работе, отставали...». В некоторых же источниках указывается, однако, что предметная система начинала действовать в ИМТУ лишь с 3-го курса. Видимо, на младших курсах из-за абсолютного перевеса общеобязательных предметов она все-таки не могла быть воплощаема в полном объеме, и полной однозначности в этом вопросе просто не может быть. – Так или иначе, обозначив лишь общеобязательную часть всего курса, т.е. необходимые для изучения каждым студентом втуза дисциплины (а также специально-обязательную, т.е. обязательную для избранной студентом специальности, и необязательную части), и в некоторых случаях последовательность прохождения дисциплин и упражнений, во всем прочем она полагалась на «самодеятельность» студента. В 1926 г. Я.М. Катушев констатирует: «такое построение учебного плана, осуществленное в п е р в ы е в Техническом Училище, как известно, оказалось весьма жизненным и плодотворным и послужило п р о т о т и п о м для учебных планов других высших технических школ, значительно позднее оставивших единую энциклопедическую систему преподавания».
Как конкретно строилась учеба? Можно сказать, что каждому студенту предоставлялась возможность (почти безальтернативная) учиться по его собственному индивидуальному плану:
«Общий порядок и продолжительность прохождения курса предоставляется свободному выбору студентов с соблюдением нижеуказанных ограничений (...).
Учебные планы дают рекомендуемый порядок и нормальную продолжительность прохождения курса в течение 10 семестров. Выбору студентов предоставляется всякий иной порядок и продолжительность прохождения курса, с соблюдением указанной в программах последовательности некоторых испытаний и работ (...).
Посещение лекций для студентов свободно (...). Допущение ко всем практическим занятиям определяется очередями записи на них и числом свободных мест. Студентам, приступающим к данным занятиям впервые, дается преимущество в очереди перед студентами, записывающимися повторно (...). Запись в группы различных руководителей упражнений, графических занятий и проектирования предоставляется свободному выбору студентов, лишь с ограничением максимального состава группы.
Оценка знаний по предметам производится на экзаменах, которые сдаются только во время трех экзаменных сроков: в сентябре, январе и мае. Повторение неудовлетворительно сданных экзаменов в последующие экзаменные сроки для студентов не ограничено. ...»
(См.: Обзор Императорского Московского Технического Училища за 1906–7 учебный год)
В «Записке Учебного Комитета» ИМТУ «О современном положении Императорского... 1907-1908» (см.; на сайте помещен соответствующий отрывок) авторы подводят некоторые первые итоги введенной ими предметной системы. Возможно, несколько идеализируя ситуацию в отношении наименее самостоятельных студентов, пришедших во втуз не столько по интересу, сколько «за дипломом», авторы в частности сообщают: «...Полное сопоставление этих данных [приведенных авторами статистических данных по количеству сдаваемых зачетов] с результатами курсовой системы было бы затруднено различными основаниями учета отметок и недостаточной продолжительностью настоящего опыта, но во всяком случае можно утверждать, что относительно процента абсентеистов [т.е. студентов, не сдавших ни одного за год] обе системы довольно близки между собой и что ожидавшееся при предметной системе замедление в прохождении курса осуществилось далеко не в полной мере. Зато в качественном отношении между результатами обеих систем можно уже установить разницу: по единодушному свидетельству преподавателей механического отделения существенно улучшилось качество знаний и работ, повысился уровень требований... Из всего сказанного, для нашего очерка надо отдельно отметить, что специализация, которая выступает тут чуть ли не как синоним предметной системы, ничего общего не имеет с проводившейся ВКП(б) в 1928–1932 гг. «специализацией», начинавшейся с 1-го курса за счет вытеснения из программ общетеоретической подготовки. Характерен встречный «интерес [студентов ИМТУ] к углублению знаний в области чистой науки», «серьезный интерес к научной литературе». «Что касается самой формы учебного строя, будет ли это форма предметной системы или форма курсовой системы, то в этом отношении, казалось бы, западные школы дают различные примеры. Можно ли говорить, что тот или другой строй является безусловно необходимым для технической школы вообще? Казалось бы, что так категорически ставить вопрос нельзя. А в русских условиях какой строй является более подходящим? В этом вопросе учет примеров Запада без достаточной корректуры, может быть, заведет на неверную почву. Мы являемся уже достаточно взрослыми для того, чтобы видеть свою собственную обстановку и из нее делать соответственные выводы. С этой точки зрения вопрос учебного строя в смысле учебной системы приходится рассматривать и приходится сказать, что та быстрая эволюция, которая требуется от нашего учебного дела, в рамки курсовой системы совершенно не укладывалась, и только с переходом к предметной системе преподавание получило возможность известной эволюции.» Любопытно, если иметь в виду специфику раннесоветского времени, что в 1926-м году автор «Исторического очерка развития МВТУ», хотя прямо и не высказывается, но явно оценивает предметную систему ИМТУ в высшей степени положительно, при этом редакция издания находит необходимым указать на это как на недостаток его работы: «...автор не дает никакой оценки такой крупной реформы, как введение ... на всех курсах МВТУ предметной системы обучения, вопреки четкому академическому плану, установленному Учебным Комитетом еще в 1901 году. Эта реформа несомненно повлияла дезорганизующе на дальнейшее развитие преподавания в МВТУ». Не совсем ясно, вызвало ли критику со стороны редакции лишь то обстоятельство, что предметная система была введена на всех курсах, вопреки рекомедациям Учебного комитета ИМТУ 1901 г., или же вся предметная система в целом; похоже, однако, что именно последнее. |
В самом общем плане, переход от курсовой к предметной системе – это переход от обычной «дидактики» к «аутодидактике». Т.е. от образования, которое студенту, говоря теперешним бытовым языком, «дают», к – практически в прямом смысле – самообразованию, которому в вузе всеми силами и возможностями способствуют. Если основным стимулом к учебе при курсовой системе, вольно и невольно отметающей всякое зарождающееся личное увлечение студента той или иной конкретной темой, остается, по существу, лишь статус, даваемый дипломом об окончании вуза (что ныне именуется «корочка»), – то при предметной системе этот стимул – именно его личный профессиональный интерес к предмету изучения (нащупываемое призвание), выстраивающий его учебу в своего рода самостоятельное исследование и требующее, по ходу дела, расширения и углубления нужных для этого познаний. Несомненно, что для становления серьезного специалиста предметная система совершенно адекватна. Она была бы и безальтернативна, но при условии, что у самого́ учащегося его подлинный стимул к учебе – не «диплом», а профессиональный интерес. (Предметная система против курсовой, если говорить о главных стимулах к учебе – это, так сказать, «интерес к делу» vs «диплом».) Итоговое (т.е. опуская время самодурств ВКП/б/ в области образования) отторжение предметной системы в вузах определилось тем, видимо, что для среднестатистического студента, в отличие от идеального, главным стимулом выступает все-таки «диплом»... Не говоря уж о том, что, понятно, в административном аспекте ориентация на столь неформальные материи, как интерес и самостоятельность учащегося, а не на тот единственный безусловный в плане отчетности показатель, который составляет установленное количество обоснованно выданных дипломов, – настоящий абсурд.
Действительно, эта система, не рассчитанная на «среднего», не столь инициативного учащегося, имела свои издержки – в частности, слишком многие превращались в «вечных студентов», оставаясь в училище по 7–10 и даже 12 лет. (Впрочем, с конца I курса Цибарта «...по циркуляру г. Министра Народного Просвещения от 5 марта 1911 г., подтвержденному в распоряжении от 1 июня, в училище введен предельный восьмилетний срок пребывания студентов» /см. Краткий отчет о состоянии Императорского... за 1911 год/). Случаи, представлявшие для В.И. Гриневецкого предмет его особой гордости как «крупный и даже неожиданный успех дела», когда студенты, которые (подобно будущему профессору МВТУ/МММИ А.Н. Шелесту) «могли бы соответственно их учебным планам уже окончить Училище, оставались и остаются еще лишние семестры и целые годы для более широких занятий по специальностям», явно бывали реже, чем случаи банального второгодничества.
В этом свете такой будто бы незначительный факт, что студент Цибарт переходит с курса на курс, с 1-го по 5-й (последний), регулярно, некоторую важность для его характеристики приобретает. (Тем более его членство в правлении студенческого кружка теплотехников, руководимого В.И. Гриневецким.)
Отношение к предметной системе, выражаемое Г.Н. Нехамкиным в редактировавшемся Цибартом юбилейном сборнике (1933), т.е. безусловно их общее отношение, двойственное – и в этом, похоже, справедливое. Регламентированность обычной курсовой системы действительно связывает заинтересованных, инициативных и работоспособных учащихся, самых «талантливых и одержимых» (см. Анцупова, МГТУ глазами историка) – какими ученые авторы предметной системы хотели бы видеть, по собственному примеру, каждого студента, – но сориентировать все обучение именно на них оказывается нереальным.
Но оно и не отрицательное.
Свой дореволюционный студенческий опыт предметной системы – «помню, когда я учился, мы...» – А.А. не боится высоко оценить в «Известиях», в 1935-м году, и даже надеется внедрить его (частично, скорее в варианте Учебного Комитета в 1901-м году) в современную ему учебную практику (см. Цибарт, Известия):
«Если от студентов, проходящих общетеоретический этап, можно требовать обязательного посещения лекций и семинаров, то для студентов старших курсов эти посещения следовало бы сделать необязательными. Когда человек занимается специальными дисциплинами, ему надо много работать над собой, работать самостоятельно, продумывать ряд вопросов, рыться в литературе. Существующий порядок занятий его стесняет.
Институт не может считать свою задачу выполненной, если не выпустит инженера, научившегося самостоятельной творческой работе. Больше самостоятельности студенту, больше доверия к его способностям, больше стимулов для инициативы и творчества! И лучше проверять! Эти положения должны быть, по-моему, положены в основу организации студенческой учебы. К сожалению, мы создали слишком много "нянек" для студента.
В институте организовано дежурство преподавателей и профессоров; почти по всем дисциплинам есть кабинеты, где студент может получить консультацию. Но в большинстве случаев консультанты предлагают студенту не помощь, а решение вопроса. Студента к этому приучили, и он не пытается сам найти ответ. Мало самостоятельности в работе студента, и нет стимула для нее. Помню, когда я учился, мы дни и ночи сидели в библиотеке и рылись в материалах. Это меня приучило к самостоятельному решению технических задач. Я думаю, что будет правильно, если мы перестанем водить студента на помочах. Это ведь взрослый человек!»
(«И лучше проверять!» в устах Цибарта означает не увеличение всяких контролирующих мер, а, напротив: не ежечасно принуждать к учебе, а ориентироваться на ее конечный результат.)
Надо сказать, что, ко времени появления статьи Цибарта в Известиях, среди педагогов и организаторов высшего образования дискуссии о должной степени самостоятельности студентов велись самые напряженные, и завершились они введением в 1936-м году двух свободных, кроме выходного, дней в шестидневку (!) для старшекурсников (подробно об этом см. в соответствующих местах очерка). Рискованность высказывания Цибарта – в прямой отсылке к дореволюционной предметной системе.
Училище, его профессора и студенты в полной мере разделили бремя Первой Мировой. «...Среди студентов уже не было аполитичности: наоборот, они были ярыми защитниками царя и отечества» (говорит с язвительным неодобрением нарком труда А.М. Цихон, один из авторов изданного МММИ им. Баумана в 1933 г. Юбилейного сборника).
Призыву подлежали в первую очередь студенты первых курсов – старшекурсники должны были получить специальность и служить фронту в этом качестве. К концу 1915 г. около трети студентов работали на оборону. Еще в 1914 г. все здание общежития ИМТУ, просторные помещения в главном здании (модельная мастерская и другие) и даже казенная квартира В.И. Гриневецкого, по его почину, были переоборудованы под лазарет, также в ИМТУ расположились организации Земсоюза (Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам) и Земгора (Главного по снабжению армии комитета Всероссийских земского и городского союзов); ряд преподавателей входили в различные военно-общественные организации – в их числе Земсоюз и Земгор. В частности, предполагаемый «работодатель» Цибарта В.А. Ушков откомандирован ИМТУ в Земгор – оборудует завод минеральных кислот близ Н. Новгорода, при реке Оке (ст. Растяпино Московской Нижегородской ж.д.), состоит его директором, затем становится заместителем председателя Правления всех химических заводов Земгора (РГАЭ ф. 1884, оп. 27, д. 267, л. 6об, "Curriculum Vitae").

Городской лазарет при ИМТУ, 1914 (помещение модельной мастерской)
В середине 5-го курса, в декабре 1915-го, учеба А.А. прерывается.
Неточное высказывание Л.И. и И.Л. Волчкевичей в их книге «МГТУ имени Н.Э. Баумана 175 лет», рисующее Цибарта тех лет чуть ли не лоботрясом, – «сын литейщика из Лодзи, проучившийся в ИМТУ и МВТУ в общей сложности восемь лет, однако курса так и не кончивший», не учитывает того, что с 1915-го года весьма активный и успевающий студент Цибарт, член правления студенческого кружка теплотехников (см. фото в рубрике «При ком: великие директора...»), подобно многим лучшим студентам ИМТУ, находился на линии фронта и вернулся к учебе лишь, самое раннее, после Февральской революции, и то параллельно с активной политической деятельностью. «Второгодником» Цибарт не оказывался ни разу, что само по себе в то время было хорошим показателем. Правда в высказывании Волчкевичей – только то, что по каким-то причинам А.А. не получил свидетельства об окончании втуза (об этом см. далее в рубрике «Продолжение работы в Минске и завершение учебы в ИМТУ/МВТУ. Высшее образование: законченное или незаконченное?»).
В 1915 г. А. Цибарт вступил во Всероссийский земский союз. С декабря 1915 по апрель 1916 г., студентом 5-го курса, работал инженером-конструктором по постройке армейских бань, прачечных и проч. в 22-м строительном отряде Всероссийского союза городов, на Западном фронте в местечке Синявка Минской губернии (Слуцкого уезда, ныне Клецкий район Минской области). «Сражения начала войны в Восточной Пруссии, Галицийской, Варшавско-Ивангородской и Лодзинской операциях не увенчались успехом русских войск, и они вынуждены были отступить вглубь своей страны. В результате весной-летом 1915 г. Беларусь стала одним из главных центров боевых действий. Здесь на линии Двинск – Поставы – Сморгонь – Барановичи – Пинск на два с половиной года установился участок российско-германского фронта. Численность его составляла свыше 2 млн человек. Трудно даже представить, что здесь творилось: кровопролитные бои, сожжённые деревни, эвакуация населения и предприятий, беженство. Для эффективности атак немцы стали применять химические вещества – ядовитые и удушливые газы, несмотря на то, что это запрещалось существующим международным правом» (сайт «Наследие Слуцкого края»). Служба студента Цибарта в Синявке действительно не была тыловой: «Передовые отряды союзов [Земсоюза и Земгора] (врачебно-питательные, хирургические, банные и другие), бани и прачечные работали непосредственно на линии фронта...» (РГВИА, путеводитель по фондам, т. 3, раздел 17, стр. 121).
С мая 1916 г. – А.А. в Минске, инженер-конструктор в отделе санитарной техники Земского союза.
...В Земсоюзе и Земгоре настроения были уже не те, что были в ИМТУ времени Гавриленко. «В них находят место много революционных работников, проникающих через них на фронт...» (свидетельствует видный белорусский большевик Кнорин, с которым в 1920–1923 гг. А.А. будет тесно контактировать по работе в совнархозе Белоруссии). Видимо, в период своей службы в Земсоюзе у А.А. и складываются – или окончательно складываются – его революционные убеждения.
«Февральская революция застала в Минске» (автобиография 1936 г., РГАСПИ, ф. 17, оп. 100, д. 108142); председатель Земгора и Земсоюза князь Львов становится главой Временного правительства. Правые партии запрещаются, а бывшие запрещенные партии и в том числе РСДРП легализуются. Членство в них увеличивается лавинообразно; в особенности это касается партии социалистов-революционеров, так что в их среде возник даже термин «мартовские эсеры», но и РСДРП не была конечно исключением. – С марта по май 1917 г., согласно партийной анкете 1936 г., А.А. в Москве, продолжает учебу в ИМТУ. И уже в марте, за полгода до Октябрьского переворота, в Городском районе Москвы (образованном большевиками в основном из прежней Городской части, т.е. центральной части города, и в 1922 году упраздненном) А.А. Цибарт вступает в РСДРП. «В кандидатах не состоял».

Подробнее о том, при каких обстоятельствах А.А. вступил в РСДРП, о его партийных товарищах и фракционных предпочтениях ничего достоверно пока сказать нельзя. О каких-либо своих большевистских связях во время работы в Земсоюзе, в Минске, он не оставил свидетельств ни в одном доступном нам документе. Неизвестны и имена рекомендовавших его в партию. В следственном деле Цибарта в НКВД (1937–1938 гг.) об этом есть запись: «вступал в Москве, кто ручался не помнит» (ЦА ФСБ РФ, АУД Р-24817, т. 1, л. 10); примечательна снисходительность следователей к подобной забывчости подозреваемого в этом вопросе – ручаться могли слишком крупные действующие большевики. Понятно и то, почему сам А.А. не пожелал назвать имен поручителей, которых конечно забыть не мог, – в его ситуации это значило поставить их под удар, а может быть уже могло утяжелить и собственное положение. – Однако одно предположение выдвинуть можно. Весьма вероятно, что одним из поручителей был видный большевик Г.Н. Аронштам, упомянутый соученик А.А. по Лодзинскому мануфактурно-промышленному училищу, также в марте 1917-го вернувшийся из ссылки в Москву. О деятельности Григория Аронштама в этот период известно следующее (см. сайт centrasia.org): «В марте 1917 – марте 1918 член Исполнительной комиссии Железнодорожного райкома ВКП(б) [точнее: РКП(б)] г. Москвы, председатель фракции ВКП(б) [РКП(б)] райсовета, пред. Железнодорожного райсовета, гласный районной Думы. Одновременно, в окт. 1917 – член Железнодорожного районного ревкома, Одновременно, в 1917–18 – врид. комиссар путей сообщения при Президиуме Моссовета. В марте–августе 1918 – парторг (1-й секретарь) Железнодорожного райкома». Важно, что в Совете Железнодорожного района с апреля по июль 1918-го года работал инструктором и Цибарт. В то время А.А. был уже членом РКП(б), но ведь встреча двух выпускников Лодзинского училища в Москве могла произойти и раньше. (На фото справа – молодой Григорий Аронштам, сайт Rulers.org.)
Сам по себе политический выбор молодого Цибарта, сына лодзинского рабочего, был для его среды вполне ожидаем. Что до студенческой среды ИМТУ, то здесь на рубеже веков (и память об этом в ИМТУ 1917-го года конечно была жива) революционные настроения в их большевистском варианте были сильны исключительно. Студенты не стеснялись терроризировать «консервативных» преподавателей, призывавших в помещениях ИМТУ учиться, а не устраивать сходки – так, будущий профессор-химик и руководитель рабфака МВТУ Ф.К. Герке с гордостью рассказывал, как особо настойчивым лекторам устраивались «химические обструкции», т.е. в «спорных» аудиториях откупоривались емкости с сероводородом и тем приходилось ретироваться, и т.д. В 1905 г. в здании училища заседал стачечный комитет и Московский комитет РСДРП(б) (официально уточнение «б» в этой аббревиатуре появляется лишь в 1917 году, но автор статьи в юбилейном сборнике, посвященной большевистским традициям в МВТУ, ставит «б» уверенно); здесь в училище – в актовом зале (по другим сведениям, в нижнем этаже под ним) его главного здания (Коровий Брод, 5) – несколько дней находилось, перед грандиозным двухсот- или трехсоттысячным шествием и похоронами, замороженное «своими силами» в химической лаборатории тело убитого революционера-ленинца Н.Э. Баумана; из ИМТУ вышли В.В. Воровский, Ф.А. Сергеев (Артем), П.А. Богданов, Л.Я. Карпов (их биографии как выпускников ИМТУ см.: Павлихин, Базанчук)...
Так описывают обстоятельства гибели Н.Э. Баумана двое участников события (цит. по: Юбилейный сборник, Г.А. Григорьев /см. на сайте/): «Ночью 17 октября (ст. ст.) 1905 г. в штаб Московского комитета РСДРП, помещавшийся в то время в б. Императорском училище, бомбой влетела буржуазного вида дама, возвещая от имени Партии народной свободы (в это время заседал учредительный съезд Партии народной свободы) о царском манифесте... На нас это сообщение не произвело такого впечатления, которое, повидимому, ожидал встретить кадетский вестник. Поверхностная либеральная восторженность наткнулась на суровость мысли пролетарской партии. Мы просили передать кадетскому съезду, что, даже не будучи знакомыми с деталями манифеста, мы полагаем, что борьба народа за свободу не только не окончилась, но она только начинается, и что победа народа определяется не клочком бумаги, а его реальной силой и организованностью... Дама ушла разочарованная. 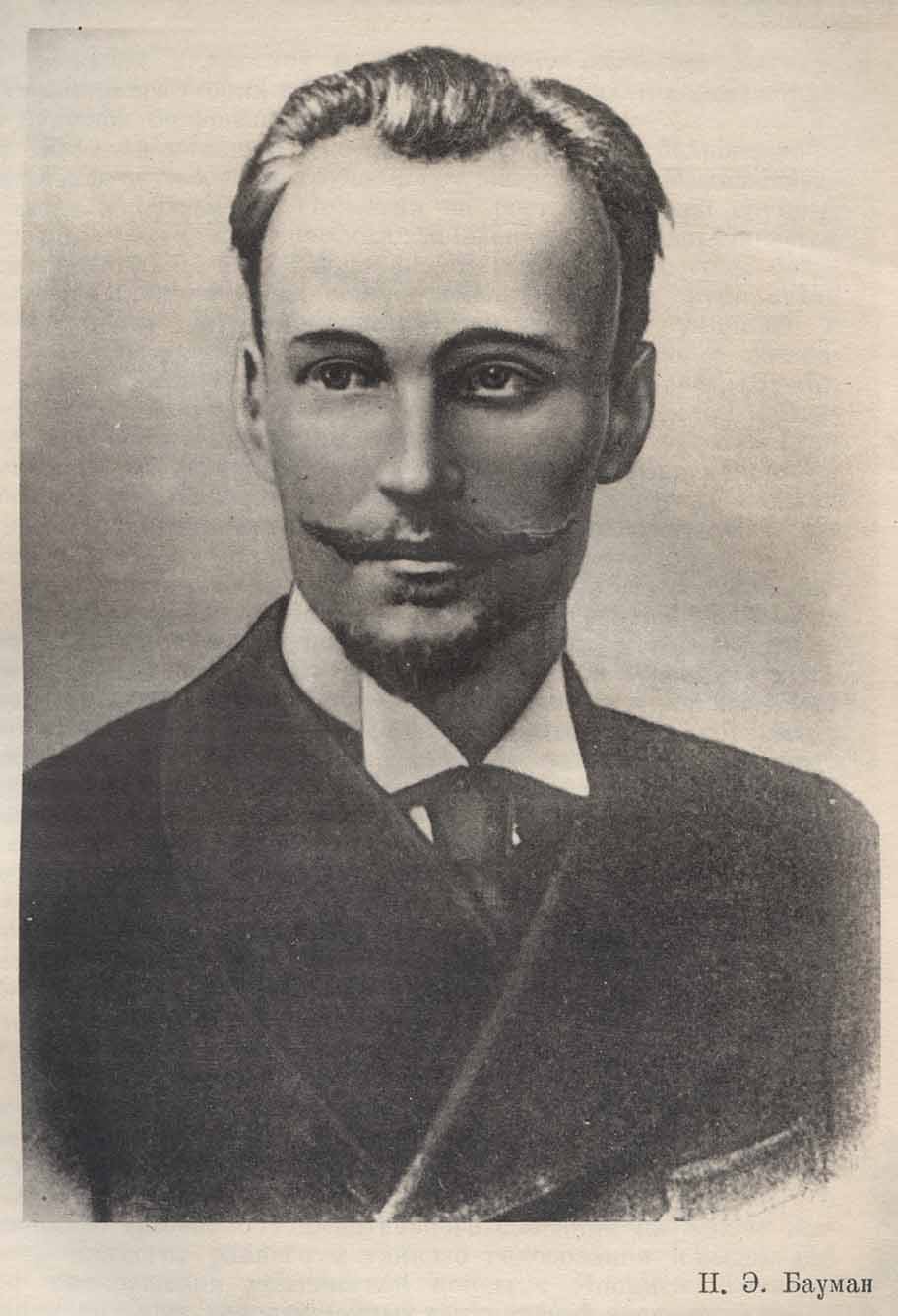 Приблизительно в 2 часа дня демонстрация двинулась. По выходе со двора Технического училища на Коровий брод солдаты резервного батальона, казармы которого находились против училища, приветствовали демонстрацию. Когда демонстрация вышла на Немецкую улицу (ныне Баумановскую) и собиралась перейти налево, у фабрики Дифурмантеля стояла толпа рабочих. Дядя Коля – Бауман, бывший во главе демонстрации, не вытерпел, заговорило сердце революционера. Он сел на случайно подвернувшегося извозчика (случайно – потому, что извозчики в тот день бастовали), с тем чтобы подъехать к группе рабочих и присоединить их к демонстрации. Кто-то вручил дяде Коле красное знамя... Не отъехал он и 20 саженей, как на перерез ему от фабрики Щапова выскочил человек и ударил его по голове какой-то палкой. Впоследствии выяснилось, что эта палка была газовой трубой. Склонился дядя Коля, склонилось красное знамя. Началась паника. Бросились бежать в соседние дворы. Когда через 5 мин. паника улеглась, принесли бездыханный изуродованный труп дяди Коли, убитого черносотенцем... Участники демонстрации вернулись в Техническое училище, где с того момента до погребения все митинги были посвящены Николаю Эрнестовичу Бауману». |

Похороны Н.Э. Баумана – манифестация РСДРП. Шествие от ИМТУ
(репродукция одной из 5 открыток «ателье светописи "LUMO"», сайт www.auctionica.ru)
Однако, в результате реакции властей на события 1905 г., а скорее разумных действий и обаяния личности тогдашнего директора ИМТУ А.П. Гавриленко, сумевшего повернуть интересы студенчества собственно к учебе, никаких организованных революционных ячеек в ИМТУ ко времени Цибарта не оставалось. Студенчество «стало отходить от временно задушенной революции. Академические настроения вновь стали превалирующими» (Юбилейный сборник, Нехамкин). В год поступления А.А. в училище там еще прошла забастовка студентов – но то было в ходе общих студенческих волнений (в ответ на принятие министром просвещения Л.А. Кассо демонстративной отставки 120 преподавателей Московского университета), – инициативы студентов ИМТУ не было.
Среди преподавателей ИМТУ в это время – насколько это могло иметь значение для А.А. – явно преобладали умеренные, а точнее здравые либеральные настроения. Закономерно, что первым избранным директором ИМТУ стал «буржуазный демократ» Александр Павлович Гавриленко, – исключительно любимый и авторитетный в студенческой среде, – для которого красный флаг на крыльце Слободского дворца в 1905-м году показался всего лишь «красной тряпкой», не представляющей никакой опасности ни для монархии, ни для конечного торжества здравого смысла. Именно благодаря, главным образом, Гавриленко «учебная жизнь после грозы 1905 года восстановилась в училище ранее, чем где бы то ни было», и «после того она не прерывалась ни разу по внутренним поводам и ни разу на сколько-нибудь длительный срок, несмотря на многие поводы к тому извне» (см. Памяти А.П. Гавриленко, Астров). – Что касается Василия Игнатьевича Гриневецкого, вступившего в должность директора ИМТУ почти в конце пребывания А.А. в ИМТУ, то его главной гражданской заботой, соответственно историческому моменту и личным убеждениям, была ориентация ИМТУ на помощь фронту. По отношению к большевизму он был настроен резко отрицательно (может быть, именно это обстоятельство каким-то образом и привело к тому, что А.А., проучившись весь 5-й курс, не получил диплома).
В подготовленном МММИ сборнике 1933 г. «Сто лет МВТУ – МММИ», под редакцией самого Цибарта, роль училища в революционном движении освещается весьма подробно. В статье А.М. Цихона даже подчеркивается – «как и в 1912 г., студенты почти не принимали участия в революционной работе и в подготовке к Октябрю. Исключение составляли лишь отдельные лица». Эти лица не называются, и в частности о какой-либо политической активности или революционных связях будущего директора в его бытность студентом ИМТУ (включая 1917-й год) не сообщается ничего. Вряд ли это было бы возможно, если бы хоть какие-то признаки таковых имели место. Взгляды А.А. окончательно сформировались, вероятно, в Минске, в Земгоре, но о какой-либо своей революционной деятельности в тот период А.А. также ничего не сообщает. Вообще, графа 22-я Личного листка по учету кадров (см. РГАСПИ) «Участие в револ. движении до 1917 года» остается незаполненной. Так что «ручался» за Цибарта, надо думать, некто, не имевший отношения к ИМТУ и не знавший его по какой-то предшествующей революционной активности, зато хорошо знакомый с ним лично. Самые очевидные предположения могут оказываться ошибочными, но исходя из того, что нам известно – Г.Н. Аронштам на эту роль подходит идеально.
Факт тот, что убеждения молодого Цибарта действительно были уже тогда революционными. Об этом можно судить не только по избранному им пути. Есть (на сегодняшний день) один-единственный, формально незначительный, но выразительный штрих, красноречиво подтверждающий его революционные пристрастия в ту пору.
Пожалуй, самые достоверные свидетельства умонастроений человека – это его любимые цитаты. 13 июля 1937 г., в разгар травли против него, А.А. приводит в дневнике четыре поэтические строчки, представляющие собой несколько искаженный перевод отрывка стихотворения Шевченко «Минають дні, минають ночі» (1845, «першедрук» 1861). Эти же строки (с незначительными отличиями) цитирует Р.А. Фонарева, томская гимназистка из весьма революционно настроенной семьи, бывшей близкой к В. Куйбышеву; цитата записана на открытке тиража 1903–1907 г. (см. сайт «Русский альбом»). Похоже, эти строки вообще были популярными в революционных кругах. «Жизнь начинаю опять под лозунгом:
| "Тяжело в кандалах засыпать Умирать так ужасно в неволе Но ужаснее – спать, только спать не в тюрьме, а на воле"». («...Страшно впасти у кайдани [попасть в кандалы], |
Это – столь узнаваемый революционный романтизм.
...С мая по декабрь 1917 г. А.А. продолжает прежнюю работу в Минске – инженером-конструктором в отделе санитарной техники Земсоюза.
(В краткой автобиографии сведения несколько отличаются от приведенных выше анкетных: «Летом 1917 года переехал в Москву и в течение 1917 и 1918 г. заканчивал прерванное образование в МВТУ. В партию вступил в марте 1917 года» – это было в Городском районе Москвы, упраздненном в 1922 г. Что касается завершения учебы в МВТУ, то согласно анкете оно могло происходить только марте–мае 1917-го и затем с января 1918 года.)
В 1918 г. А.А. Цибарт, как сообщается в книге о ректорах МВТУ (Анцупова, Павлихин), окончил МВТУ по квалификации инженера-механика. Этот пункт, видимо, основывается на печатных сведениях и формально не подтверждается. И.Л. Волчкевич в своих «Очерках по истории МВТУ...» (см.) сообщает: «В списках выпускников (а они сохранились) такой фамилии не значится, а в личном деле директора (оно тоже сохранилось), указано точнее: окончил с 1910 по 1918 годы четыре курса МВТУ».
(К сожалению, нам пока так и не удалось «выйти» на эти архивные документы, упомянутые Волчкевичем. Список выпускников нам не столь важен, но, как и личного дела Цибарта – студента ИМТУ, так и его личного дела как директора МММИ в Центральном государственном архиве г. Москвы, где находятся фонды Училища соответствующих периодов, нет; не находят их и в МГТУ им. Баумана. Сам И.Л. Волчкевич трагически погиб в 2016-м году...)
Также и в своем дневнике А.А. оставляет отметки о том беспокойстве за свое положение в институте, которое вызвало у него постановление СНК и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г., согласно которому (IV.6.а) «директорами высших учебных заведений могут быть лишь лица, имеющие законченное высшее образование и опыт научно-педагогической и производственной работы в данной отрасли»: «Один пункт не дает мне покоя. Д<олжен> быть с "законченным" высшим образованием», и др. Есть и официальный документ, составленный А.А. собственноручно, который ставит в этом вопросе точку. В анкете, точнее «регистрационном бланке члена ВКП(б)» 1936-го года А.А. отчитывается, что кончил Лодзинское училище и 5 курсов (т.е. все) МТУ, однако при этом в графе «основная профессия и специальность по образованию» А.А. прямо указывает: «техник-механик» (а не инженер-механик, т.е. квалификация ниже той, которую давал законченный втуз). Итак, пройдя все предметы, официального свидетельства об окончании втуза А.А. по каким-то причинам не получил. Тут можно вспомнить, что в октябре 1918-го года выпускные экзамены в училище были отменены, и дипломы как таковые вообще не выдавались; возможно и это, в числе прочего, склонило А.А., уже с апреля 1918-го года погруженного в партийную работу, пренебречь и получением свидетельства об окончании.
Надо заметить, что отсутствие у А.А. этого документа не могло быть секретом для профессоров МВТУ, знали об этом и руководящие инстанции, однако претензий к пониманию инженерного дела А.А. никто не выдвигал даже в худшие для него времена. (Кстати, в 1936 году А.А. уже преподает в МММИ физику и математику.) Так или иначе, особого значения в деловой биографии А.А. этот вопрос вообще не имеет: его действительные заслуги – хотя А.А. и мечтал всю жизнь о научной стезе – это заслуги организатора, хозяйственно-административные. В том же регистрационном бланке он называет своей специальностью «по опыту работы» в течение 20 лет – «инженер-хозяйственник».
Весной 1918-го начинается советская и партийная карьера А.А.
По материалам РГАСПИ – тем сведениям, которые А.А. сам о себе дает при обмене партбилета в 1936-м году (см. регистр. бланк члена ВКП/б/), в апреле – июле 1918 г. А.А. Цибарт работал инструктором в Совете рабочих депутатов Железнодорожного района Москвы. Также с апреля 1918 по февраль 1919 г. – инженером в Народном комиссариате труда РСФСР.
В служебной карте ВСНХ 1925 г. (РГАЭ ф. 3429, оп. 20, д. 600, лл. 25, 25об) о работе в Железнодорожном райсовете не упоминается вовсе (возможно потому, что эта деятельность не предполагала «самостоятельного заработка», упомянутого в карте), зато она позволяет уточнить характер деятельности А.А. в Наркомтруде. Последние 6 месяцев до февраля 1919 г. А.А. Цибарт – член коллегии Всероссийского музея труда при наркомате (охрана труда – «профессиональная гигиена» – преподавалась в ИМТУ). Кроме того, согласно этому документу, также в течение полугода А.А. Цибарт был секретарем фракции РКП(б) Наркомтруда.
Совет рабочих депутатов Железнодорожного района Москвы. Встреча с Аронштамом

...Железнодорожный район (упраздненный после декабря 1918 г.) сыграл хорошо известную, огромную роль в установлении советской власти. Он существовал лишь на политической карте – объединял железнодорожников Московского ж.-д. узла в пределах Окружной железной дороги и не имел собственной территории; исполком районного Совета, а также райком РСДРП(б) и, в 1917-м году, штаб Военного революционного комитета располагались в Царском павильоне, ныне здание станции Москва-Каланчевская (в десяти минутах ходьбы от МВТУ). Именно в Железнодорожном совете председательствовал с марта (?) по май 1917 года Г.Н. Аронштам, он же с октября 1917 г. состоял членом ВРК, а с марта по август 1918 года являлся парторгом Железнодорожного районного комитета РКП(б) – в этих временны́х рамках в Совете работал А.А. Цибарт. Поскольку новая власть о принципе разделения властей не ведала, можно думать, что чисто партийный пост отнюдь не снижал влияния Аронштама в Совете. В чем конкретно состояли в это время контакты Цибарта с Аронштамом, как и другими членами исполкома, неизвестно; эти сведения вероятно можно найти в архивных делах Железнодорожного совета Московского узла.
Доказывая партсобранию перед своим арестом в 1937-м году, что его рабочая семья была в силах дать детям образование, А.А. предлагает удостовериться в этом у Аронштама: «не верите?.. Тут есть в Москве люди, с которыми я вместе учился. Один из них Аренштам [Аронштам], он был членом комиссии партийного контроля, сейчас не знаю где он. Он учился в Лодзи со мной вместе». Этим предполагается, что Аронштам должен был быть достаточно близок семье Цибарта, чтобы знать его семейные обстоятельства. Неясно, почему А.А. не упоминает свою совместную работу с ним в Железнодорожном совете; может быть потому, что быть старым большевиком стало уже, по сути, опасно, а отношение обоих к КПК как раз и следовало подчеркнуть. – Это единственное упоминание о Г.Н. Аронштаме во всех найденных текстах А.А. Его имени нет даже в дневниковом списке тех, к кому А.А. предполагал обратиться за поддержкой в 1937 году; впрочем, в этом году сам Аронштам был уже в опале (руководил Главным управлением буфетов транспорта НК пищепрома). Однако в любом случае невозможно представить себе, чтобы в апреле 1918-го года отсутствовавший до того в Москве молодой человек был допущен к работе в столь важных для большевиков местах, как Железнодорожный райсовет или Наркомтруд, без рекомендации какого-либо испытанного и хорошо знавшего А.А. партийца.
Наркомтруд. Член коллегии Всероссийского музея труда

Параллельная деятельности в Железнодорожном совете, служба А.А. в Наркомтруде началась также в апреле 1918-го, то есть уже на следующий месяц после переезда СНК РСФСР, первого советского правительства, из Петрограда в Москву. В начале 1930-х гг. первый нарком труда А.Г. Шляпников, которого еще застал Цибарт, исключен из партии, а следующий за ним Василий Владимирович Шмидт (кстати, по матери немец, имевший большую немецкую библиотеку), в 1919-м году член ЦК РКП(б), сослан на хозяйственную работу на Дальний Восток (впоследствии оба расстреляны); видимо ввиду этой начинавшейся опалы А.А. в своей краткой автобиографии (1933) подчеркивает, что в «организующемся Наркомтруде» работал лишь «очень незначительное время». («Организующемся» – имеется в виду обосновывающемся в Москве; в 1918–1919 гг. штаб-квартира наркомата находилась на Солянке, д. 12 и 14, в т.ч. в здании бывш. Опекунского совета.) Минимум девять месяцев, которые Цибарт проработал в наркомате труда – время не такое уж «незначительное», а выборная должность секретаря фракции РКП(б) Наркомтруда, которую он занимал, более чем весома.
«Всероссийский музей труда», «членом коллегии» которого был в 1918-1919-х годах Цибарт – бывший университетский Социальный музей им. А.В. Погожевой (супруги, известной общественной деятельницы и отчасти сотрудника его основателя А.В. Погожева), переданный в 1918-м году Наркомату труда. До 1917-го года музей функционировал: «открыт для обозрения и для занятий студентов ежедневно, кроме праздников, от 5–7 ч.в.» (Вся Москва... за 1917 г.). В то время музей располагался в одном из корпусов комплекса зданий Университетской типографии по адресу Страстной бульвар, 10 (где ныне Союз театральных деятелей): «Под Социальный Музей имени А.В. Погожевой Университетом было отведено одно из помещений в университетском здании на Страстном бульваре, занимаемых ранее "Московскими Ведомостями" Грингмута. 4-го апреля 1910 года состоялось открытие Социального Музея при Московском Университете...» – сообщается во вступительном слове к изданной музеем в 1916-м году книге «Вопросы административного права» (тексты из этой книги о коллекциях, структуре и истории Музея, его основателе А.В. Погожеве и А.В. Погожевой есть на сайте, см. Источники). В корпусе по ул. Дмитровка располагалась типография (колоритно описанная Гиляровским), соответственно, Музей мог находиться либо где-то в т.н. Редакторском корпусе с примыкающими строениями, выходящими на бульвар, либо в корпусе, примыкающем к Редакторскому со двора (здание XVII века, снесенное в 2002 г.).

В каком здании размещался музей в 1918–1919 годах, после передачи его Наркомтруду, нам установить пока не удалось – неясно, было ли наркомату передано соответствующее здание комплекса по Страстному бульвару / Дмитровке или только экспонаты.
На сайте НИИ Медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова о музее говорится следующее: «Серьёзной пропагандой теоретических и практических основ медицины труда, а также многим аспектам техники безопасности занимался Музей профессиональной гигиены и социальной экономики (позже был переименован в Социальный музей имени А.В. Погожева), в основу которого легли ценные коллекции знаменитого санитарного врача, публициста, статистика. Он был создан в стенах юридического факультета Московского Университета в 1910 году и был передан в 1918 году Народному комиссариату труда. Кроме выставки в него входила обширная библиотека с огромной коллекцией газет и журналов почти всего XIX столетия. В 1919 году на основе богатейших фондов и экспозиции Социального музея имени А.В. Погожева и Музея Общегородской московской больничной кассы был сформирован Музей социального обеспечения и охраны труда». О Музее упоминается в Бюллетене Отдела социального страхования и социального обеспечения (Наркомтруда) №2/3 1918 г.: «Издательскую деятельность и работу пропагандистскую решено Коллегией Народного Комиссариата слить, собрав воедино в деятельности особого пропагандистско-издательского отдела всю работу в этом направлении ... Отдел Охраны Труда передает [пропагандистско-издательскому отделу Наркомтруда], между прочим, музей труда, бывш. Погожева и обширную библиотеку при нем. Музей труда имел было тенденцию вылиться в совершенно самостоятельное учреждение, с кругом работы пропагандистской и показательным отделом при ней, но теперь он будет только одним из подотделов новой работы и получит действительную возможность стать отделом служебным в работе всех отделов и питаться, пополняясь материалами и результатами их работы» (см. Бюллетень...).
«По своему содержанию музей [Социальный музей им. А.В. Погожевой Императорского московского университета] был более рассчитан на специалистов, чем на рабочие массы, – сообщает в 1925-м году директор уже советского музея Н.Е. Аким (см.). – Рабочие о нем мало знали. После смерти профессора Погожева, вследствие небрежного хранения, многие из экспонатов пришли в негодность. / Остатки этого музея перешли после революции в Наркомтруд, который приступил к организации Всероссийского Музея Труда; однако в силу ряда неблагоприятных обстоятельств этот музей так и не удалось развернуть.» В адресном справочнике «Вся Москва» за 1923-й год (первый выпуск после революции) такого музея нет; он возобновит работу в 1924-м году.
Таким образом, согласно служебной карте ВСНХ РСФСР 1925 г. и этим сведениям, «свой первый заработок» (это формулировка карты) А.А. получил, работая членом коллегии Всероссийского музея труда («музея труда, бывш. Погожева») пропагандистско-издательского отдела Наркомтруда. Позже это (уточняя сведения с сайта НИИ Измерова) – Центральный музей охраны труда и социального страхования (Наркомтруда и Московского отдела труда). (Его адрес в 1924–25-х гг. – Новая Басманная /Коммуны/, 18).

...Проблемы социальной защиты и охраны труда быстро теряют для советской власти актуальность – их место заступают задачи трудовой повинности. Едва просуществовав год, перестает выходить Бюллетень отдела соц. страхования и обеспечения НКТ, избыточным, видимо, становится в этих «неблагоприятных обстоятельствах» и штат Всероссийского музея труда.
Судя по тому, что в архиве Наркомтруда РСФСР за 1918–1919 гг. (ГАРФ) сведений о работе в нем А.А. архивистами не обнаружено, слишком заметным сотрудником наркомата он не был. Однако последующее крупное назначение А.А. Цибарта – «переброшен ЦК в прифронтовую полосу в Гомель» (шла советско-польская война) – именно по профилю этого наркомата («комиссар труда»). Сочетание «переброшен ЦК» встречается здесь в текстах Цибарта впервые. Каким образом в ЦК РКП(б) могли настолько ознакомиться с Цибартом, чтобы, подняв его статус фактически до уровня будущей «номенклатуры», доверить ему столь ответственное место? Но Цибарт был секретарем фракции РКП(б) наркомата. Также и член ЦК РКП(б) В.В. Шмидт, скорее всего, сыграл в этом назначении роль.
Здесь хотелось бы прервать хронологический ход изложения и дать несколько общих замечаний касательно жизни и личности А.А.
Об экзальтированном революционном романтизме молодого Цибарта – «ужаснее спать, только спать не в тюрьме, а на воле» – уже говорилось. Преданность советскому строю была в нем далеко не конъюнктурной. В 1937-м году, в разгар террора, уже обернувшегося и против самого А.А., здание ЦК для него – «святая святых» (Дневник)...
После работы в Железнодорожном Совете и Наркомтруде, вся трудовая жизнь А.А. полностью подчинялась партийной дисциплине. На каждое новое место работы он, используя слова из его автобиографии, бывает «назначен», «переведен по мобилизации ЦК», «переброшен ЦК». Так называемая номенклатура – перечень должностей, назначение на которые подлежит ведению ЦК партии – была узаконена в 1923 г., но фактически существовала и раньше. (А в 1933-м году этот перечень или подтверждается, или дополняется – директорами втузов. Постановление ЦК ВКП(б) от 19 октября 1933 г. «О повышении роли и авторитета директоров втузов», в числе прочего, гласит: «Установить что директора втузов и вузов … назначаются и смещаются ЦК ВКП(б) по представлению наркомов после личного ознакомления с каждым представляемым на утверждение или смещение кандидатом». Заметим кстати, что мнение ученого сообщества никакого отношения к авторитету директоров втузов в то время не имело – последние часто не имели и высшего образования, и такое положение сохранялось до постановления партии от 13 июля 1936-го года.) Принадлежность к номенклатурной касте не только давала привилегии, но и значила полную несвободу. Начатые А.А., по-видимому с большим энтузиазмом и успехом, дела приходилось неожиданно оставлять и осваивать другие, в т.ч. совершенно несходные с предыдущими (от торгпредства до текстильной или соледобывающей промышленности и пр.), новые назначения следовали стремительно и отличались разбросанностью географии. Опасность очередного недобровольного перемещения не раз возникала и во время директорства А.А. в МВТУ (МММИ); уже в 1931 г. его «наметили перебросить на Магнитку», в 1936-м это были Новочеркасск или «Станкир»: «Одно меня беспокоит: зачем вдруг в ЦК понадобились моя автобиография и личный листок. Неужели опять хотят меня перекидывать»; «не бояться переброски» (Дневник, новогоднее пожелание 1 января 1936 г.); «Неужели мои планы, мечты о научной работе пойдут прахом? ... Ведь я начал приобщаться к науке. Я стал преподавателем. Я усиленно занимаюсь. Что мне делать?» и т.д. (Дневник, март 1937).
Приведем последнюю цитату с ее начала, это кое-чем поспособствует пониманию смысла постоянных «перебросок». – «...Выступление нового наркома, что можно сидеть [т.е. руководить важной с точки зрения ВКП(б) организацией] не более 5-6 лет дальше [руководитель] перестаивается. Его подчеркивание о том, чтобы не давать перестаиваться людям, что это главное», – воспроизводит А.А. в своем дневнике устную директиву В.И. Межлаука, заступившего место наркома тяжелой промышленности после самоубийства Орджоникидзе. Слова Межлаука, датированные мартом 1937 года, характерны для политики партии вообще. Осмыслить эту бюрократическую максиму можно только так, что за указанный срок самый безоглядный проводник воли власти способен достаточно проникнуться интересами самого дела и врасти в коллектив, чтобы потерять должные ретивость и непреклонность. Линия партии важнее интересов дела, – об этом говорит уже факт, что руководителями в любых сферах назначались люди люди без специального образования, а подчас не имеющие практически никакого, как например тот же Орджоникидзе. Как все это непохоже на обычную для прежних времен ситуацию, когда, в частности, ректоры МТУ (в т.ч. первый советский ректор Ушков) вырастали в стенах родного втуза еще со студенческой скамьи и были, так сказать, плотью от его плоти!
Что касается территориальной разбросанности новых назначений (Минск, Москва, Оренбург...) – а эта особенность явно прослеживается в биографиях всех заметных партдеятелей той эпохи – то и тут смысл легко ощутить. Новая революционная власть комплектовалась из бывших профессиональных нелегалов-заговорщиков, – уникальная сама по себе ситуация! На неизменную лояльность подобных людей рассчитывать было бы наивно. «Ведь 90% предателей именно вышло из нашей среды. Разве можно верить старым кадрам? Вполне законное недоверие» – говорит сам Цибарт, оправдывая Сталина в 1937-м году незадолго до собственного ареста (Дневник, 6 ноября 1937 г.). Разумеется, ни малейшей возможности для какой-либо организованной оппозиции к этому времени уже не было, а преданность Сталину доходила в истребляемых им большевиках до фанатизма; воплощением коварства явился сам Сталин. Но, похоже, что эта фраза А.А. лишь воспроизводит давно установившееся общее мнение партийных верхов. Доверия, даже симпатии к товарищам по борьбе у верхов не было исходно. Тут в качестве примера можно вспомнить докладную записку нач. политуправления Западного фронта С. Пестковского Сталину (см. Евгений Жирнов) с оценкой надежности и уничижительными характеристиками первых лиц полу-независимой Советской Белоруссии в 1921 г., – тех самых лиц, с которыми в то время тесно контактировал Цибарт. «Предсовнарком тов. Червяков. Человек средне-надежный, но недалекий, слабохарактерный и неразвитой. Довольно хитрый»; «Наркомвоен тов. Адамович, человек надежный, но тупой»; «секретарь Ц.Б. тов. Кнорин» – «имеет один недостаток, свойственный почти всем латышам: пороху не выдумает»; «Большую роль играет здесь сильная группа бывших Бундовцев во главе с тов. Вайнштейном, бывшим лидером Ц.К. Бунда. Человек умный, но, по-моему, неискренний», и т.д. – Вайнштейн, еще до Цибарта, был переброшен в Казахстан, Кнорин и Адамович, несколько позже – в Москву. (1937–1938 гг. никто из названных деятелей не пережил.) Обыкновение высшего советского руководства, не давая никому «засиживаться» на одном месте, молниеносно и непредсказуемо перетасовывать («перекидывать») т.н. «кадры» позволяло разметать любой возможный комплот «товарищей» еще до того, как он возникнет.
...Были командировки по особым партийным заданиям и во время директорства А.А. в МВТУ. Так, «когда была коллективизация в 30 году, я был членом Московской Контрольной комиссии и был послан в совхоз в связи с организацией МТС [машинно-тракторной станции]. Был в Тульской губернии, в деревне Дроково [Северное]. Работал по посевной кампании» (см. Партсобрание, 4 декабря 1937 г.).
На этом последнем трудно не задержаться. Возражая бдительным однопартийцам, А.А. заявляет: «это просто выдумано, что у меня были колебания по коллективизации». Кое-что об ужасах коллективизации помнила и сопровождавшая А.А. во всех командировках его супруга Мария Иосифовна, видимо это были ее впечатления именно от Дроково (ночью по всей деревне был слышен вой и т.д.). Но после статьи Сталина «Головокружение от успехов» от 1 марта и соответствующего решения ЦК от 14 марта 1930 г., в вопросе коллективизации партия уже исправляла «перегибы» и «искривления партлинии». А.А. подчеркивает: «именно после 30 года [т.е. после этой поворотной статьи] меня посылали на это дело».
Вообще, хочется подчеркнуть здесь, – хотя А.А. контактировал, и вероятнее всего безо всякого неприятия, с самыми «беспощадными к врагам революции» персонажами истории РКП(б) – ВКП(б), от минского военкома Адамовича до (в 1924-м году) Ежова, его прямого личного участия в уголовных преступлениях не было уже в силу специфики его деятельности. А по нашим впечатлениям, и в силу его душевного склада.
Люди с вполне ужасающими революционными биографиями окружают А.А. и в Бауманском – в ту эпоху абсолютного господства в нем «партийной прослойки». Одного из них в парткоме считают даже другом А.А. «Шевяков Сергей Иванович г.р. 1894. Отец крестьянин. Рабочий член ВКП/б/ с 1917 г. п.б. 0069309. Работал моряком торгового флота. До октября 1917 г. участвовал в революционной деятельности. Пред. рев. штаба в Керчи. Пред. Керченского совета. Участвовал в подавлении восстаний. Пред. трибунала. Был делегатом Х парт. с"езда. Учился в МВТУ с 1923 г. – 1931 г. Был заграницей /Данциг, Дания/ около года по приемке заказов. Сейчас аспирант МММИ по дизельной специальности» (ЦГАМ ф. П-84, оп. 1а, ед. хр. 208, л. 45. Протоколы комиссии Сталинского РК ВКП/б/ по чистке парторганизации МММИ им. Баумана). |
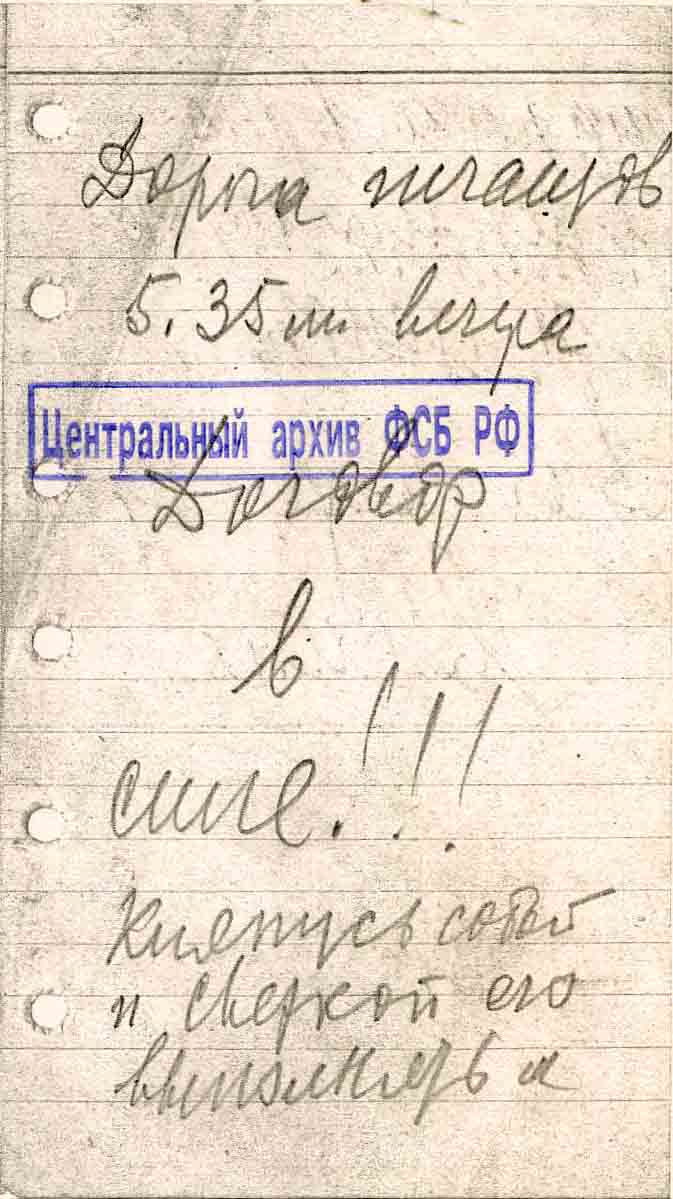
Крупные посты, в связи с революцией, пришли к А.А. смолоду. Так, первое важное назначение – «комиссаром труда» в Гомеле – он получил в возрасте 27 лет (и это был средний возраст гомельской советско-партийной верхушки – см. Елизаров), председателем Белорусского Совнархоза стал через два года, и т.д. С его стороны, этому стремительному росту отвечали чрезвычайно остро выраженные черты его собственного характера: честолюбие в сочетании с умением учиться, необыкновенными работоспособностью, энергией и волей к успеху; непрестанная, упорная и кропотливая «работа над собой». Самая примечательная из этих черт – в прямом смысле мистическая вера А.А. в свою особую роль: желательно на научном или инженерном поприще, но, коль скоро административные задачи не оставляли ему возможности заниматься творчеством, то хотя бы на поприще общественном.
Это было частью настоящего культа. А.А. верил, в буквальном смысле, что заключил личный «Договор с Природой»; в дневниках 1935-1937 гг. (более ранние тетради утрачены, но из сохранившихся видно, что «Договору» 1930-го года предшествовали и другие подобные) едва ли не каждая запись завершается сакральными «Договор в силе!», «Природа я Твой!», «Природа помоги!». Недоставало в этой вере, как будто, лишь идеи личного бессмертия («Природа, я твой до гроба», «обещаю до самой смерти» и т.д.). Но, отвлеченно говоря, само чувство непосредственного личного контакта с властью универсума, плюс допущение возможности прямого «договора» (завета) личности с ней, в котором личность обязывается ей послушанием (моралью), а в ответ рассчитывает на ее благоволение и водительство – в этом и состоит суть религии. Исповедь и просьба (молитва) – главные выражения веры. Именно они и составляют основной объем дневников А.А.
Согласно своему «Договору», он обязывался целым списком самоограничений и требований к себе, от таких как (периодически) «не курить и не нюхать табак» до «быть чутким и отзывчивым, поступать с людьми так, как я бы хотел, чтобы со мною поступали, если бы я был на их месте». А кроме того – что для нашего изложения главное – он был должен «Природе» непрерывным самосовершенствованием («ростом»). Природа, со своей стороны, должна была хранить и направлять его в осуществлении своего предназначения. «...Я буду все время над собою работать иначе я недостоин Договора». «Ведь не карьеры и не славу хочу я, только одно – рост.» «Цель существования – осуществление миссии.» «Договор в силе! Я буду еще крепче, еще напряженее работать над собою.» «Я избранник Твой [Природы], Твой сын и то что мне будет суждено сделать и открыть будет за лучшие идеалы человечества. Никогда для помощи угнетению.» «Сделаю все, чтобы стать достойным моей особой миссии, выполнить с честью, чтобы сына своего не пришлось стыдиться. Смело бороться с собствен<ным> телом, с привычками и вперед итти. К знанию, науке, природе. К свободной и исследов<ательской> работе, не связанной с зарабатыванием куска хлеба»...
Когда А.А. просил у «Природы» совета, он прибегал к магической процедуре жеребьевки – попросту вытягивал бумажки... Имеют значение для А.А. совпадения, трамваи с номерами 13, то, что мимо окон пронесли пустой гроб... Отношение к рациональности сформулировано и прямо: «Хотя голова в момент решения сказала бы, что это ошибка, особые, важные решения санкционировать Природой».
Возможно, эта персональная религия не покажется столь странной в деятеле-коммунисте, если принять во внимание общий квазирелигиозный характер коммунистической идеологии. Показательна в этом плане благосклонность новой власти к т.н. космизму, хотя бы к туманно-метафорическому учению Вернадского о «ноосфере», в котором этот мыслитель един с мистиком Тейяром де Шарденом и весьма далек от ортодоксального материализма. Сам А.А., надо сказать, в какие-либо философские или метафизические аспекты своей религии ни в малейшей степени не вдается; однако и счесть его настойчивые молитвенные обращения к «Природе», тем более страстные и детализованные, чем серьезнее и критичнее соответствующие периоды его жизни, лишь чем-то вроде фигур речи, точно невозможно.
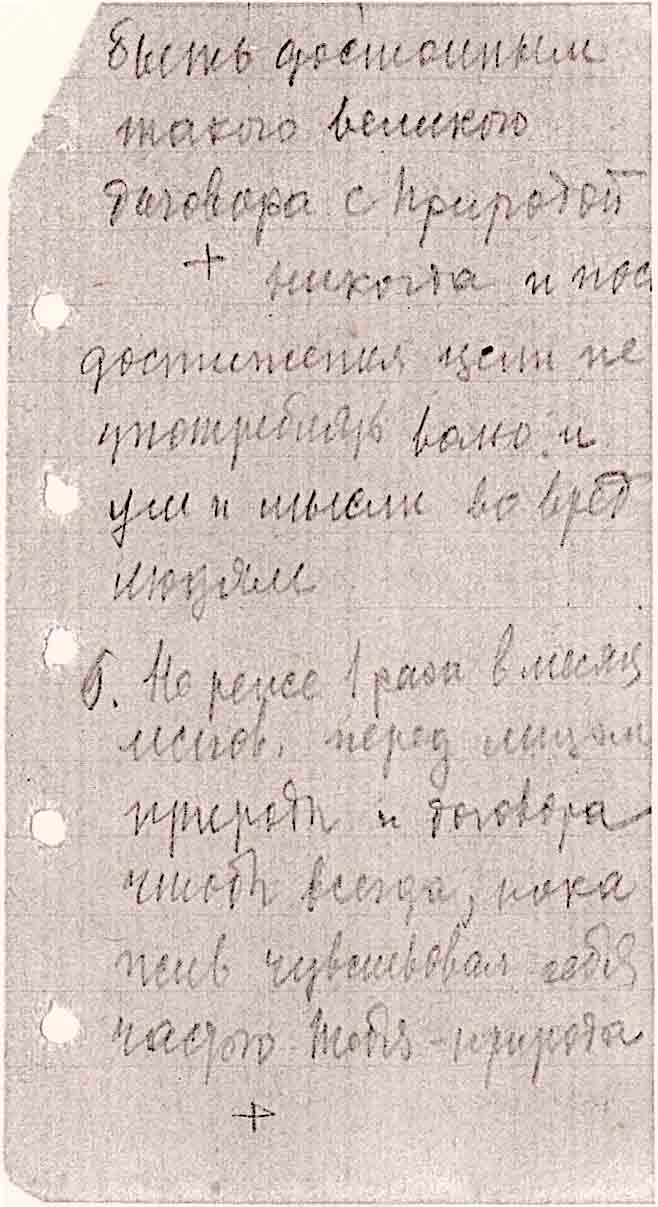
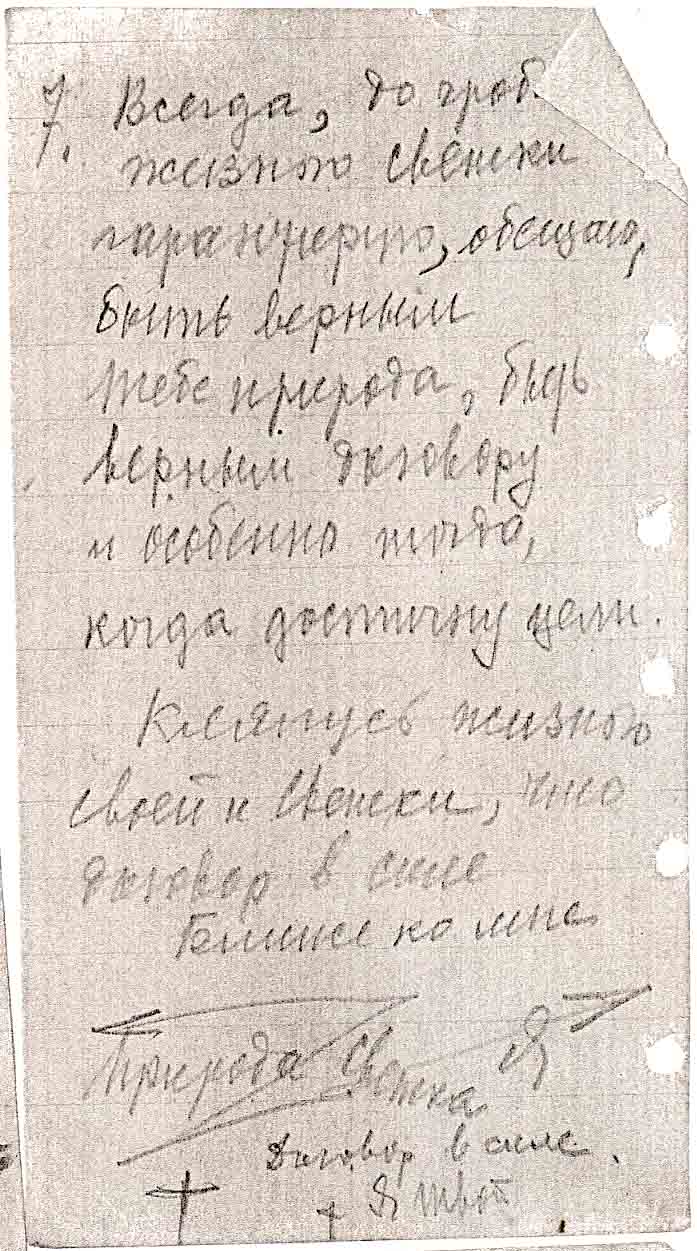
По-своему поняли дневники А.А. в 1937–1938 гг. на Лубянке: там его записи были признаны «контрреволюционными, фашистско-мистического характера»...
Прямой смысл всех тех требований, которые А.А. предъявлял к себе согласно своему мистическому «Договору», и в особенности взысканий за их неисполнение, по его записям не всегда можно понять. Вот простейшие из таких обязательств – характеризующие его стиль работы. Немецкая пунктуальность налицо. «Обещания (все то, что сказано хотя вскользь другому человеку дома или по службе) точно в назнач<енное> время выполн<ять>. 1 день просрочки 4000.» (Что значат эти цифры, нам неведомо.) «Точность свид<аний> и засед<аний>, совещ<аний> 1 мин. проср<очки> – 10.» «На письма ответ не <позже> 3 дней 1 день проср<очки> – 80.» «План работы на день ... нет плана – 500»: хуже всего «время рваное». «Проверка выполн<ения> моих указаний ежеднев<но> ... Проверка выполн<ения> данных мне указ<аний> ежеднев<но> 1 сл. – 40». «Работа по росту (читка научн. книг по плану, занятия с препод<авателями>, упражнения памяти) д<олжны> производиться в утренние часы, до служебной работы. На свежую голову и память. Вечером чтение газет, худож. литературы, самоэкзамен и необ<ходимое> чтение научной литературы ... занятия должны быть упорными и систематическими». Кроме того, «рост» предполагал упражнения воли, заботу о здоровье и многое другое. А, видимо, в качестве докучной необходимости А.А. дает себе и такое обещание: «иметь к 14 и 29 план посещ<ений> друзей и верхов 1 день проср<очки> 1000» (когда же тучи над головой А.А. сгущаются, «верхи» предписывалось посещать даже «со всякими пустяками»). «Не люблю ходить к лицам, которые стоят на высоких постах» (партком 22 июня 1937; А.А. говорит, что не гостил в Москве у Кнорина).
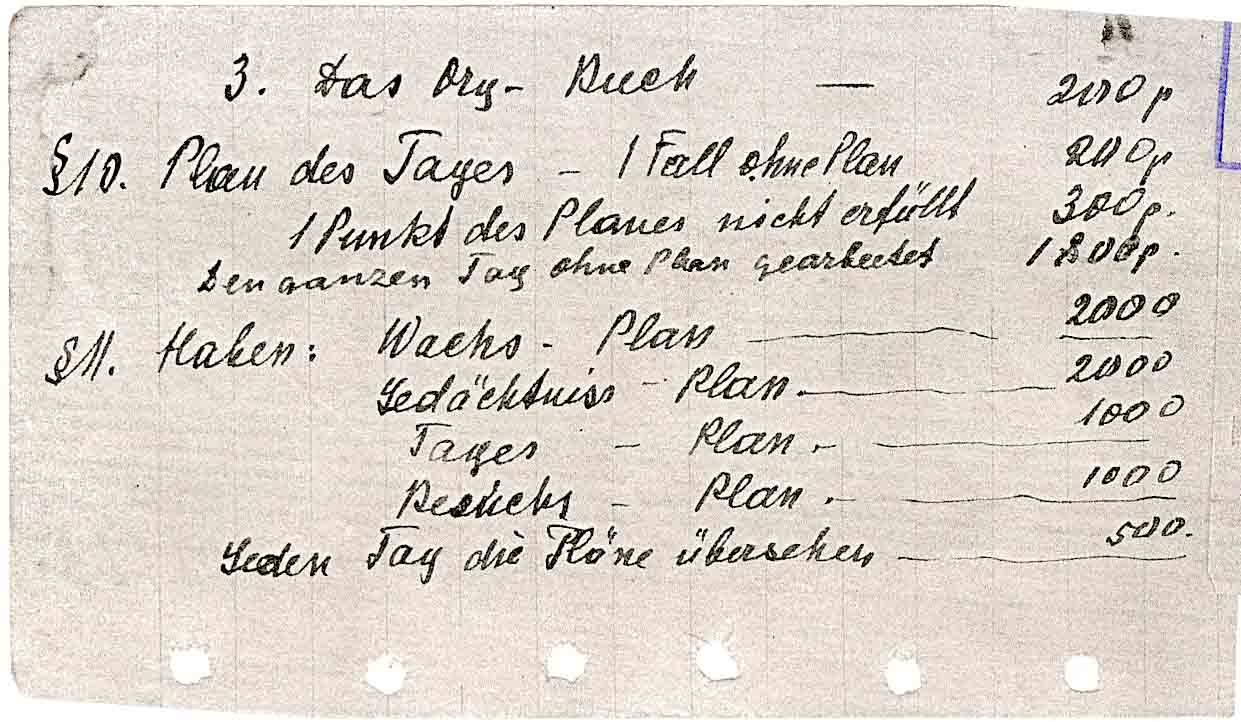
Упорство А.А. в самосовершенствовании, главное – в научных (самообразовательных и творческих) занятиях, было действительно сродни религиозному рвению. Здесь им движут не только чисто научные интересы, но и жесткие сакральные обязанности по «Договору». Отметка «расту», т.е. занимаюсь специальными предметами (физикой, математикой, химией...), часто сопровождает даже такие дни, когда самому его существованию и судьбе семьи уже угрожала опасность. Как видно, не знавшие А.А. специалисты не случайно принимали его за профессора (один такой случай он отмечает в дневнике: «у Энтина директор КИМ'а – Вольный называл меня все время профессором», есть пример и из другого источника). Безусловно, А.А. далеко не был кем-то чуждым техническому вузу или только «карьерным» директором. Именно профессиональная, даже не столько инженерная, сколько чисто научная деятельность была его заветной мечтой во всю жизнь, его, как он напишет впоследствии дочери из лагеря в Магадане, «Жар-птицей». «Цель моего существ<ования> – научная работа – понимать природу» (Дневник, 1930 г.); мечта – «стать независимым научным исследователем» (Дневник, 1935). «Моя "полочка" в жизни, о которой всю жизнь мечтал, это углубленная научная и исследовательская работа»; «основная ошибка в моей жизни заключалась в том, что я дал себя увлечь жизнью, а не пошел по пути начертанному мне судьбой и внутренними данными натуры» (письмо из Магадана). Подобных высказываний в дневниках и письмах А.А. встречается немало. Когда А.А. в результате упорных занятий удается, параллельно своей высокой должности директора МММИ, стать его рядовым преподавателем (ассистентом кафедр физики и математики), он ощущает это так: «вот настоящее достижение».
Как кажется, возобновить знание физики и математики после двадцати лет перерыва в занятиях ими, причем параллельно напряженной основной деятельности – смог бы не каждый. Но к этому были особые основания – мечта о научной работе сопровождала А.А. с начала сознательной жизни и до лагеря. Но «высокая административно хозяйственная работа в совнархозах, трестах, В.С.Н.Х.», как он писал в цитированном письме 1944-го года, «засасывала все глубже и глубже» – а «на мое несчастье я не умею отдаваться частично»...
У директора втуза, заметим, до самого его ареста так и не появилось собственных печатных научных работ. Об этом он сам отчитался в регистрационном бланке нового партбилета в 1936-м году («Имеет ли ученые труды и изобретения /какие и к какому времени относятся/» – «не имею»). Но – если уместно ставить кому-либо в заслугу то плохое, которого он не совершал – у него не было и научных работ в соавторстве.
Не скрывает от себя А.А., в своих дневниковых исповедях и просьбах к Природе, также и «земные» себялюбивые мотивы. Кроме материального благополучия (которое впрочем должно было развязать руки для творческой деятельности), это честолюбие. Пусть «карьера и слава» для А.А. не главное, все-таки для него важно «оставить заметный след в истории человечества» – и даже, в числе пожеланий ко всякой будущей должности, обязательно более прозаическое «и чтоб место было видное»... Да и само понятие миссии (возложенной на него «Природой») в общем лишено у А.А. как будто обязательной в нем конкретности, это, как уже сказано, только некая значительная роль. «Стать крупным научным работником известным СССР и заграницей, если это уже невозможно крупным общественным политическим или дипломатическим деятелем...»
...Впрочем, в обманчивости себялюбивых страстей А.А. отдает себе отчет – или, по крайней мере, в конце концов осознал эту обманчивость. В одном из своих последних писем из Магадана (12.06.1945) к старшей дочери, посвятившей себя, к его удивлению и радости, биологии (генетике), он пишет: «Я ушел от своего призвания далеко в сторону... Дай Бог чтобы этой силы и напора у тебя хватило до конца, чтобы жизнь, материальная нужда, тщеславие и честолюбие Тебя не сбили с раз избранного пути»... Мало кто не спутает удовлетворенные тщеславие, честолюбие и материальные потребности с осуществившимся призванием.
Вождизм, сталинизм – весьма примитивный культ, но культ в точном смысле слова. Безграничное доверие самого А.А. (в 1930-х гг.) лично Сталину поистине религиозно, он для А.А., хоть это слово и не называется, пророк его собственной веры. «Он гений, он друг человечества и за ним надо итти безоговорочно.» «Сталин по-моему не человек. Он гигант, он мифический бог, о котором будут говорить, писать.» «Жизнь отдам за дело партии – Сталина. Хотел бы ему активно помочь в его тяжелом положении, когда он окружен предателями среди "друзей". Целью моего договора ставило и эту цель.» Религиозная аналогия даже подчеркивается: «И вот рождается новый Христос – Ленин, за ним апостол Павел – Сталин»; «Сталин – будущее – рай. Троцкий – черт – ад. Мразь, обман» (конец 1937 г.), и т.д., и т.п. – Впрочем, в статьях А.А. 1920-х годов никаких славословий в адрес «вождей» не встречается, нет даже их имен. Так что, думается, в культе Сталина должна была срабатывать и элементарная психологическая самозащита – вне этого культа не оставалось возможности ни примириться с происходящим, ни сохранять оптимизм в отношении собственного будущего.
В сохранившихся текстах А.А., особенно в 1937 году, он с гордостью говорит о своем многолетнем членстве в Контрольных партийных комиссиях (Московской областной и районных), как и о том, что сам исключал из ВКП(б) «троцкистов». Так, в 1929 и 1933 гг. он был «председателем [районных] комис[сий] по чистке партии» (см. Личный листок по учету кадров, РГАСПИ). Здесь не место каким-то образом извиняться за его установки, но следующее все-таки хотелось бы сказать. Понятно, что в это время в его интересах было и преувеличивать свои заслуги на этом поприще. К тому же исключение из ВКП(б) (в мягком варианте, в кандидаты) или из кандидатов в ВКП(б) (в «сочувствующие») еще не обязательно означало последующие репрессии (скорее так, что тех, кто уже попал в круг внимания НКВД, старались успеть изгнать из партии). Многие исключенные вновь получали рекомендации – такую рекомендацию по меньшей мере однажды давал и сам Цибарт (А.Н. Зайцеву, другу, своему помощнику по кадрам и управляющему Комбината издательства и изготовления учебных пособий МММИ), – и становились кандидатами и членами ВКП(б) вновь, занимали (как тот же Зайцев) солидные должности. Главное же, в этой активности А.А. сохранялась-таки настоящая (хоть и своего рода) убежденность, в отличие от активности тех, кто в 1937-м году исключал его самого: «я понимаю: если вы меня исключите из партии и я буду понимать – за что... Я по своей работе многих исключал из партии. Если человек осознает, за что его исключили – это правильно исключили» (см. Партсобрание)...
...Отступая к упомянутому в дневнике «куску хлеба», привилегиям номенклатуры. – Как человек, лично изведавший нужду, А.А. откровенно ценит материальное благополучие. Хорошие «квартира, жалованье, дача» обычно упоминаются в его дневнике в числе пожеланий, хотя контраст с окружающей бедностью он и замечает. Стесняться партийной элите было чего. «Обслуги» у А.А., правда, не имелось, если не считать одной женщины, какое-то время жившей в доме А.А. и бывшей скорее другом семьи (ее дочь гостила у супруги А.А. Марии Иосифовны еще через многие годы после его исчезновения). Но, как вспоминала М.И., во время одного из домашних приемов, при накрытом столе, жена одного из приглашенных... сочла нужным обежать окна и задернуть занавески: простым гражданам с улицы или из окон дома напротив этого стола не следовало видеть. Наверное, то было в квартире двухэтажного дома по Малому Толмачевскому переулку, 8, кв. 2 (в этом особняке родился писатель А.М. Ремизов) – на низком этаже, или еще в квартире в трехэтажном особняке на Малой Ордынке, 15 (кв. 6). Приобретательской страсти как таковой не было: переезжая на новую квартиру в 1935 г., А.А. предпочел пятикомнатной 92-метровой четырехкомнатную 65-метровую – в только что выстроенном «Доме специалистов» на улице Садовая – Земляной вал, 23 (кв. 20); но по тем меркам (в особенности) и это роскошь.

На лето имелись ведомственные дачи: в Ильинском, позже в Малаховке. В 1936–37 гг., сложив премии от Орджоникидзе за две победы МММИ во Всесоюзном соцсоревновании втузов (третьей премией за соцсоревнование было пианино) и заняв еще денег, А.А. строит в Малаховке собственную дачу: большой, даже не огороженный полностью участок с соснами, спускающийся к узенькой речушке Македонке, двухэтажный рубленый дом в пять комнат с кухней, открытой террасой и балконами (уборная на участке, колодец, печки-голландки и керосинки); этой дачей сам А.А. воспользоваться уже не успел. «Эмка» с личным водителем и, как знак принадлежности к номенклатуре, револьвер были, ясно, казенные. – «Советский буржуй» – встречается в дневнике А.А. и такое определение – это не тот, кто всем этим обладает, а «перерожденец, мещанин... которого воспитали годы спокойной жизни». «А мы-то забрались на вышку, благодаря партии с самых низов.» «...Забрались мы на вершину матер<иального> благополучия. Начать <падать> с башни тяжело больно» (декабрь 1937).
Любопытны ироничные наблюдения А.А. над женами крупных «шишек» в Сочи, 1935 г.: «...затем Волина [Волин – зав. отд. школ ЦК ВКП(б)] говорит "за последнее время стали приезжать совсем плохо одетые женщины, как женщине можно не переодеваться 3-4 раза". Жена Кукса (директ. Колом<енского> зав<ода>) принимает на свой счет и говорит, что не поехал муж и не сумела "захватить наряды"», и т.д. Есть в дневнике А.А. и другие подобные замечания.

А.А. Цибарт с супругой, старшей дочерью (справа) и неизвестными
Как рассказывала со смехом супруга А.А. Мария Иосифовна, «Ацек» предпочитал, чтобы она посещала концерты, которые так любила, с кем-нибудь из знакомых – в театре он неизменно засыпал. А на досуге А.А. решал, в качестве развлечения, математические задачи – иначе и быть не могло, судя по его напряженным графикам «роста». С работы приезжал поздно – даже летом уже затемно. Отдых на курортах с семьей проходил всегда в окружении сотрудников, директоров заводов, иногда начальства по наркомату и др., и органично включал в себя деловые звонки, телеграммы, переговоры.
Однако невнимания к интересам и нуждам близких все это не значило. И о жене со всей ее родней и о детях А.А. думает и беспокоится постоянно. Вообще А.А., и это его выраженная характеристическая черта, чрезвычайно нуждается в близких людях и сам не бывает к ним безучастен. В его манере – обстоятельные письма к родным; он огорчается, если не получает таких же (это касается, конечно, не только его лагерной переписки). Отношение к тестю и теще, в разное время жившим с семьей, и к братьям жены – неизменно уважительное и сочувственное, ее племянница – «моя любимая Наташа» (в письме из Магадана), ее племянник Костя, после ареста отца (шурина А.А. Александра Шария) и потери матери, живет у А.А. в доме.
Об этом шурине он хлопочет в высоких инстанциях, не считаясь с возможными «неприятностями» (а в том, что «неприятности» могли последовать, А.А. вполне отдавал себе отчет; какими они могли оказаться в 1935-м году, также известно). «Тяжелый день был этот день 5 января. Памятный день. Арест Саши. Мария <Осиповна> как узнала по телефону, чуть не упала в обморок. Прошло свыше месяца. И что это был за тяжелый месяц. Жуткий месяц. М.О. начала курить не спит. Высохла как щепка. Ничего не может делать. 7/II было свиданье с Сашей, 8 его выслали. Жуткое дело. Что делается с М.О. прямо ужас. И на меня переносится это отчасти. Нужно чем либо помочь через И.Н. Кутузова [И.И. Кутузов – до 1927 г. председатель ЦК союза текстильщиков?], может быть что нибудь выйдет»; «Хотел бы очень Сашке помочь, чтобы он вернулся в Москву. Чтобы ему получить амнистию. Саше получить амнистию. Это прошу [Природу]. Саше амнистию получить. Вернуться»...
Что до отцовских чувств, то, точно, таких можно было бы пожелать любому отцу в любой семье. В его дневниках за три самых загруженных занятиями наукой, сверх служебных обязанностей, и притом самых тяжелых в личном и деловом плане года (последних на свободе) – ни одного замечания вроде того, что кто-то из родственников жены или школьных товарищей старшей «Элечки» пришел не вовремя, докучает, отвлекает от дел, дети шумят и т.д. Напротив, по выходным дням он сочиняет для детей нескончаемые сказки с продолжениями, устраивает «кучу малу» с компанией Элиных школьных друзей, смотрит с детьми «волшебный фонарь» (диаскоп), ставит (только что «реабилитированную») елку с подарками; через начальника, крупного чина в НКТП (Петровского), достает детям небывалую тогда игрушку – домашний автомобиль «с мотором» (педалями?) и щенков – немецких овчарок (Фрица и Леди). А младшая «Светка» прямо входит в его тайный культ, она – «залог Договора». Буквально за неделю до своего, очевидно неминуемого, ареста А.А. тревожится и о таких, например, вещах: «...ездил со Светкой на детский утренник. Поехал в 7 часов на машине, смотрели иллюминацию. Она очень устала. Легла спать не покушав как следует»...
В письмах из магаданского лагеря любовь к дочерям явна особенно. Вот, например, как кончается одно из последних посланий к старшей дочери: «Родная Элечка, маленькая дорогая Светка! Шлю Вам свое благословение. Желаю вам счастья в жизни. Берегите маму и бабушку. Они одни Вам остались в этом мире. Я вас крепко, крепко люблю. Вами только живу. Не питайте ко мне обиды, что так много горя из-за меня пришлось Вам перенести...»


Что касается родственников в Польше – А.А. беспокоится о них до конца, сочувствует матери и сестре (у которой, он помнит, «своего горя достаточно»), но, как уже говорилось, самое позднее в 1933-м году всякое общение и переписка с ними вынужденно прекращаются, а попытка хоть как-то дать им знать о себе через командированного в Европу сотрудника в конце концов становится известной в НКВД. Двух- или трехлетнее проживание отца и брата в Москве («были выписаны мною»), подарки от сестры (искусное и очень характерное немецкое рукоделье, настенные коврики с изображениями смешных гномов по черному фону и проч.) – это было раньше. А в декабре 1935-го, например: «Меня вызывала для дополнит<ельной> беседы в связи с проверкой парт. документов, в райком т. Першман. Много расспрашивала о моих родных что в Польше. Осталась удовлетв<орена>»... В 1937-м году партийную общественность удовлетворить в этом вопросе уже невозможно, родственники в Польше вменяются ему в «связь с за-границей». «То, что родители мои живут за границей, я не скрывал, и я не виноват, что я родился в семье лодзинского рабочего, и что Лодзь перешла сейчас в Польшу. Я в России с 10 года...» (см. Партсобрание).
* * *
К великому сожалению, утрачены не только большинство тетрадей дневника (плюс конспекты научных книг, которые А.А. вел ежедневно, учебные тетради «вопросов», «наизусть», «для памяти» и книга «плана роста», возможно еще другие), – но и особая «Тетрадь рассуждений». Отсутствует важнейший источник по личностной биографии А.А., притом что публикуемый здесь фрагмент дневника А.А. дает о нем лишь самое однобокое представление.
Пропали также все письма А.А. из лагеря от начала заключения до июля 1943 г., «главная» фотокарточка А.А. времен директорства (кажется, именно она воспроизведена на коллективном фото выпуска 1935-го года), и многое другое.
...Итак, в марте 1919 г. А.А. Цибарт был «переброшен ЦК в прифронтовую полосу в Гомель». Произошло ли это в порядке партийной дисциплины, и в этом случае А.А. уже тогда был «номенклатурным работником», или, скорее, его добровольное согласие на «переброску» и должность в Гомеле и знаменовало вхождение А.А. в номенклатуру, можно только гадать.
Наиболее подробный список должностей А.А. Цибарта в Гомеле находим в материалах Российского государственного архива экономики. Согласно служебной карте Цибарта в ВСНХ 1925 г. (РГАЭ ф. 3429 оп. 20 д. 600 лл. 25, 25об), это были: заведующий гомельского губернского Отдела труда – 2 года; член президиума гомельского губернского Совнархоза – полтора года; заведующий тарифным отделом гомельского губпрофсовета – 2 года; председатель Комитета трудовой повинности (в 1921-м году) – полгода. И по общественной линии (выборные должности): член гомельского губернского комитета РКП(б) – 2 года; секретарь Польской секции гомельского губкома РКП(б) – 1, 5 года; член ГИК (гомельского исполкома) – 2 года; член президиума гомельского губпрофсовета – 2 года; член гомельского горсовета – год.
Эти сведения значительно противоречат тем, которые А.А. приводит в регистрационном бланке члена ВКП(б) и автобиографии 1933 г. (см. РГАСПИ, ЦГАМ), а также, косвенно, всем другим найденным материалам. Согласно этим данным, уже в июле 1920 г. Цибарт был «переброшен» в Минск, и (см. автобиография, ЦГАМ, РГАСПИ) пробыл там в должности председателя Совнархозбела до назначения на эту должность Вайнштейна в ноябре 1920-го. Трудно представить, чтобы в официальном документе можно было сообщить такую важную и по-видимому легко проверяемую «подробность», если б она не соответствовала действительности. Таким образом, А.А. работал в Гомеле меньше полутора лет – и, в частности, в 1921-м году не мог быть (что для нас отрадно) председателем Комитета трудовой повинности, хотя, разумеется, в свой период заведования отделом труда и должен был заниматься также и трудовой повинностью. – Чем вызвано это несоответствие, мы не в силах даже строить предположений.
* * *
...В 1917-м году руководил восстанием в Гомеле Л.М. Каганович, в губернии установлена советская власть; 1 марта 1918-го Гомель оккупирован кайзеровской Германией. Только 14 января 1919 г. Гомель отбили войска Красной армии.
23 марта 1919 года на страницах газеты «Известия Революционного Комитета гор. Гомеля и Уезда» (днями позже это «Известия Гомельского Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов») находим «Обязательное постановление Гомельского Отдела труда № 11» о предоставлении сведений о наемных работниках в отдел труда; подписи: Председатель Ревкома [Семен] Комиссаров [наст. фам. Гуревич] и Заведующий Отделом Труда Цибарт. (В дальнейших постановлениях за его подписью указываются должности: «Комиссар Труда», «Заведующий Отделом Труда».) Наемный труд, понятно, не мог оставаться без особого внимания большевиков. Революционные нравы видны и в этом первом из дошедших до нас деловом распоряжении А.А.: за ненадлежащее исполнение сего постановления советские сотрудники «будут привлекаться к суду революционного трибунала», и т.д.
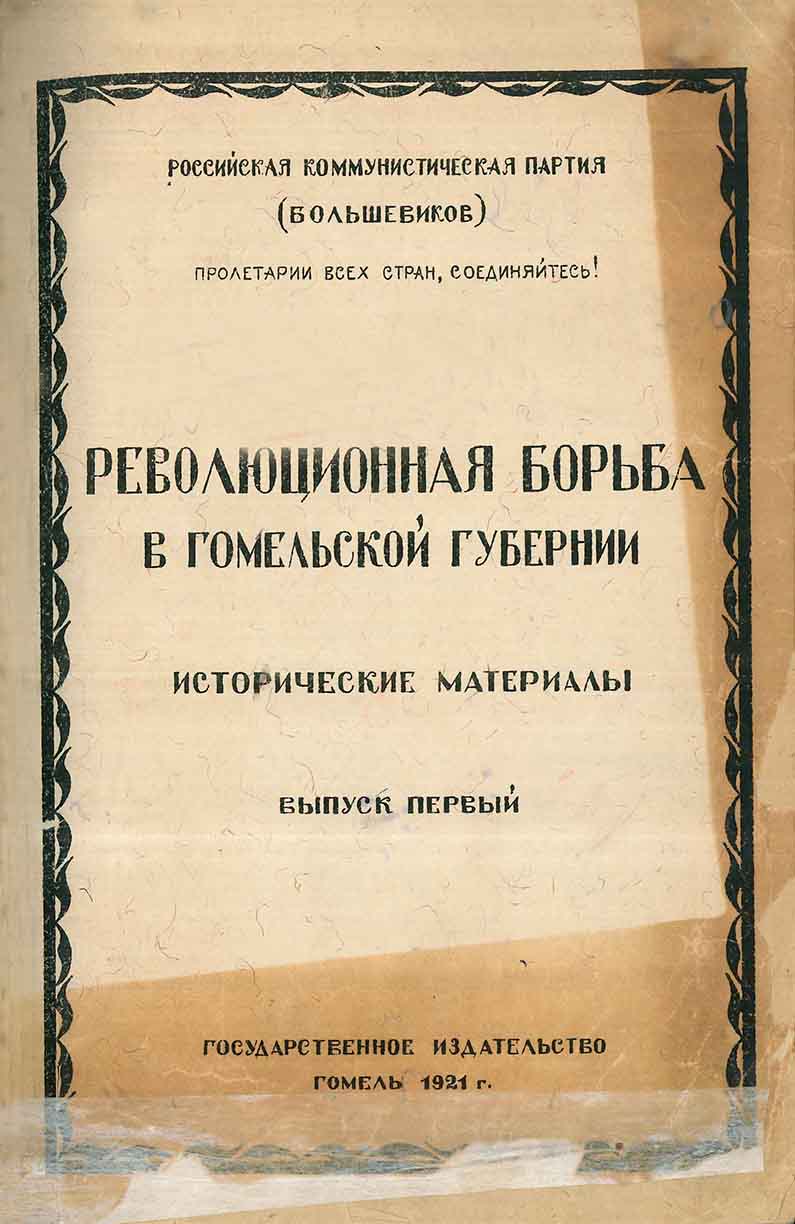
Но самое примечательное в этом постановлении – дата. Еще во второй декаде марта «...выяснилось, что на полесском [ж.д.] узле был организован подпольный комитет, именовавший себя Комитетом "Учредительного собрания", возглавляемый царским офицером Стрекопытовым, который об'единял все анти-советские силы в Гомеле, ведя черносотенную агитацию среди воинских частей, деморализуя их настроение, и подготавливая их к свержению Советской власти», – рассказывает в своих воспоминаниях гомельский комиссар продовольствия (репрессированный в 1937-м году) Василий Селиванов. Разгорался т.н. «стрекопытовский мятеж», – бунт принудительно мобилизованных и не обеспеченных продовольствием, а также не желавших подчиняться «жидовским комиссарам» красноармейцев, возглавленный бывшим штабс-капитаном царской армии и меньшевиком («у меня был партийный билет РСДРП за 1918 год» – см. Такоева) Владимиром Стрекопытовым. – «Еще во время заседания Укома [уездного комитета РКП], происходившего около 5 часов дня 21 марта, начали поступать сведения, что милиция по городу разоружается повстанцами. Нам пришлось прекратить обсуждение других вопросов, передав их на разрешение военного штаба, и немедленно приступить к сбору членов Р. К. П. и их вооружению. По городу носились самые разнообразные слухи, – одни говорили, что повстанцы устраивают погром на Замковой улице, другие, что разоружается милиция, третьи, что повстанцы движутся колоннами в город; точно ничего никто не знал»; «утром 22 марта по Замковой улице и по другим прилегающим улицам к станции начался поголовный грабеж населения» (в первую очередь, как доносят источники, конечно, «жидов»). «Казарменным помещением, куда должны собраться все коммунисты и откуда получать дальнейшие распоряжения, наметили гостиницу "Савой"» (Селиванов)... В этой гостинице, в числе других большевистских организаций, кружков и театра, располагались Дворец труда и Отдел труда Губисполкома.
Итак 23 марта гомельские «Известия» еще делают вид, что ничего не происходит. На первой полосе газеты статья ее редактора Н.С. Билецкого (П.С. Езерского) «Обязанности советского Гомеля по отношению к красному фронту» – «Гомель находится под непосредственной угрозой польско-белогвардейских банд». «Наша задача – не попасть под агонизирующий взмах контрреволюции и не дать умирающему врагу натворить напрасных бед. И тот, кто не боялся врага сильного и живого, тот не испугается и его предсмертного хрипения и сжимающихся в последней судороге когтей.» «Положение пока не требует от нас ничего, – полагает Билецкий, – кроме обеспеченности тыла и зоркого контроля за черной сотней, всегда во время наших неудач поднимающей голову.» Других полесских коммунистов, судя по газете, еще заботили, как Цибарта и Комиссарова, сведения о наемных работниках и т.п.
А днем позже, 24 марта 1919 г. «стрекопытовский мятеж» достиг апогея. «В городе творилась такая вакханалия, которую может себе представить только переживший эту "историю"»; «в процессе всей этой вакханалии наши товарищи в "Савой" самоотверженно отбивались от наступающих повстанцев, не думая сдаваться...» (Селиванов). В конце концов, подтянув в парк дворца Паскевичей артиллерию, мятежники почти разбивают «Савой», рушатся перекрытия, и оборона сломлена. Коммунаров, с издевательствами и побоями, препровождают в тюрьму. Двенадцать из них казнены. В числе прочих погибли и Николай Билецкий – «он не убит, а добит прикладами, спогами, штыками» (Известия... 29 марта), – и предревкома Семен Комиссаров.
|
«Безжалостная, подлая рука убийц вырвала из наших рядов лучших, стойких вождей – борцов за рабочее дело. Нет слов для выражения тех леденящих душу ужасов, которые были учинены над нашими погибшими товарищами. Как боролись они и как сложили свои гордые головы – это знает Гомельская Бастилия – Савой, улицы Гомеля и весь мыслящий передовой пролетариат города. Маленькая горсточка коммунаров в 200 человек, наполовину вооруженная при одном пулемете, героически выдержала 24 часовую осаду несколько тысячной раз'яренной, ослепленной, спровоцированной толпы бандитов. Несмотря на пребывание в осажденном Савое значительного числа женщин, обстрел и канонада велась в самом ожесточенном виде и только когда часть потолков 3-го этажа рухнула и непосредственная угроза гибели под обломками рушащегося здания стала вопросом минут, наши товарищи вступили с мятежниками в переговоры. Но и тут наглые авантюристы-погромщики доказали низость, подлость и мерзость своих душ... Весь путь до гор. тюрьмы сопровождался жестоким избиением, издевательством и ограблением. К приходу в тюрьму не было неизбитых и изувеченных в пути. А пытки в тюрьме...» «И в завершение этой дикой, бесшабашной оргии и вакханалии, преступная, разбойничье пьяная банда погромщиков-громил, убивает всех наших передовых, испытанных вождей! Кровь стынет в жилах при мысли о том, как дерзновенная рука лихих наемников-убийц, кровожадных спрутов, поднялась на наших чистейших, идейных борцов!» (Известия Гомельского... 31 марта 1919, Н. Элинсон). |
По-видимому, на оборону «Савоя» едва прибывший в Гомель Цибарт, направленный высокими московскими товарищами, мобилизован не был.
25 марта – в городе повальные грабежи и убийства, фактически еврейский погром.
29 марта мятеж Стрекопытова был с помощью подошедших красноармейских частей подавлен. (В подавлении мятежа участвует отряд Иосифа Адамовича – с ним через год будет тесно связан Цибарт.) «Еще не успевшие остыть дорогие нам, зверски замученные трупы наших товарищей – вопиют о мести. За каждого убитого нашего вождя – черная сотня "Белокопытчиков", прихлебателей Петлюры, Скоропадского и проч. дворянско-буржуазной дряни. Мы должны беспощадно отомстить этим проклятым негодяям», – продолжает автор цитированной заметки Н. Элинсон.
Нет сомнения, что именно так и поступили. Как и «белокопытчики», если не более того, идейные и чистейшие душой большевики не делали свое дело «в белых перчатках». Гимназический революционный романтизм, логикой вещей, вступил в фазу реально чинимых зверств. Еще 5 сентября 1918 г. СНК РСФСР постановил, в числе прочего, что «подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам» – «красный террор» вступил в силу официально (и на практике предполагал также массовые расстрелы заложников, т.е. лиц даже и не «прикосновенных»). В.Р.Т. (Военно-Революционный трибунал), – поясняется в номере гомельских «Известий» от 4 апреля, – этот «законный суд, организованный властью, освобождающий невинных и строго, без пощады карающий виновных» – обязан был «применять лишь такие меры наказания, как пожизненные общ. работы или расстрел»... «По возвращении своем в Гомель, бывшие хозяева принесли кровавую гекатомбу из лиц, в большинстве своем даже не принимавших никакого участия в восстании»; были расстреляны 158 человек (см. Такоева).
Об этих событиях А.А. в своей (краткой) автобиографии ничего не сообщает – видимо, в то время сами место и дата еще достаточно говорили за себя.
...Сложные чувства приходится испытывать автору настоящего очерка, обнаруживая имя своего родственника, столь близкого и знакомого по самым теплым домашним воспоминаниям, в гуще гомельских «идейных борцов»... Для нас отрадно то, впрочем, что функции Цибарта как «комиссара труда» не имели прямого отношения к функциям ЧК, как и то, что в Гомеле к началу описанных быстротечных событий он пробыл лишь несколько дней.
Может быть, именно в Гомеле и сложилась, парадоксальным образом, фанатичная партийная лояльность А.А. Для человека его душевного склада, совершенно лишенного как физической жестокости, так и цинизма, было бы немыслимым оказаться причастным, хоть и невольно, к безмерным революционным злодеяниям, не заставив себя поверить в какую-то их высшую сакральную санкцию...
В эти дни «На чрезвычайном заседании Исполнительного Комитета Гомельского Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов, совместно со всеми ответственными работниками, и начальниками военных отрядов избран военно-революционный комитет, в составе 5 человек: т.т. Гуло, Кацаф, Володько, Цырлин и Селиванов»; постановлением исполкома и временного военного революционного комитета утверждаются новые назначения, и в том числе т.т. Цибарт и – теперь уже – некто Грановский назначаются на должность заведующего (заведующих) отделом труда губисполкома. Этот приказ ВРК и исполкома помещают гомельские «Известия» 31 марта 1919 г.

В начале апреля 1919 г. гомельские губком РКП(б) и исполком губернского Совета переезжают во «флигель отдела народного образования» в «замке кн. Паскевича» (видимо, правый – трехэтажный – флигель полуразрушенного в результате войны дворца Румянцевых–Паскевичей, главной гомельской достопримечательности). Собрания партийных ячеек и пр. продолжают проходить в т.ч. во Дворце труда (1-й этаж также полуразрушенной «стрекопытовцами» гостиницы «Савой»).
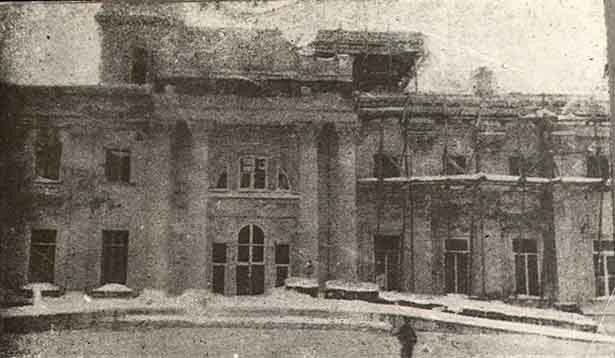
Разрушенный дворец Румянцевых – Паскевичей, зима 1919
Фото с сайта: Гомельская правда, 07.10.2013 gp.by/regionsfact/society/news26711.html


"Российская коммунистическая партия.
Полесский комитет Р.К.П. переместился в замок Кн. Паскевич (флигель отдела нар. образования, 2-й этаж"
("Известия Гомельского...", 4 апреля 1919 г.). Современные фото

"В воскресенье, 6 апреля, в 4 ч. дня состоится СОБРАНИЕ в Отделе Труда (Румянцевская ул., Д. Труда) всех президиумов коммунистических ячеек при профес. союзах гор. Гомеля. В порядке дня: важные вопросы. Присутствие всех обязат. Полесский комитет"
("Известия Гомельского...", 4 апреля 1919 г.). Здание бывш. гостиницы "Савой", 1917 г. Фото с сайта Left.by
13 апреля – «обязательное постановление № 14»: об объявлении праздничных дней еврейской Пасхи 15 и 16 апреля для еврейского населения, праздничных дней русской Пасхи 20, 21, 22 апреля – для русского населения. Подписи: Председатель Исполкома [Даниил] Гуло, Заведующий отделом труда Цибарт. Пасха, таким образом, в Гомеле 1919-го года еще признавалась официально, причем с учетом вероисповеданий.

24 апреля 1919 г. гомельский губисполком избран официально. А.А. Цибарт – член первого гомельского губисполкома (см. на фото).
«Из протокола заседания Гомельского губисполкома:
Присутствовали: Гуло, Хатаевич, Панченко, Ковалев, Грановский, Сеглин, Бондаренко, Цибарт, Строганов, Володько.
1. Слушали: Доклад об организации губисполкома и утверждении членов губисполкома.
Постановили: Единогласно утверждены: Хатаевич, Гуло, Строганов, Цирлин, Цибарт, Онуфриев и Лашкевич (при еще одном воздержавшемся)» (цит. по: Такоева).

Члены Гомельского губисполкома. 1919 г. 3-й слева в верхнем ряду – А. Цибарт.
3, 4 и 5 слева в среднем ряду – И. Сурта, А. Ханов и М. Хатаевич.
Место съемки, видимо, флигель дворца Паскевичей.
На стенах портреты Маркса, Ленина, Троцкого, Каменева (?) и два неустановленных.
(Фото с сайта http://gp.by, 27.01.2015 / Гомельская правда, архивист Мария Алейникова)
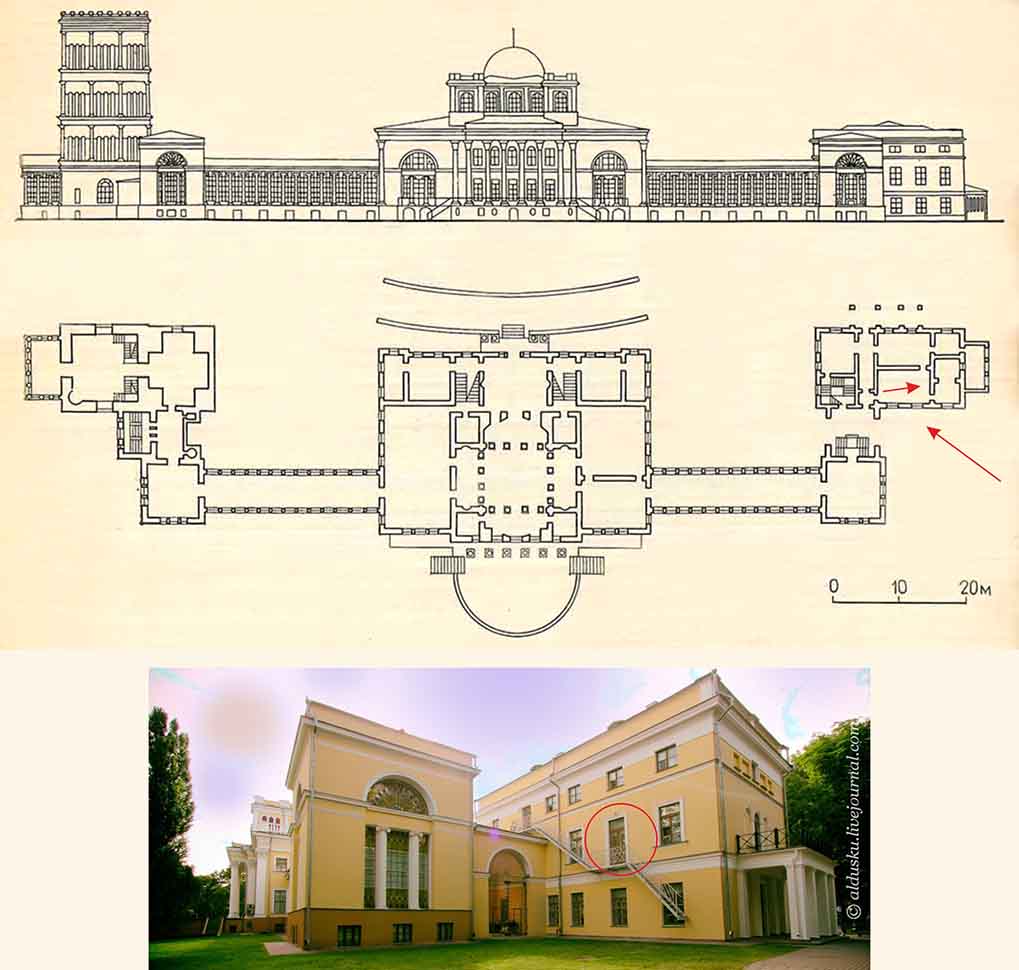

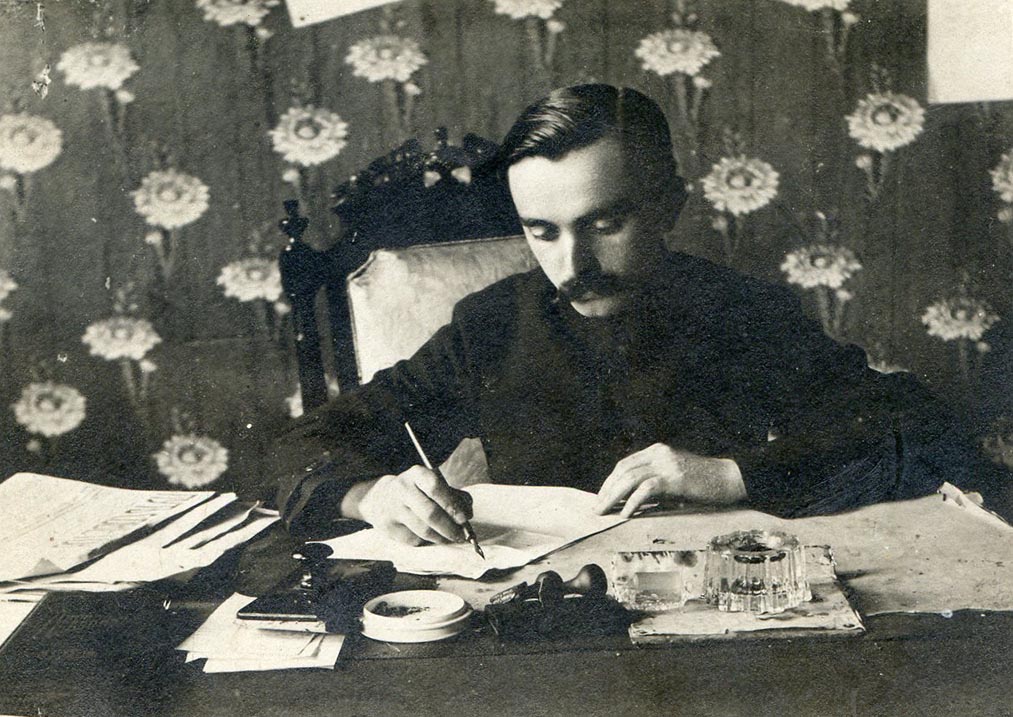
А.А. Цибарт. Гомель, 1919-1920 (?)
В кабинете руководителя: на столе две печати, перо в руке А.А. занесено над левым верхним углом листа, лежащего наискосок – так накладываются резолюции на подготовленные документы. Внешний облик и тот же френч, что и на фото Гомельского губисполокома. Неподходящие официальному заведению цветастые обои – кабинет находится в реквизированном здании (Дворец труда в бывш. гостинице "Савой"?)
26 апреля 1919 г. была образована Гомельская губерния РСФСР, происходит реорганизация местной партийной и советской администрации. На доминирование в ней претендует группа товарищей из Могилева, поддержанных Москвой, и Цибарт для местных советских работников ассоциировался с этой группой.
В мае 1920-го года с польского фронта в Гомель прибывает Троцкий. Можно быть уверенным, что на его гомельской речи комиссар труда Цибарт присутствовал.
|
«На центральной Базарной площади, где он [Троцкий] должен был выступить, собралось около 10 тысяч народа. Тут были старики и подростки, красногвардейцы и домашние хозяйки, рабочие и крестьяне, специально приехавшие в город, чтобы послушать "самого́" Троцкого. Все крыши, все фонарные столбы, все окна, выходившие на площадь, были усеяны людьми. Так стояли, стиснувши друг друга, около двух часов, пока, наконец, тысячеголосое "ура" не оповестило о появлении автомобиля с Троцким. Сойдя с машины, он взобрался на самодельную дощатую трибуну. ... Выступление продолжалось беспрерывно более двух часов. Никакими конспектами и бумажками он при этом не пользовался. Речь текла плавно и образно, не прерываясь ни заминками, ни даже случайным кашлем. Говорил он о советско-польских отношениях. Дав подробный анализ развития независимости послевоенной Польши и тех причин, которые привели к советско-польской войне 1920 года, Троцкий закончил свою речь (можно сказать, лекцию) знаменитым призывом польских конфедератов: "Братья поляки! За нашу и вашу свободу, против наших и ваших врагов!" Эти слова потонули в буре аплодисментов и криков "Ура, ура!"» (из воспоминаний Моисея Герчикова; цит. по: Такоева). |
25 мая 1919 г. в Гомеле состоялся 1-й Гомельский губернский Съезд Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов. «...С"ехалось около 300 делегатов, из которых 200 принадлежат к коммунистам и сочувствующим. / Открывает С"езд т. [Иван] СУРТА, обратившись к последнему с приветственным словом. Музыка играет Интернационал. Все встают. / Затем с приветственными речами выступает от Коммунистической партии т. [Александр] ХАНОВ, от Красной армии т. [Давид] ГУРЕВИЧ, от рабочих организаций т. ЦИБАРТ, от партии Поалей-Цион т. СТЕРЛИН, от железно-дорожного пролетариата т. ЛЮЦЕРН. / Вынесено предложение избрать почетными председателями С"езда т. ЛЕНИНА, т. ТРОЦКОГО и т. БЕЛАКУН, которые единогласно и при восторженных возгласах и при звуках Интернационала приняты...» (Протокол Съезда, см.: Архивы Беларуси.) Цибарт – в числе пяти важнейших деятелей, включая председателя губкома Ханова, обратившихся к Съезду.
27 мая на заседании пленума гомельского губернского комитета РКП(б) с представителями уездных комитетов губернии А.А., в числе прочих, избирается (переизбирается) в Гомельский губисполком; набирает 18 голосов из 28. Продолжал отправлять должность заведующего отделом социального обеспечения и труда губисполкома. Также работал заместителем председателя гомельского губпрофсовета (губернского совета профессиональных союзов).
21 января 1920 г. открылся 2-й Гомельский губернский Съезд Советов (см.: Архивы Беларуси), А.А. Цибарт входит в его президиум. В числе прочих партдеятелей он обращается к съезду со следующей приветственной речью:
«От польских рабочих и крестьян – тов. ЦИБАРТ.
Польские рабочие и крестьяне до сих пор еще стонут под игом своих угнетателей. Если мы здесь имеем возможность сами управлять своей судьбой, то там по-прежнему воля рабочих и крестьян попрана помещиками и панами. Польский пролетариат с величайшей жаждой воспринимает все наши победы и не далеко то время, когда польский пролетариат возьмет власть в свои собственные руки. Польский пролетариат уже неоднократно выражал твердую волю итти по тому же пути, по которому идет русский пролетариат. Каждые новые успехи Красной Армии являются новой силой, которая побуждает польских рабочих и крестьян сбросить иго польских панов, сильней и крепче взять винтовку в свои руки.
Да здравствует всемирное восстание трудовых масс.»
Тут можно скептически оценить ту степень, в какой Цибарт, хоть и происходил из лодзинской рабочей семьи и носил крестьянское звание, был полномочен представлять польские революционные пролетариат и крестьянство. Неслучайно его речь состоит из самых общих фраз. Видимо, в гомельском губисполкоме прямых представителей этих слоев польских трудящихся на тот момент не было... Не столь сильны космополитически-революционные настроения были на самом деле и в самой Польше – родные паны-эксплуататоры оказывались несознательным польским трудящимся ближе безнациональных эксплуатируемых масс (что вскоре показал и провальный поход Тухачевского на Варшаву, рассчитывавший именно на поддержку местной бедноты). Теория классиков марксизма об обязательном одновременном крушении капитализма «во всех цивилизованных странах» на практике не срабатывала, и ей приходилось помогать блефом.
На съезде А.А. Цибарт вновь избирается в состав гомельского губисполкома.
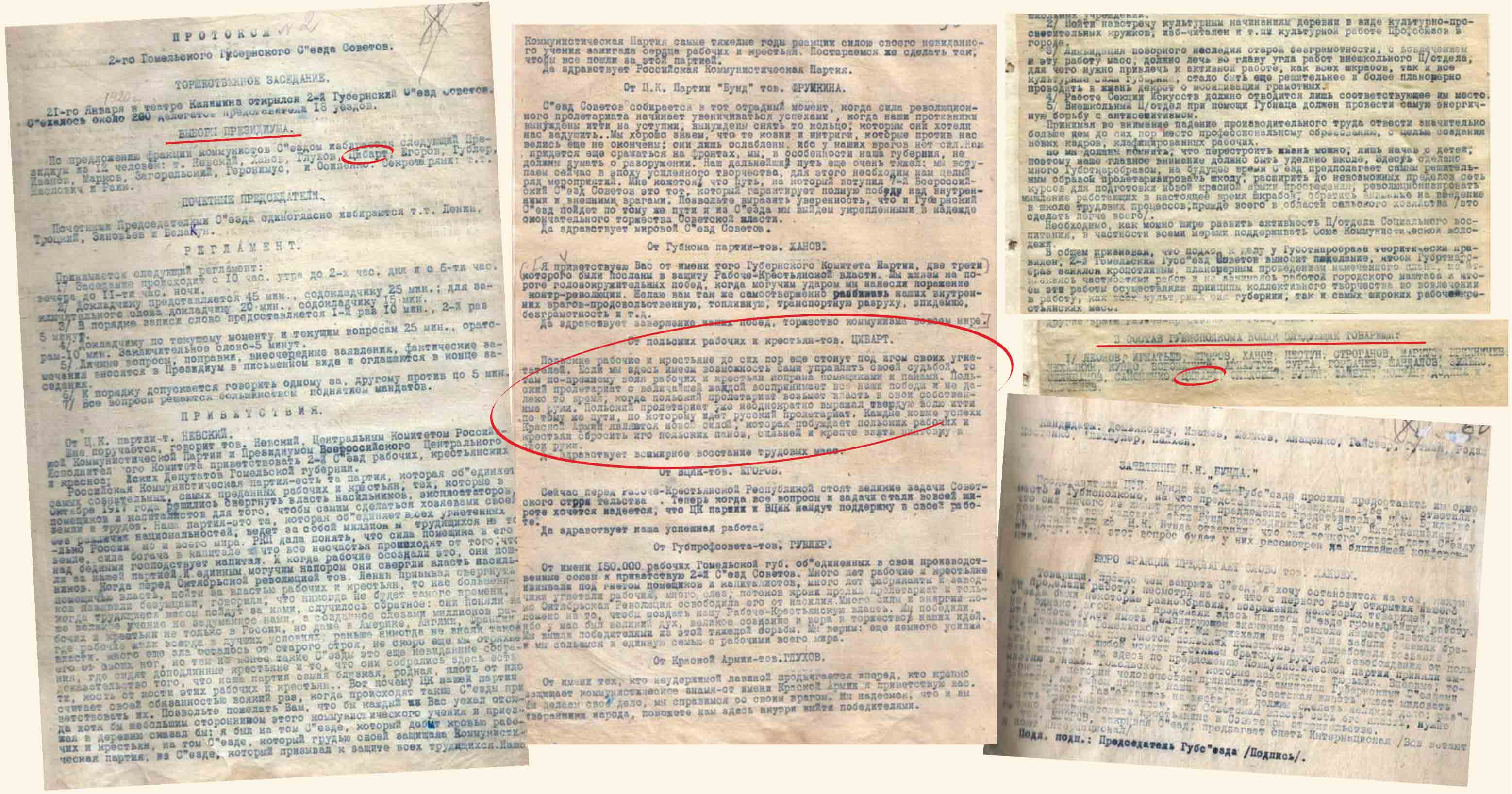
...Крупнейшим из партийных деятелей, коллег А.А. по Гомельскому губисполкому в это время, был уроженец Гомеля, член РСДРП с 1913 года М.М. Хатаевич – после Кагановича, главный борец за установление в Гомеле советской власти, председатель Полесского комитета РКП(б). (С 1930 г. Мендель Хатаевич – член ЦК ВКП(б), в 1932–1937 годах – член Политбюро ЦК КП(б) Украины, его считают ответственным за «голодомор»; в 1937 году расстрелян.) В результате реорганизации, председателем Гомельского губкома РКП(б) с апреля 1919 по июль 1920 г. был А.М. Ханов (член РСДРП с 1907 г.), какое-то время в 1919 году на этой должности был И.З. Сурта (в 1937 году член Президиума ЦИК БССР, В 1936–1937 президент АН БССР, расстрелян). Хатаевич был оттеснен на вторые роли в руководстве губернией и вскоре на некоторое время Гомель покидает...
«По партийной линии, – сообщает о себе А.А. на комиссии по партийной чистке в 1933-м году, – был все время членом бюро Губкома и заведывал Польской секцией Губкома по введению закордонной работы.» Видимо, под «введением» закордонной работы имелось в виду – начало работы; о том, в чем она состояла и насколько далеко продвинулась, ничего не известно. Но и работа с поляками в пределах Гомельской губернии, которую также вел Цибарт, была затруднена, так как, в отличие от большой и активной еврейской секции, у секции польской на тот момент фактически не было сотрудников, хотя бы владевших польским языком, не имелось и достаточных средств.
Были у А.А. и заботы по линии еврейской секции Губкома: «За время работы в Гомеле (1918 [1919] – 1920 г.) пришлось вести борьбу с бундовцами и еврейским национальным движением».
Меж тем в годы советско-польской войны работа с польским национальным меньшинством, как и с польскими военнопленными, была для советской власти насущно необходимой. В марте 1919 г. на VII съезде РКП(б) было создано Польское бюро агитации и пропаганды в составе Агитпропотдела ЦК РКП(б), начали создаваться местные отделы Польбюро в губкомах, укомах и союзных республиках. Попытки агитационной и культурной работы с польским населением в Гомельской губернии (в т.ч. открытие курсов, библиотек, школ) предпринимались губкомом и до организации Польбюро, и после его учреждения в Гомельском губкоме в октябре 1919 года. По меньшей мере в период после марта 1920-го года до своего отбытия в Минск в июле, Цибарт вместе с тт. Аранаутовым [Василием Арнаутовым?] и Егоровым, как об этом упоминается в «Известиях» Гомеля (1920, № 3) командируется «для проведения уконференций [уездных конференций] и другой организационной работы» в Речицкий уезд (преимущественно польский по составу населения).
В гомельский период, очевидно, А.А. знакомится с уроженцем Речицы Захаром Владимировичем Малинковичем, фабричным столяром, освоившим грамоту в 18 лет, членом РКП(б) с сентября 1917 г., в 1918-1919-х гг. заведующим Биржи труда в Речице и будущим крупным чиновником-хозяйственником (с 1932 по 1935 гг. зав. сектором лесной промышленности ЦК ВКП/б/, с 1935 по декабрь 1937 г. начальник Главзапбумпрома, и пр.). Захар Малинкович – друг семьи А.А., и в дальнейшем, с конца 1937-го и до своей гибели на фронте в 1942-м году, в событиях, связанных с арестом и отбыванием срока заключения А.А., он сыграет в судьбе А.А. особую, прямо-таки загадочную роль. О ней будет подробно рассказано в своем месте.
Кстати, говоря о возможных гомельских знакомых Цибарта. – В дневнике А.А. за 1937-й год, за несколько месяцев до очевидно приближающегося ареста, встречаются фамилии (вероятно) некоторых коллег А.А. гомельского периода – в списке тех, к кому он мог бы обратиться за помощью; видимо, они работали в это время в Москве и занимали достаточно влиятельное положение. В частности, Постановление от 25 апреля 1919 г. («наниматели домашней прислуги временно никаких отчислений в подотдел социального обеспечения и охраны труда не делают» и пр.), подписано: «Комиссар труда Цибарт. Завед. Отд. Соц. Обезп. и Охр. Труда Шагас. Управляющий делами Юдицкий» (курсивом – товарищи из этого списка). Не все фамилии из списка индентифицированы, так что среди московских товарищей А.А. в нем могут быть и другие гомельчане.
|
...Что касается еврейской проблематики. – Современные исследователи Гершанок и Райский (см.) пишут: «Откровенно антисемитская политика белых, гайдамаков, петлюровцев в 1918–1919 гг. вселила в сознание большинства еврейского населения города веру, что в условиях гражданской войны Советская власть даст какие-то гарантии безопасности евреям»; «еврейская молодежь массово (по мобилизации и добровольно) шла в отряды Красной Армии», и т.д. Действительно, в гомельских Известиях, по горячим следам мятежа, всколыхнувшего неожиданную для космополитической пролетарской власти ненависть «многих рабочих и крестьян» к «жидам» и «комиссарчикам», со всей страстью осуждается «самое отвратительное, самое гнусное наследие, доставшееся нам от проклятой памяти российского самодержавия – это так называемый антисемитизм, а по русски просто жидоедство». Однако, продолжают указанные авторы, «об истинных целях административных и партийных органов в решении еврейского вопроса, и прежде всего еврейского самоопределения, говорят следующие факты: в Гомеле оказались разгромленными все формы внутренней еврейской жизни, в 1919 г. – ликвидирована городская еврейская община, закрыты большинство еврейских общественных организаций, запрещены все городские организации еврейских политических партий за исключением организаций еврейской Коммунистической партии и Поалей Цион [иначе ЕСДРП – еврейская социал-демократическая рабочая партия]»; вскоре исчезнут и они. Конкретно «борьба с бундовцами» имела тогда специфический характер – сам Ленин был склонен «отыскивать с ними компромисс», а внутри Бунда (Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России) создаются коммунистические ячейки, «Еврейский коммунистический бунд», выступающий за слияние с РКП(б) (см., напр., «Известия Гомельского...» от 12.03.1919, с. 3). В 1920-м г. левое крыло Бунда вливается в РКП(б). Таким образом, это была борьба не на уничтожение, а за перетягивание бундовцев в РКП(б). Гомель был ее передовой линией. Здесь находились ЦК Бунда, как и ЦК евсекции (еврейской секции) РКП(б), проводившей «политику разоблачения» других еврейских партий «перед широкими массами». Степень насилия РКП(б) по отношению к этим партиям, естественно, быстро нарастала: «В огне великой пролетарской революции без следа сгорает автономизм, старые организационные формы и заплесневелые идеологии, оставшиеся еврейскому пролетариату в наследие от прежних времен...», «Мы знаем, что Бунд тоже придет в Р.К.П. Но, может быть, они придут слишком поздно. Пусть же они знают, что опоздавшим не будут прощены и их прошлые грехи», и т.д. («Известия Гомельского...» 1920, № 2). Вся национальная программа Бунда сводилась к установлению культурной еврейской автономии внутри страны, но и этого было для большевиков чересчур: «местные большевистские партийные и советские органы власти в борьбе с еврейскими партиями применяли откровенно репрессивные меры. Клуб, построенный на средства раббундовцев и принадлежавший ЦК Бундовской партии в Гомеле, был реквизирован, выпуск бундовской газеты – запрещен. 21 июля [1919 г.] и вовсе принимается решение об усилении борьбы с "буржуазно-националистическими взглядами" Бунда. Позже, в связи с ликвидацией всех институций еврейской общины города, как и еврейских общественных и партийных организаций, их имущество и средства передавались местным организациям еврейского комиссариата» (см. Гершанок, Райский)... Какую точно роль играл во всей этой политике Цибарт, неизвестно. Во всяком случае, каких-либо его заметок в гомельских Известиях, где их естественно было бы встретить, как и чьих-либо печатных упоминаний об этой стороне его деятельности, не обнаружено. Но такие материалы могут иметься в Гомельском архиве. Вряд ли стоит разъяснять, что тогдашняя большевистская деятельность в национальном вопросе, при всей ее противоправности, была так же далека от ксенофобии (юдофобии), как и, скажем, от «сионистского заговора». Это был классический «пролетарский интернационализм». Правда, начавшаяся почти сразу кампания «белорусизации» в соседней тогда Белоруссии показывает, что самые основополагающие марксистские догмы имели для большевиков мало значения, уступая в важности политическим расчетам. Так или иначе, ничего подобного какой-либо ксенофобии даже близко нет и в характере А.А. В 1930-х годах подход партии собственно к «еврейскому вопросу» оставался точно таким же, как и в первые послереволюционные годы, хотя и среди членов партии (рядовых) бытовой антисемитизм все еще приходилось искоренять. Так, 15 февраля 1931 г. на бюро парткома МММИ им. Баумана (в бытность Цибарта директором института и членом парткома), разбирают дело о проявлении антисемитизма «со стороны членов партии Бурдина и Хоменко по отношению к кандидату в члены ВКПб т. Френкель», причем коммунист «т. Борисов не сигнализировал». «Все эти три коммуниста /Бурдин, Хоменко и Борисов/ в бытовой обстановке потеряли лицо членов партии, избрав мишенью явно антисемитских насмешек т. Френкель, об"ективно тем самым встав на сторону наших классовых врагов в вопросах национальной политики партии» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 7, л. 15). Разумеется, как и в прежние годы, это ни в коей мере не отменяло задачу борьбы с любой религией: на заседании комиссии по чистке партии в МММИ в октябре 1933 г. студенту-большевику М.А. Шапиро припоминают имевшийся у него выговор за то, что в свое время тот «дал разрешение на обрезание сына», и исключают из ВКП(б) (ЦГАМ ф. П-84, оп. 1а, ед. хр. 209, л. 88об). |
В 1920-м году губком и губисполком подвергаются критике губпартконференции за «расшатанность партийного и советского аппарата», вскоре состав гомельского руководства в очередной раз обновляется. К началу мая 1920 г. в руководстве губернии назрел конфликт; новые люди, борясь с прежними за влияние, формально ведут «борьбу с расхлябанностью, разгильдяйством, пьянством и преступлениями среди ответственных коммунистов, советских работников губернской верхушки». Кампания начинается с «дела» члена коллегии губернского Совнархоза Абрамовича, продолжается... «делом Цибарта», затем идут и другие «дела» (все сведения и цитаты см. Елизаров; подробности и исходы «дел» автор не сообщает). Этой истории касается сам А.А. на парткоме МММИ им. Баумана 22 июля 1937-го года: «Я был членом Губкома в Гомеле. У меня в кабинете нашли спиртные напитки и реквизированные книги, которые я не знал [не сдал] в Наробраз. Была комиссия из членов Губкома. Вопрос разбирался в Губкоме в мое отсутствие, где было записано о том, чтобы меня полностью реабилитировать».
Как бы то ни было, центральные партийные органы значения «делу Цибарта» – если вообще знали о нем – не придали. Скоро, в июле (или августе) 1920-го, следует новое назначение – перевод на весьма высокий пост в организующейся советской власти в Белоруссии, в Минск.
В гомельский период никаких связей с родными в Польше у А.А. нет: «о судьбе моих родных я не знал до работы в Минске, где я узнал, что они живы. Как удалось мне это узнать я не помню» (заседание парткома МММИ им. Баумана 22 июля 1937 г.).
В том же 1920-м году – чрезвычайно важное событие для внутренней биографии А.А.: романтическое знакомство с Ольгой А. Адамович. Неизвестно, произошло ли это еще в Гомеле или уже в Минске. Можно сказать лишь, что в 1930-х гг. она жила именно в Гомеле: в следственном деле А.А. имеется письмо от нее от 7 декабря 1936 г. с обратным адресом «Гомель, Кооперативная 68, Управление Белорусской ж.д., Грузовая служба» (ЦА ФСБ РФ, АУД Р-24817 т. 1, л. 277 /в перепечатке/). Минская версия этим, конечно, не исключается.
Письмо это – совершенно личного характера. «Долик мой, милый мой, ненаглядный, радость моя... Люблю тебя какой ты есть – со всеми достоинствами и недостатками... Долик милый, ты завладел мной окончательно. Ты целыми днями один в моих думах. И ложась с вечера и просыпаясь по утру еще далеко до рассвета, я грежу о тебе... Это какая-то болезненная жажда... Я похудела и ослабла. Мне говорят, надо лечиться. Врач прописал уколы мышьяка со стрихнином... Это ты передал мне часть того огня, которым горит новое существо. Ты зажег этот огонь и покинул его»... Также имеется в деле и неотправленное письмо (а скорее черновик письма) самого А.А. к Ольге Адамович от 8 августа 1937 года, писанное в дни травли перед арестом и острого семейного разлада (и когда его супруга, увлеченная, как подозревал А.А., его коллегой по работе В.Д. Шевцовым, «все время говорит о разводе»): «Твоя любовь была для меня непонятна, какой-то неестественной, идеальной, но в отношениях между нами, если их продумать, так много непонятного, неестественного и тем не менее глубоко-реального, чистого...»; «была сделана ошибка в жизни, что я не пошел с тобою по одному пути, не женился еще в 1920 году, когда судьба мне прямо указала на тебя» (ЦА ФСБ РФ, АУД Р-24817 т. 1, лл. 105-107 /в перепечатке/)... Вообще переписка с Адамович велась, самое позднее, с 1932–го года (время директорства А.А. в МММИ им. Баумана), прерываемая «длительными полосами молчания», понятными в ситуации А.А.; в эти годы она и сама бывала в Москве, и даже несколько раз посетила квартиру А.А. Для маленькой Светы, младшей дочери А.А., она «тетя Оля».
Бывал по службе в Москве (в письме О.А. – «проездом из Москвы в Пермь»), и контактировал с А.А., младший брат Адамович. Имя его, к сожалению, установить не удалось.
В дневнике А.А., перепечатанном и хранящемся в его следственном деле 1937–1938 гг., фамилия (Ольги) Адамович везде следователем подчеркнута, а ее интимное письмо к А.А. и его к ней подшиты к делу, в оригиналах и перепечатке. В письме А.А. к Адамович (черновике или неотправленном) следствием отмечена в т.ч. его фраза о возможном «общем пути» с нею. Заметно, что эта связь представляла для следствия какой-то особый интерес. Напрашивается предположение, что О.А. Адамович приходилась сестрой, кроме упомянутого младшего брата, также Иосифу Александровичу Адамовичу (1896–1937) – видному большевистскому деятелю Белоруссии, принимавшему, в числе прочего, участие в подавлении Стрекопытовского мятежа, затем, после взятия Красной армией Минска 11 июля 1920 года, решением Литовско-Белорусского ЦК вошедшего в Минскую «губернскую парттройку» (Кнорин, Адамович, Червяков). Задачей «тройки» было формирование советской власти в Белоруссии, и уже в июле высокий пост в этой власти занимает Цибарт (хотя неизвестно, подобран ли он на этот пост «тройкой» или переведен непосредственно ЦК РКП(б)). В Минске, безусловно, Цибарт имел с Адамовичем деловые и личные контакты, как имел самые тесные контакты (что засвидетельствовано в имеющихся материалах) и с Червяковым и с Кнориным. Да и вообще, по воспоминаниям жены Адамовича (с 1921 г.) Шамардиной (см. Соф'я Шамардзина), все персоны в этой вновь созданной советской белорусской администрации как минимум знали друг друга в лицо. В этих же ее воспоминаниях сообщается, между прочим, что в начале 20-х годов Кнорин и Адамович (а также секретарь ЦИК В.В. Ашмарин – см. Иоффе) жили в Минске на одной квартире, и в этой же квартире жили две младшие сестры Адамовича. Самостоятельность и особость жизненых путей всех членов семьи Адамовичей Шамардина особо подчеркивает. К сожалению, Шамардина называет имена не всех сестер И.А. Адамовича, так что неопределенность остается... Если одной из них была Ольга, то, в этот поворотный год своей судьбы, связанный в т.ч. и с Адамовичем, А.А. мог ощутить свою встречу с ней так, как написал ей в своем письме: «судьба прямо указала на тебя»...
Не исключают этого родства и последующие обстоятельства. С мая 1927 года И.А. Адамович живет и работает в Москве – член президиума ВСНХ СССР и председатель Сахаротреста СССР; в Москве же в этот период, директором Директората текстильной промышленности ВСНХ РСФСР, работает и Цибарт. В это время общение А.А. с Ольгой Адамович, прерванное отъездом А.А. из Минска в Москву, могло восстановиться – она могла останавливаться в Москве у брата. С 1934 года И.А. Адамович – начальник Акционерного Камчатского общества (АКО), но, опять же, имевшего и московскую контору.
За полгода до ареста Цибарта, 22 апреля 1937 года, И.А. Адамович, попавший (вслед за старшим братом Владимиром, советским военачальником) в разработку НКВД по делу о «принадлежности к право-троцкистскому центру», застрелился. Такая связь Цибарта, понятно, не могла быть проигнорированной НКВД. Однако о возможном родстве Ольги Адамович с В.А. и И.А. Адамовичами в документах дела ничего не говорится, и тесное знакомство с ней в вину А.А. не вменяется: либо потому, что было выяснено, что О.А. все-таки не имела к ним отношения, либо в связи с тем, что дело ускользнувшего от расправы И.А. Адамовича решено было закрыть (в мае 1938 г. оно было закрыто), и его родных решили оставить в покое.
В те годы (с мая 1917 г.) «столица Западного фронта» Минск, по неудачному – или, скорее, слишком удачному выражению секретаря Центрального бюро КП(б) Белоруссии В.Г. Кнорина – «горел ярким факелом большевизма». «Осень 1917 года с действенной пропагандой захвата помещичьих земель, проведенного в первые же дни Советской власти немедленно после опубликования Декрета о земле, раньше, чем в других частях РСФСР, что было возможно благодаря солдатским силам фронта, привлекла самые широкие крестьянские массы на сторону большевизма и дала на выборах в Учредительное собрание головокружительные результаты: по всей Белоруссии наша партия получила 90% голосов.»
(Кнорин с его убеждением, что все, что ни сделают большевики себе на пользу, тем самым хорошо, бывает замечательно откровенен.)
Вдаваться в последующие события ближайших лет – немецкой и польской оккупации Минска, распри белорусских и польских национальных группировок, противостояние тех и других большевикам, бундовцам и проч. здесь излишне, тем более, что А.А. в это время еще работал в Гомеле. Отметим лишь провозглашение независимости «БНР» при немецкой оккупации, 25 марта 1918 года: «Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднаго краю апошняе ярмо дзяржаунай залежнасьці, якое гвалтам накінулі расійскія цары на наш вольны і нізалежны край».
|
Гордая «нізалежнасць» от России потребовала нижайшей просьбы к кайзеру Вильгельму: «Рада Беларускае Народнае Рэспублікі, як выбраная прадстаўніца Беларускага Народу, зварачаецца да Вашай Імпэратарскай Вялікасьці з словамі глыбокае падзякі за вызваленьне Беларусі нямецкімі войскамі з цяжкага ўціску, чужога пануючага зьдзеку і анархіі. ... Толькі пад абаронай Германскай Імпэрыі бачыць край сваю добрую долю у будучыні». Покровительства «Германскай Імпэрыі» БНР не удостоилась. «"Белорусская народная власть" продержалась лишь ровно 7 дней», – злорадствует по этому поводу Кнорин. – «...В помещение народного секретариата явился с отрядом германский комендант города и, не предъявив никакого письменного ордера, занял это помещение, удалив членов народного секретариата и служащих, произвел обыск в помещении и снял белорусский национальный флаг» (цитирует Кнорин Меморандум Народного секретариата Белоруссии Высшей Германской оккупационной власти). «"Finita la comedia", – сказали наши товарищи, при этом присутствовавшие, – игра в национальную белорусскую республику закончилась». 10 декабря 1918 г. немцы покидают Минск, а 27 декабря Рада эвакуируется в Гродно. В дальнейшем БНР возлагает свои надежды на Пилсудского... Оценивая эти метания БНР от одних оккупантов к другим, нельзя забывать, впрочем, что альтернативой были уже не «расійскія цары», а Россия большевистская. – Некоторое понимание у поляков белорусские националисты встречают; глава оккупационного Генерального комиссариата восточных земель Ежи Осмоловский «печатает свои приказы, кроме польского, и на белорусском языке и дает "белорусам" представительство в магистратах». «Удобно играть на таком национализме, – осмысляет это Кнорин, – который не имеет за собою масс, а является лишь мыльным пузырем, который можно уничтожить одним мановением руки.» |
Продолжается разорительная и жестокая советско-польская или «польско-большевистская» война.
11 июля 1920-го года Красная армия выбивает «белополяков» из Минска.
В тот же день появляется первый приказ за подписью председателя тут же созданного Губернского Минского Военно-революционного комитета Червякова – о соблюдении порядка, а 14-го июля, за подписями Червякова и Кнорина, следует приказ № 2 – о реквизиции «брошенных буржуазией и контр-революционерами» квартир.
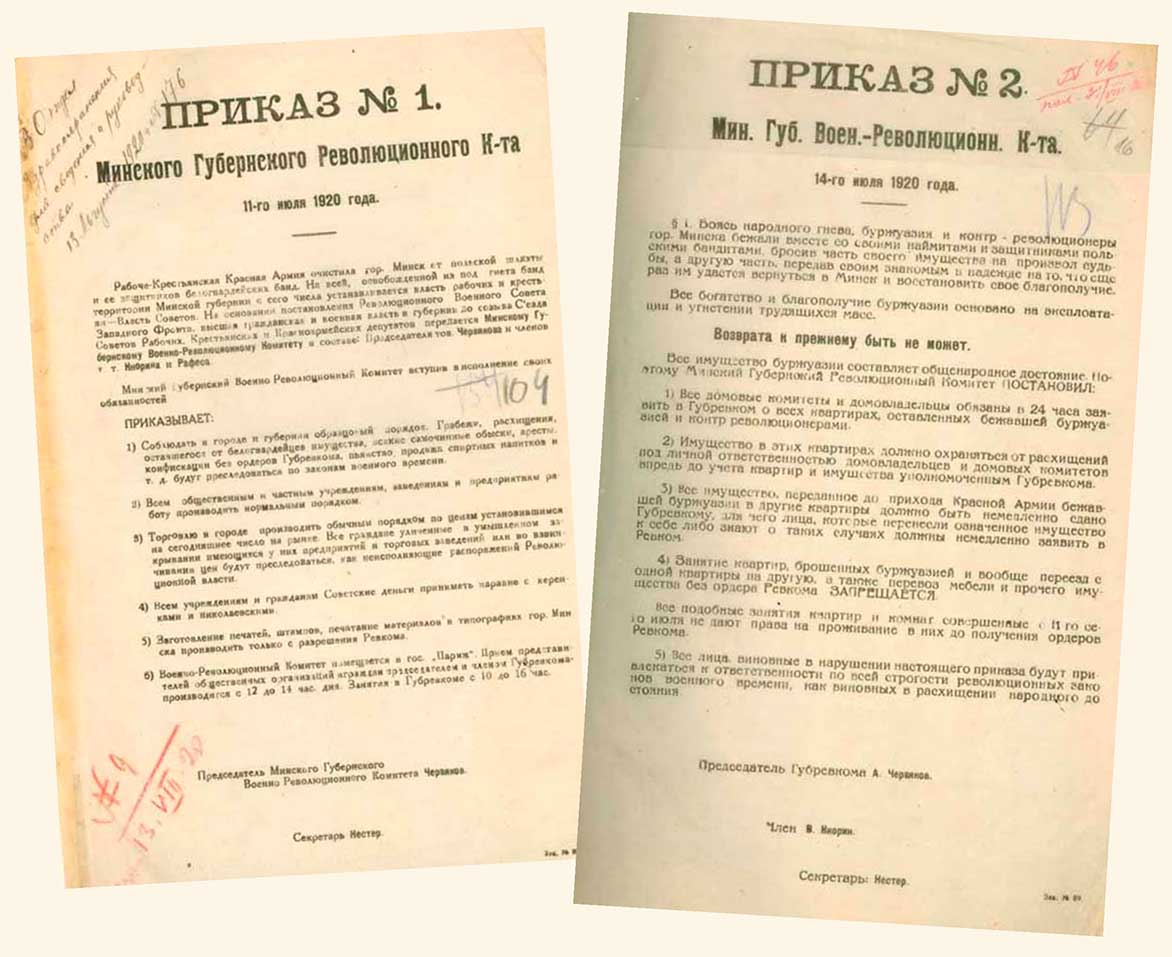
Сканы с сайта «Архивы Беларуси»
В этом же месяце, в июле 1920-го, А.А. Цибарт «переброшен в Минск».
Упомянутый выше член губернской парттройки И.А. Адамович вспоминает об этом времени так (см. Шамардзина). «Безотлагательно сгруппировав основное ядро будущей власти в Белоруссии, направляемся эшелоном к Борисову. Войска продвигались вперед, а мы вслед за ними на подводах быстро добрались в Минск. Армия наша в это время была уже далеко за Минском и рвалась на запад. / Мы осматриваем Минск. Город сильно изменился. Всюду разрушения, следы пожаров, во многих местах они еще не стихают. Весьма много разрушенных домов, зданий, мостов. / Все это говорит нам, что нас ждет большая организационная и практическая работа. / Быстро организовали Военно-революционный комитет, куда вошла вышеназванная тройка...» «К этому времени в Минске насчитывается человек 30–40 большевиков, которые концентрировались вокруг партийной тройки; было решено оформить Минскую партийную организацию...»
31 июля 1920 г. Минский Губернский Военно-революционный комитет принял Декларацию о провозглашении независимости С.С.Р.Б. (Советской Социалистической Республики Белоруссия).
Провозглашение независимости новой республики имело задачу, прямо противоположную заявляемой. Считая в то время «буржуазную белорусско-национальную государственность» «беспомощной и никчемной», клеймя белорусский национализм как «рахитический, недоразвившийся и тщедушный», и опираясь на тот вполне объективный факт, что в Белоруссии «идеи "самостийности" и "незалежности" являются достоянием лишь ничтожной кучки интеллигенции, народные же массы к ним совершенно непричастны», КП(б) Белоруссии, инициатор создания ССРБ, совершала этим лишь тактический ход, имеющий целью окончательно выбить почву из-под ног у тлеющей БНР. «Противопоставляя самостоятельную Социалистическую Республику Белоруссию буржуазной народной республике во главе с Радою, мы уничтожали всякую возможность использования против нас лозунга самоопределения народов. Будучи принципиальными сторонниками мнения, что отделение Белоруссии нецелесообразно и не нужно, но ввиду того, что националисты говорили противное, мы на опыте заставляли массы познать, что нам нужно тесное единение всех советских стран для общей борьбы против мировой контрреволюции»; «фактические условия советской работы в Белоруссии направляют нас по пути к возможно скорейшему слиянию с РСФСР» (см. Кнорин).
Надо признать, что в данном случае и в данный краткий период большевики не шли вразрез со здравым смыслом. Почти вековая политика административной «белорусизации» Белоруссии, начатая уже в 1920-х гг. самою ВКП(б), убедительных результатов так и не приносит.
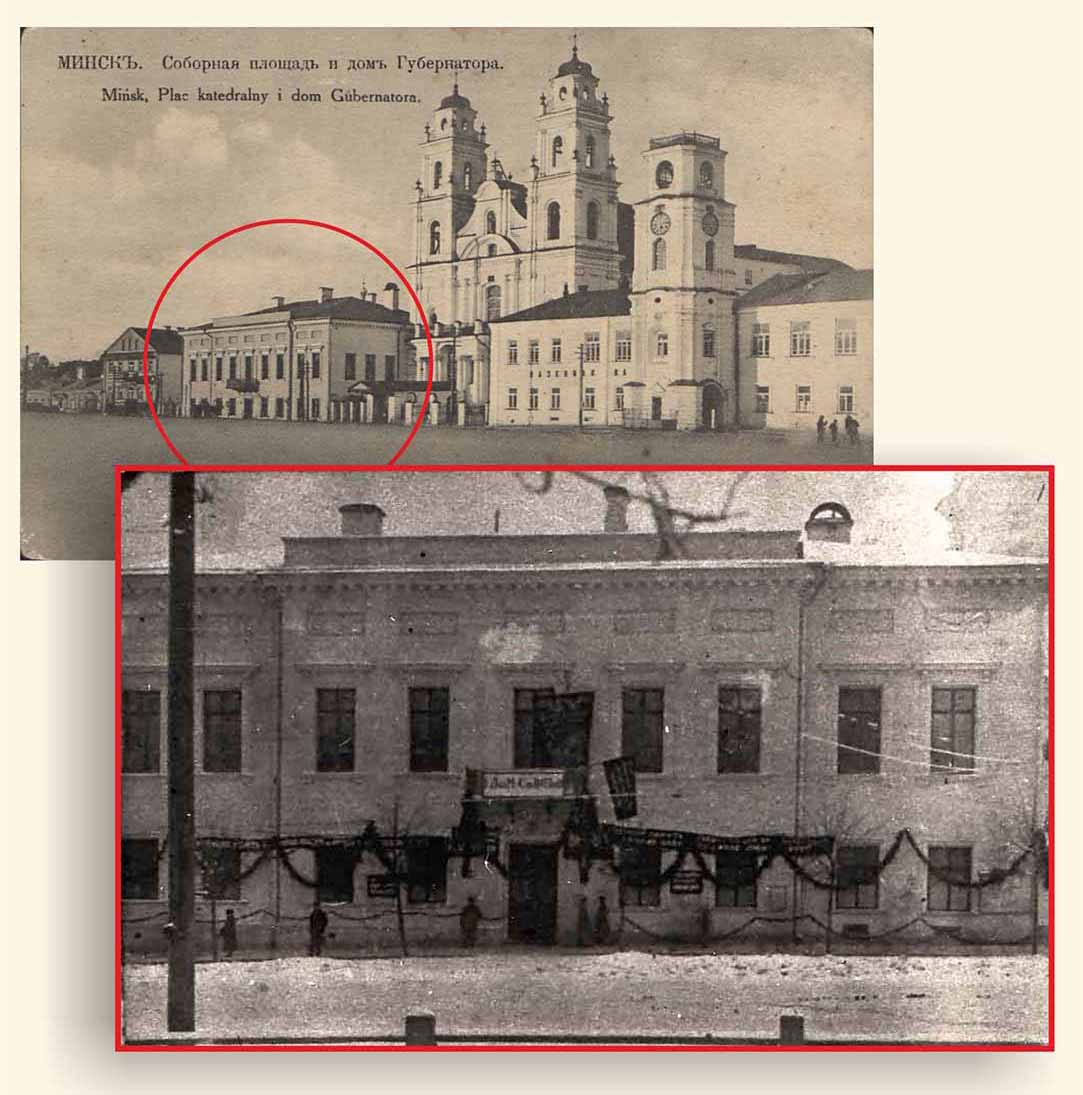
Минск. 1-й Дом Советов (бывш. дом губернатора) на Соборной площади (ныне площадь Свободы)
Здесь с 1919 по 1933 гг. находились Президиум ЦИК БССР, Совнарком и другие гос. учреждения
(Фото 1919 г. с сайта "Минск и минчане. 950 лет. Спецпроект БЕЛТА")
Наступление РККА на Варшаву захлебнулось. Вскоре «белополяки» набирают сил и снова захватывают «на несколько часов» Минск, органы советской власти эвакуируются в Рославль... Однако в результате предварительных мирных переговоров (прелиминарный Рижский договор от 12 октября 1920 г.) Минск остается за советской Белоруссией.
Цибарт пишет: «В 1920 году [в июле] был переброшен в Минск, где был сначала председателем ВСНХ Белоруссии, а затем, когда бывш. лидер Бунда А.И. Вайнштейн перешел в нашу партию, он был назначен председателем ВСНХ, – зам. пред. ВСНХ» (ЦГАМ, РГАСПИ, автобиография). – Вайнштейн был назначен на эту должность в ноябре 1920 года (см.: Глава еврейского пролетариата), следовательно Цибарт проработал председателем ВСНХБ («Совнархозбела») 3–4 месяца, с июля по ноябрь 1920 г.

А.А. Цибарт. Минск, 1920-1923 гг. (?)
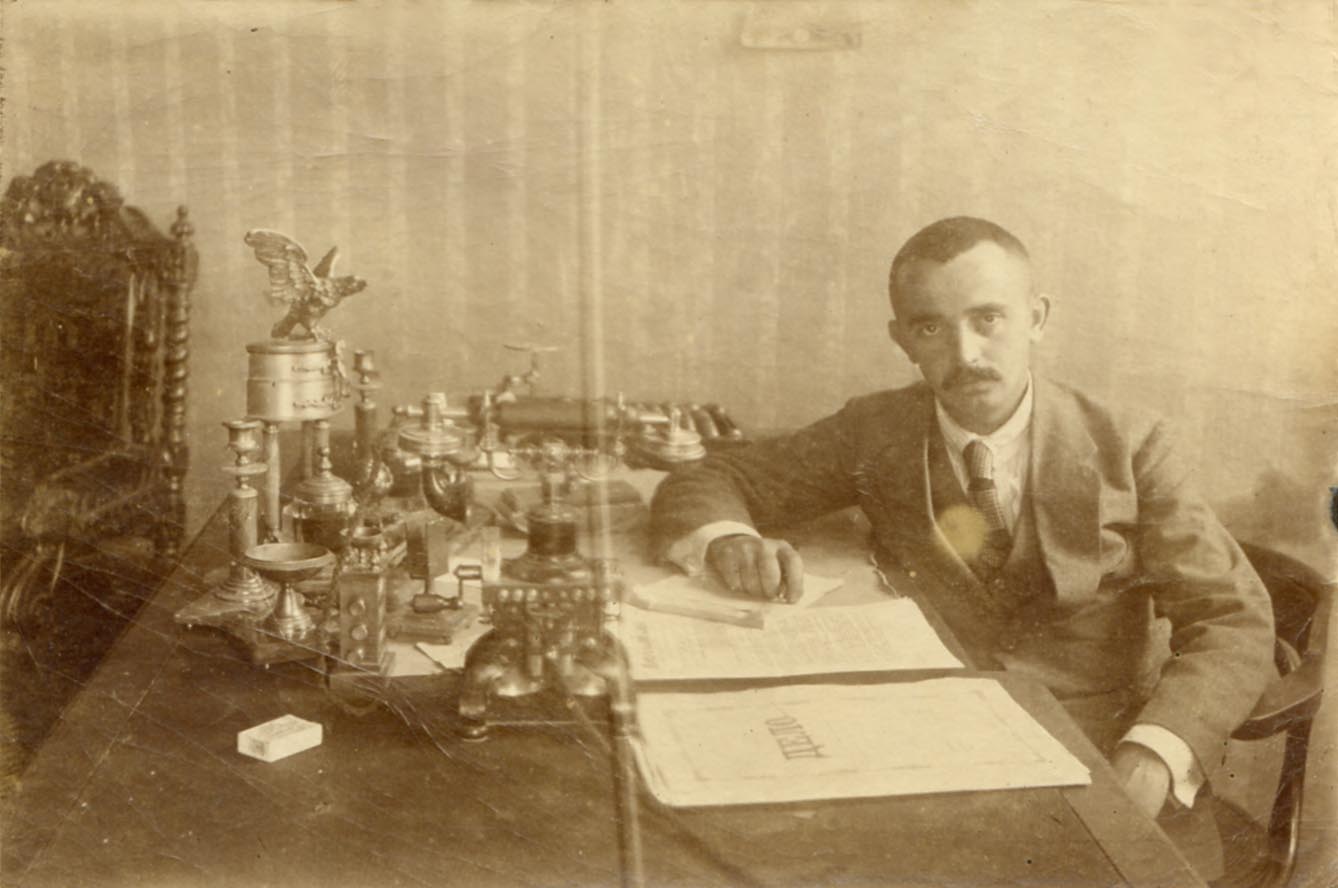
А.А. Цибарт. Минск, 1920-1923 гг. (?).
(«Щадить и привлекать к советской работе бундовские культурные силы» – политика большевиков до того, как Бунд был полу-насильственно ассимилирован с РКП(б): почти половину населения Минска составляли евреи. «Коммунистическая партия Белоруссии ... всегда была согласна допустить одного представителя Бунда, тов. А.И. Вайнштейна, в правительство Республики» – см. Кнорин.)
Заместителем председателя Белорусского Совнархоза А.А. Цибарт работает с ноября 1920 по апрель 1922 г.
25 февраля – 2 марта 1921 г. Цибарт – делегат IV Всебелорусского партсъезда от Совнархоза (зампред СНХБ), с «решающим голосом»; в числе делегатов – «наркомвнутдел» И.А. Адамович (НАРБ, ф. 4п, оп. 1, д. 80, л. 40); всего делегатов с решающим голосом 110, совещательным – 42. Был делегатом и других губернских съездов.
15 – 25 октября 1921 г. Цибарт – делегат X Всебелорусской партконференции, с «совещательным голосом» (НАРБ ф. 4п, оп. 1, д. 419, лл. 9, 13).
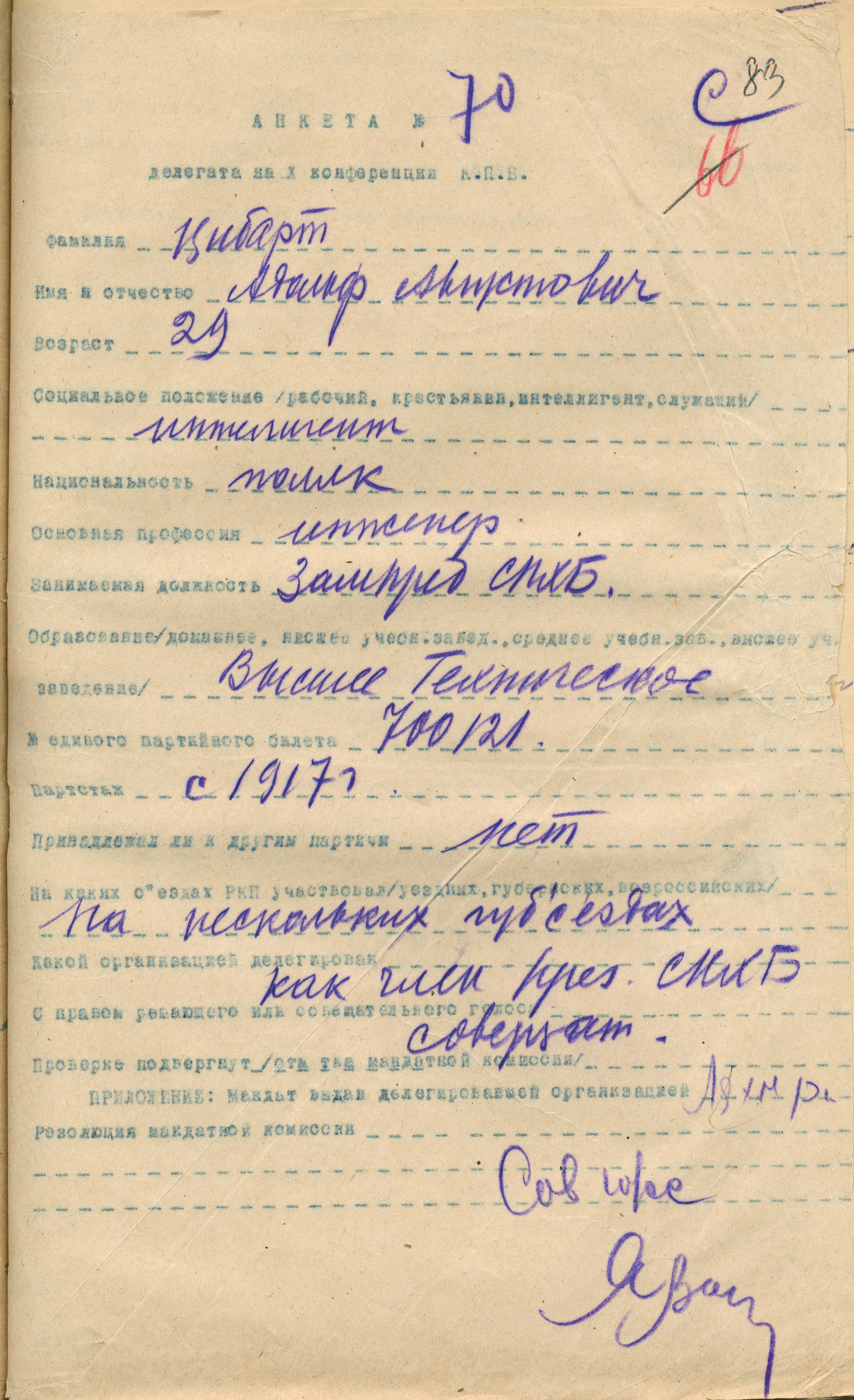
Нац. архив Республики Беларусь, ф. 4п, оп. 1, д. 421, л. 83
...Отвлечемся на один незначительный, но любопытный эпизод из биографии Цибарта, не имеющий отношения к его хозяйственной деятельности. В письме к дочери из лагеря в Магадане от 13 февраля 1944 г. есть такое упоминание: «И я в твои годы мечтал, любил свою специальность, стремился стать ученым. Все данные у меня были для этого: и способности и склад характера. Я даже уже начал делать в этом отношении первые шаги, когда мне поручили читать самостоятельный курс для студентов Белорусского Политехнич. Института. Но вдруг налетел шквал. Гражданская война, парт. и общественная работа, а затем высокая административно хозяйственная работа в совнархозах, трестах, В.С.Н.Х. На мое несчастье я не умею отдаваться частично. Я ушел в эту [административную] работу целиком, без остатка, забыв и семью и детей. А затем меня стало засасывать все глубже и глубже...». – Первый белорусский вуз, Белорусский государственный политехнический институт был образован 10 декабря 1920 г. на базе Минского политехнического училища; ректором его в то время, до первого ареста в 1922-м году, был бывший эсер, преподаватель училища и энтузиаст идеи создания белорусского университета Н.К. Ярошевич (в 1938-м году он погибнет в лагере).
...В феврале 1922 г. А.И. Вайнштейн откомандирован в Киргизскую АССР (будущий Казахстан). На место председателя ВСНХБ становится А.С. Карпешин. С краткой биографией этого деятеля, весьма типичной в истории ВКП(б), можно ознакомиться на сайте Белорусского Центробанка. Карпешин – рабочий, практически безо всякого образования, член РКП(б) с 1917 года, военный комиссар, затем последовательно на многих постах на руководящей работе, наконец расстрел (1938 г.). Впрочем, есть в истории его жизни и одна особенность, заслуживающая быть отмеченной: в 1928-м году Карпешин был снят с крупной должности (управляющего Белконторой Госбанка) за «большевистскую неустойчивость, выразившуюся в несогласии с исключением из партии лидеров оппозиции».
Если имеющиеся и приведенные здесь данные достаточно полны, Цибарт является заместителем Карпешина по ВСНХБ 1–2 месяца (по апрель 1922 г.). В дальнейшем он работает в Белорусском внешторге (Управлении уполномоченного НКВТ РСФСР по Белорусской области). Об этом ниже.
Возвращаясь к 1920-му году и работе Цибарта в ВСНХБ. – 13–17 декабря 1920 г. в Минске проходит II Всебелорусский съезд Советов. Установка РКП(б) на подписание Рижского мирного договора получает одобрение делегатов съезда, хотя значительные территории Белоруссии, с преимущественно не польским населением, отходили согласно этому договору к Польше. «Выступивший с докладом по данному вопросу А.Г. Червяков заметил, что отказ от ратификации договора приведет к затягиванию войны с Польшей. Он также обратил внимание присутствующих на то, что после скорой победы коммунистической революции в Польше условия мирного договора будут пересмотрены. ... Съезд единодушно ратифицировал Рижский прелиминарный договор 1920 г., поручив российской делегации вести переговоры об установлении границ, заключении мира и связанных с заключением мира договоров, политических и экономических, об обмене военнопленными и др.» (А. Тихомиров. Проблемы определения восточной границы Польши в 1920 – начале 1921 г.). Свой «самы гарачы пратэст» съезду выражает, в Вильнюсе, «урад БНР»: «Рыжскі Польска-Бальшавіцкі мір – гэта кашмарная насмешка над дэмакрацыей і яе ідэаламі. Імя яму – насільле і грабеж»; «Беларускі народ бароўся і будзе бароцца да канца за сваю незалежнасць»...
16 января 1921 г., по письму председателя ЦИК ССРБ А.Г. Червякова в ЦК РКП(б) и при поддержке Ленина, в Москве был заключен «Союзный рабоче-крестьянский договор между РСФСР и Социалистической Советской Республикой Белоруссии» и создании между ними военного и хозяйственного союза.
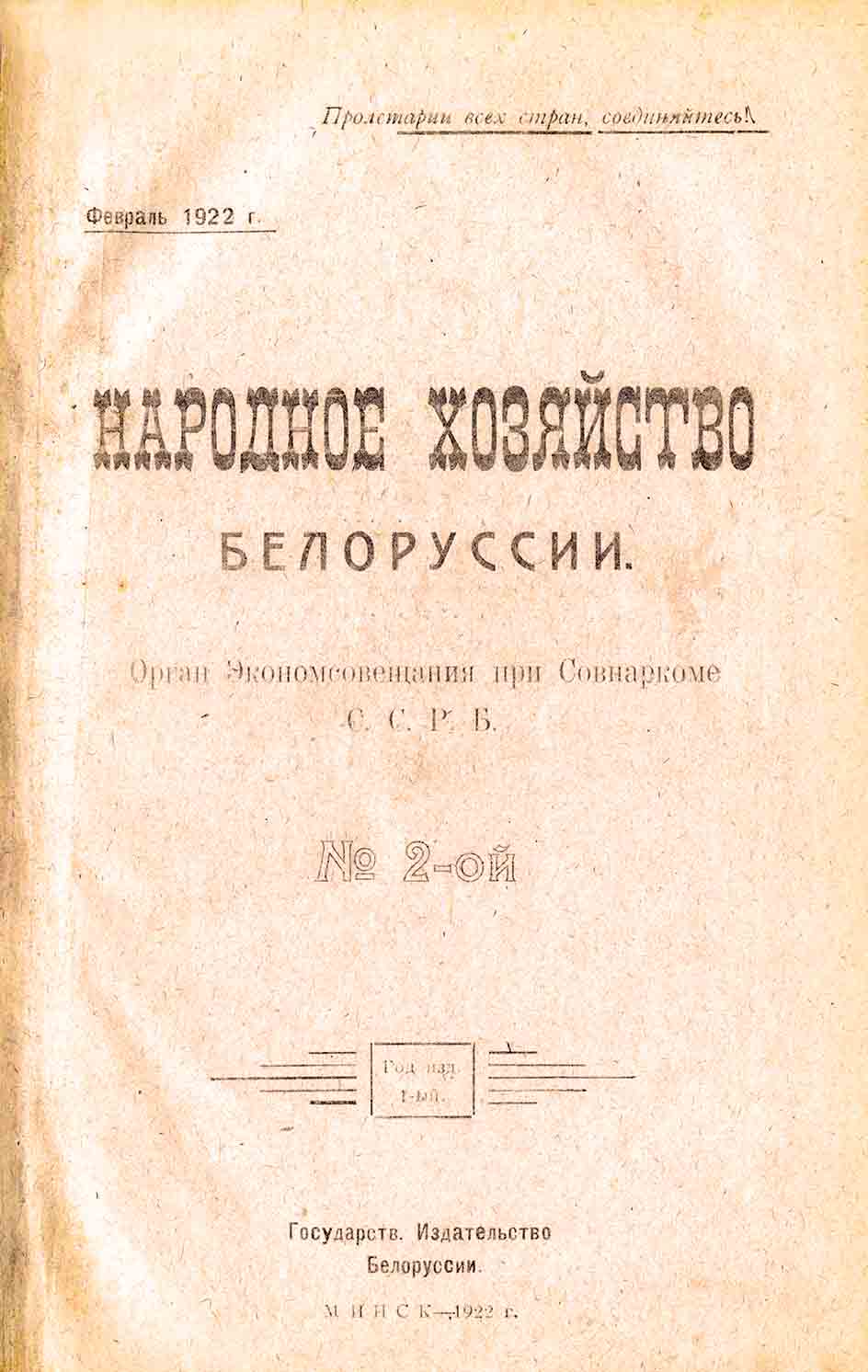
А еще с декабря 1920 г., А.А. Цибарт, кроме должности зам. председателя СНХ Белоруссии, также «особоуполномоченный Трамота [Траспортно-материального отдела] ВСНХ Белоруссии по Зап. области» (см. РГАСПИ, личный листок по учету кадров).
Советской административно-территориальной единицы «Западная область», в которую входили с 1918 г. Витебская, Могилёвская и Минская губернии, часть Виленской губернии и позже Смоленская губерния, к этому времени уже не существовало. Но так, после провозглашения Белоруссией независимости, называли в республике отошедшие тогда к РСФСР прилегающие Витебскую, Гомельскую и (оставшуюся в конце концов российской) Смоленскую губернии. Экономическое объединение этих западных губерний с Белоруссией – одна из первых забот хозяйственных деятелей ССРБ (см., напр., статью И.В. Теумина, уполномоченного Наркомата внешней торговли до мая 1922 г., в журнале «Народное хозяйство Белоруссии» № 2-3, 1922). Итак Цибарт курировал отношения Белорусского Совнархоза с этими российскими (на тот момент) губерниями.
...Рижский мирный договор 1920–1921 г., подписанный 18 марта 1921 г., между советскими Россией, Украиной и Белоруссией, с одной стороны, и Польшей с другой, и Рапалльский договор 16 апреля 1922 г. между Веймарской республикой и РСФСР предусматривали заключение торговых соглашений между бывшими противниками.
С апреля 1922 г. А.А. Цибарт был, согласно его анкете, заместителем Наркома внешней торговли Белоруссии.
Строго говоря, своего Наркомата внешней торговли в Белоруссии не было. В союзных республиках (Украине, Белоруссии, Закавказских республиках) действовали единые с РСФСР наркоматы внешней торговли. Главы этих наркоматов входили в СНХ РСФСР, а уполномоченные объединенных НКВТ – в совнаркомы республик (Торговая энциклопедия, 1924). С 16 июня 1921 г., через три месяца после заключения Рижского мирного договора с Польшей, в Минске действует Управление Уполномоченного Народного Комиссариата внешней торговли РСФСР при Совете Народных Комиссаров (СНК) ССРБ (Управление Уполнаркомвнешторга РСФСР при СНК ССРБ). Таким образом, если назвать новую должность А.А. точнее, Цибарт был заместителем Уполномоченного НКВТ РСФСР при СНК ССРБ.
Уполномоченным НКВТ, сменившим переведенного в Казахстан Теумина, был, самое позднее с июня 1922 года, И.В. Ленский (в журнале ЭКОСО /экономического совещания/ при СНХБ помещена положительная резолюция ЭКОСО от 30 июня 1922 года по его докладу о планах работы Управления НКВТ /Народное хозяйство Белоруссии, № 9/, а уходящий Теумин в этом же номере журнала публикует отчет «К итогам работ в области внешней торговли Белоруссии (за время с 1 июля 1921 г. по 1 мая 1922 г.)».
В №№ 10 и 12 за 1922 г. этого журнала есть и собственные статьи Ленского (вторая в соавторстве с А. Ульяновым). Первая представляет собой доклад от 16 августа 1922 г. «О работе Внешторга Белоруссии». Надо думать, для Цибарта, как для заместителя нового наркома, этот доклад был весьма важен. «...Я слишком мало еще работаю во Внешторге, чтобы быть вынуждаемым отчитываться в своей личной деятельности», предваряет Ленский изложение своего видения задач Внешторга. Главная мысль доклада Ленского в том, что «Внешторг является не самодовлеющим органом, который должен сам по себе создавать ценности, а есть орган, который должен иметь целью обслуживание промышленности, поощрение и оберегание от расхищения нашего экспорта, регулирование импорта, обслуживание кооперации и т.д.»; если же дело будет идти тем же путем, что и раньше, то «спустя некоторое время мы будем обслуживать не органы государственные и кооперацию, а исключительно частный рынок». Вообще, государственная монополия внешней торговли – генеральная линия партии (см. напр.: Л.Б. Красин, пределы оперативной работы внешторгов, 1924). – Вторая статья – «Внешняя торговля Белоруссии» – представляет собой сводку достижений Наркомата за 1921–1922 гг., в основном времени руководства Теумина, с самыми положительными ее оценками. Возможно, в журнале были и другие работы Ленского, но мы их не искали, т.к. Цибарт в феврале 1923 г. работал уже в Москве. – Ленский подписал, в качестве уполнаркомвнешторга, также и цитируемый в этой рубрике обзор внешней торговли ССРБ за 1921–1923 гг., т.е. включающий и период работы Цибарта, изданный в 1924-м году (всего у отчета три автора: Ленский, Ульянов, Юнггерц; см. на сайте).
Никаких биографических сведений о Ленском найти не удалось. Даже его полные инициалы обнаружены лишь в Торговой энциклопедии за 1924 г. Не упоминает его также, в сохранившихся документах, и Цибарт.
Далее. В принятом ЦИК ССРБ в 1922 г. положении «О взаимоотношениях Управления Уполнаркомвнешторга Белоруссии с НКВТ РСФСР» подчеркивалось, что Белоруссия, представлявшая собой транзитный путь для торговых сношений всей Советской Федерации с Западной Европой, должна быть поставлена касательно внешней торговли в исключительные условия, при этом отношения с Польшей и Германией характеризуются как важнейшие. Отмечается необходимость создания торговых представительств Белоруссии. В марте 1922 г. распоряжением СНК ССРБ был уполномочен представлять НКВТ Белоруссии при торгпредстве РСФСР в Германии Ю.В. Гольдштейн (см. Мигун).
А через три месяца, в упомянутой резолюции ЭКОСО от 30 июня 1922 г. в частности говорится: «Экосо считает также необходимым поднять повторно вопрос в Центре о праве самостоятельного представительства Внешторга Белоруссии в Варшаве, Берлине и Риге». Имелось ли в виду учреждение должностей торгпредов Внешторгбела кроме действовавших, и какой была реакция «Центра», автор данного очерка, имея доступ лишь к печатным изданиям, не в состоянии установить. Во всяком случае, в 1924-м году торговые представители Белоруссии, по одному, имелись при торгпредствах РСФСР в Варшаве и Берлине, а также при НКВТ РСФСР в Москве (см. Внешняя торговля ССРБ, 1924).
В августе 1922 г. А.А. получает новое назначение в системе Уполнаркомвнешторга Белоруссии. «Был в Польше, Германии в [1922 –] 1923 г. с целью инспектиров<ать> представит<елей> Внешторга Белоруссии» (См. Служебная карта Цибарта в ВСНХ, 1925); «В течение 6 мес. в 1922–1923 году был командирован правительством Белоруссии в Польшу и Германию по торговым делам» (см. ЦГАМ, РГАСПИ, автобиография). В других документах Цибарт назвает свою должность «торгпред»: «[Был за границей]: В Германии и Польше как торгпред Наркомвнешторга Белорус. в 1922–1923 году» (см. РГАСПИ, личный листок по учету кадров, 1934); «авг. 1922 – янв. 1923 Варшава Наркомвнешторг Б.С.С.Р. Торгпред Б.С.С.Р.» (См. РГАСПИ, регистрационный бланк члена ВКП(б) 1936).
Преемником Цибарта на должности зам. Уполнаркомвнешторга стал А.Ф. Ульянов (будущий член ЦК КП(б) Белоруссии, в конце карьеры торгпред СССР в Чехословакии; расстрелян в 1937 г.).
Итак, А.А. Цибарт с августа 1922 г. был, видимо, не торгпредом Белоруссии в Польше, а инспектировал деятельность действовавшего представителя. В том же состояла его деятельность в немецком торгпредстве в январе 1923 г. (а в феврале А.А. был уже «переброшен» в Москву).
|
О том, в чем состояли задачи Цибарта в торгпредствах, мы можем пока судить только в самых общих чертах – по упомянутой выше статье Ленского и еще по тому, что в 1924-м году нарком внешней торговли СССР Л.Б. Красин, вмешиваясь в дискуссии о задачах торгпредств, призывает торгпредства не ограничиваться «функциями регулирования и надзора» и «принимать непосредственное участие в торговых операциях». Так оно и было в работе Белвнешторга в 1922-м году. В мандате торгпреда Белорусии в Германии, выданном в мае 1922 г. (Ю.В. Гольдштейну), перечисляются следующие его полномочия – надо думать, такими же были и полномочия торгпреда в Польше – предусматривающие именно участие в оперативной работе. Так, торгпред НКВТБ в Германии не только имел право и обязанность «быть представителем Наркомвнешторга Белоруссии во всех без исключения учреждениях и предприятиях, находящихся на территории Германии», но и «производить по заданиям Наркомвнешторга Белоруссии покупку и продажу в Германии товаров, вести товарообмен, руководить приемом различных прибывающих от Наркомвнешторга Белоруссии в Германию товаров и их учетом, заключать всякого рода договоры и совершать сделки по вышеуказанным операциям с предварительного согласия Наркомвнешторга Белоруссии, руководствуясь во всех своих действиях существующими декретами Советской власти, инструкциями и указаниями Наркомвнешторга РСФСР»; «открывать с разрешения Наркомвнешторга Белоруссии на территории Германии, где потребуется в интересах дела, отделения, конторы, агентства» и руководить ими, «назначать с разрешения Наркомвнешторга Белоруссии управляющих отделениями, заведующих конторами и агентствами, принимать и увольнять служащих, привлекать к суду лиц, совершивших злоупотребления, отстраняя их от должности независимо от занимаемого ими поста, ... приглашать экспертов, консультантов и образовывать комиссии из сведущих лиц ...»; «в случае неоходимости открывать склады на территории Германии». Обязанность торгпреда Белоруссии «во всех своих действиях стоять в тесном контакте» с представителем НКВТ РСФСР подчеркивается особо (См. Мигун.) 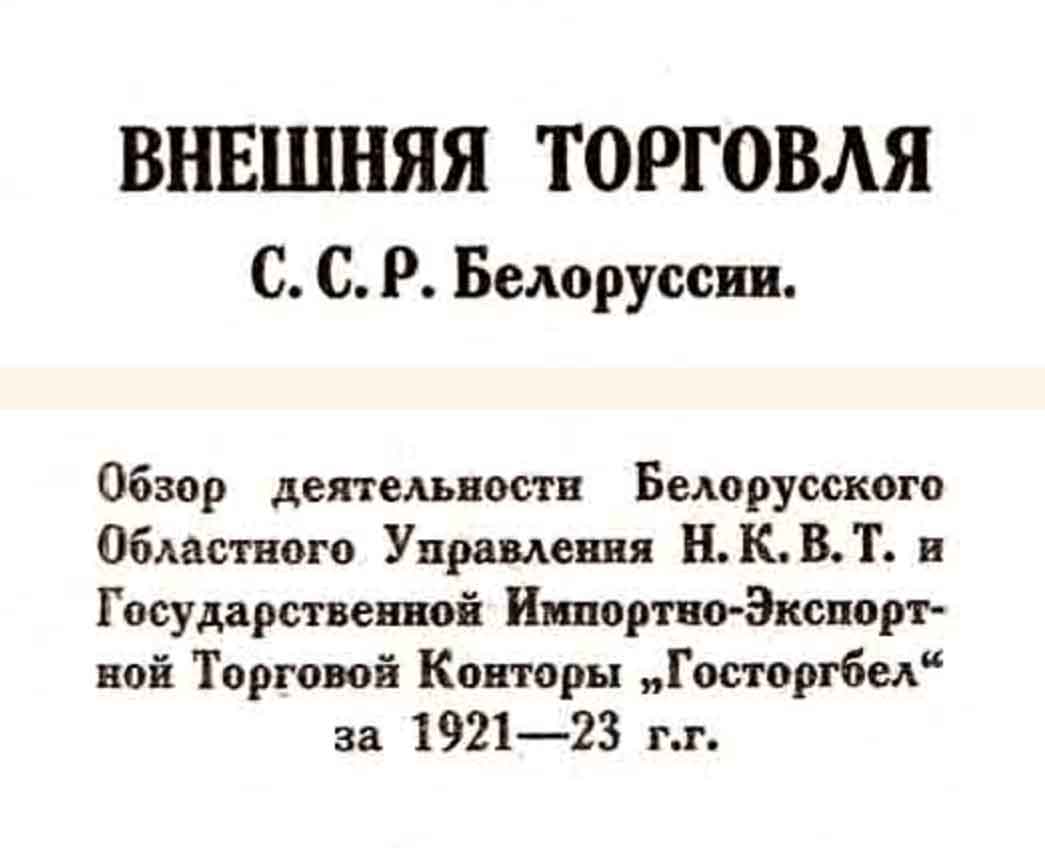
Что до конкретных торговых операций, то, незадолго до назначения Цибарта торгпредом, 1 июля 1922 г. «в составе Белорусского Областного Управления НКВТ была учреждена Государственная Импортно-Экспортная Торговая Контора "Госторгбел", к которой отошла вся непосредственно-оперативная работа по экспорту, импорту и отпуску товаров как за свой счет, так и на комиссионных началах. За Белвнешторгом в тесном смысле сохранились лишь контрольно-регулирующие функции, выдача лицензий и общий надзор за осуществлением государственной монополии внешней торговли» (см. Внешняя торговля ССРБ, 1924). Директор-распорядитель Госторгбела – заместитель Ленского А.Ф. Ульянов. С деятельностью и успехами Госторгбела, то есть всей практической деятельностью Управления НКВТ по Белорусии в 1921–1923 годах можно ознакомиться в цитируемой здесь брошюре (на нашем сайте имеется ее полный скан). Ясно, что в свой период работы Цибарт был одним из важнейших лиц, определявших эту деятельность. Несколько слов о тогдашней общей ситуации в области внешней торговли Белоруссии. – «Белоруссия, несколько лет подряд бывшая театром военных действий, пережившая несколько оккупаций и испытавшая хищническое хозяйствование временных властителей, вышла из борьбы в состоянии полной разрухи и расстройства производительных сил и материальных ресурсов. ... НЭП еще не вступил в свои права, и частная хозяйственная инициатива только еще делала первые робкие шаги...» (Внешняя торговля ССРБ, 1924). Однако дела Белорусского внешторга в момент перехода туда Цибарта, т.е. к концу срока работы И.В. Теумина в качестве уполнаркомвнешторга Белоруссии, были на подъеме. (Успехи местных «кадров», видимо, лишь вызывали в ЦК РКП(б) опасения и только побуждали к их скорейшей «переброске».) Теумин, по выражению информатора Сталина Пестковского (см. Жирнов) – «делец», заключавший «полулегальные сделки», был-таки очень эффективным работником. Действительно, оборотный капитал, с которым созданное в июне 1921 г. Управление НКВТ РСФСР при СНК Белоруссии начинало работу, «был до смешного мал», в результате этого и других факторов исходно импорт сильно превышал экспорт; это, впрочем, «не было вообще специальной особенностью нашего НКВТБ, – пишут Ленский и Ульянов в журнале "Народное хозяйство Белоруссии", – этот пассивный баланс является нашим общим федеративным дефектом, связанным с нашим общим оскудением и страшным голодом на заграничные товары». Но уже «с начала 1922 года картина начинает меняться, и, в конце концов цифры, за первую половину 1922 г. дают нам уже чрезвычайно отрадную картину. [Таблица: Заготовка экспорта и отправка его за границу в 1922 году до 1 июля; Импорт товаров из за границы за 1922 г. до 1 июля.] ... Экспорт 1922 г. превысил импорт 1922 г. на 400.599 руб. золотом, т.е. почти на на 200 проц. – дав значительный активный баланс». «Если вспомнить первоначальный капитал в 35 миллионов Советских рублей, и сравнить его с теперешней цифрой товаров в 1.000.000 золотом, то картина получается чрезвычайно выпуклая»; «невзирая ... на неблагоприятные условия – благодаря Коммунистической настойчивости, непреклонности и инициативности за полтора года работы удалось добиться довольно больших результатов» (Ленский, Ульянов). Эти слова уполнаркомвнешторга (и его заместителя) относятся, повторим, лишь отчасти к периоду Ленского (и Цибарта), и почти целиком к работе его предшественника Теумина. (Как сообщает Википедия, И.В. Теумин «умер в 1937 г. в Москве»; его дочь в 1952-м году расстреляна.) Такой чувствительный пункт, как продажа советской властью за рубеж художественных ценностей, в отчетах Госторгбела также до некоторой степени отражен. Как было при Теумине, так и при Ленском продолжается экспорт «ковров и антикварно-художественных ценностей», составляя с июля 1922 по сентябрь 1923 г. 111,185 р., или 13,1% всей выручки (см. Внешняя торговля ССРБ, 1924). Касаясь этой графы, авторы отчета упоминают лишь «восточные ковры, которые в прошлом году распродавались многочисленными уезжавшими в Польшу оптантами и репатриантами, а затем стали вообще притекать в значительных количествах в приграничные местности Белоруссии в расчете на скупщиков-контрабандистов или на перепродажу Внешторгу» (Внешняя торговля ССРБ, 1924). Какую часть в этой общей сумме ширпотреба и музейных ценностей составляли последние, по понятным причинам не указывается. (См. на эту тему: Клепиков.) |
...Сфера действия торгпредства, в частности, в Польше охватывала и «вольный город» Данциг (Гданьск), хотя Польша и чинила к тому препятствия. В семье А.А. сохранилась его замечательная фотография этого периода, сделанная в Данциге заслуживающей упоминания мастерской Verra&Blashy, позволяющая представить, так сказать, визуальный образ тогдашнего советского представителя за рубежом. В красивом, уверенном и чуть щеголеватом молодом «буржуа», как назвали бы его советские граждане, невозможно признать сына лодзинского рабочего, российского большевика!
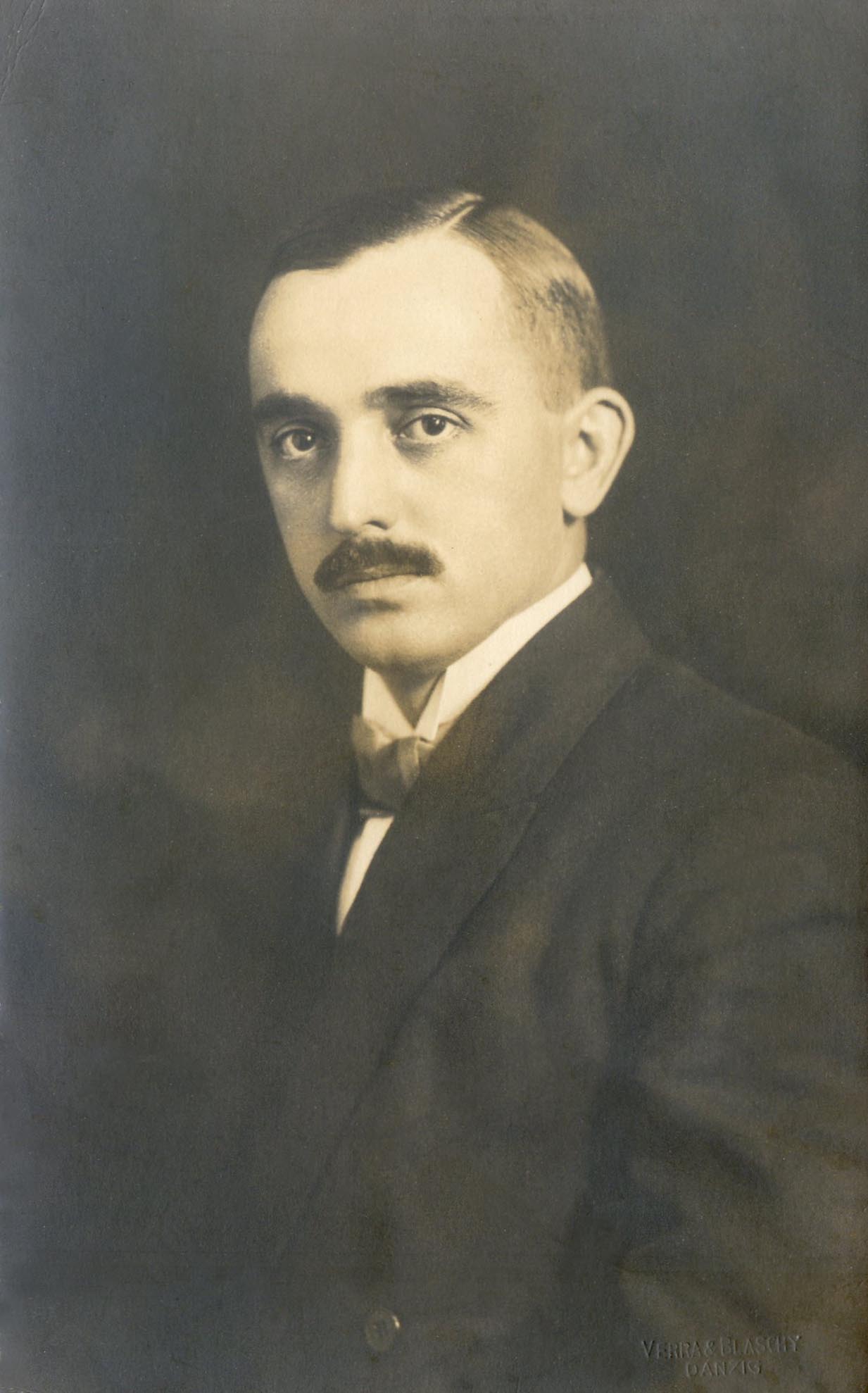
А.А. Цибарт. Август 1922 – февраль 1923 г., Данциг
...Если учесть свидетельство Адамовича, что вся внушительная структура власти, утвержденная II Всебелорусским съездом Советов (кроме ЦК, это ЦИК и Совнарком с подчиненными ему 12-ю наркоматами плюс СНХ и ЧК, Экономическим совещанием, Комиссией законодательных предложений и Государственной плановой комиссией, а также белорусские областные управления наркоматов РСФСР, торгпредства и пр.), исходно насчитывала всего «тридцать-сорок» хорошо знавших друг друга большевиков, ясно, что совместительство должностей («был также...») диктовалось необходимостью, да и границы в этой структуре должны были быть весьма размыты. Цибарт в 1937-м году на партсобрании МММИ между прочим сообщает, что был членом ЦК Белоруссии. Впрочем, в официальных бумагах он этого не указывает (а указывает, что был членом ЦИК), – скорее всего, это ошибка в распечатке стенограммы.
В этот, белорусский период А.А. тесно контактирует с А.Г. Червяковым – тогда одновременно председателем ЦИК, СНК и Наркомом по иностранным делам Белорусской ССР. Подпись Червякова стоит первой в списке членов Полномочной делегации БССР в Декларации об образовании СССР 30 декабря 1922 г., с этого же дня он сопредседатель ЦИК СССР, до 1937 г. – член ЦК КП(б) Белоруссии. В июне 1937 года, предвосхищая смертный приговор, этот виднейший советский деятель «по личным семейным обстоятельствам» застрелился.
В конце 1937 года Цибарта исключают из партии в т.ч. за «связь с Червяковым». Об их отношениях, может быть несколько преувеличенно, высказывается на партсобрании института им. Баумана один из главных институтских «травителей» Цибарта П.М. Зернов. – «О связях с Червяковым. [Обращаясь к Цибарту:] Нечего прикидываться ребенком! Когда был доклад Червякова в институте, перед всей аудиторией в 500 человек была продемонстрирована ваша тайная связь. Когда было собрание, Червяков вышел, Цибарт обнял его и перед всем собранием они облобызались. А когда Червяков делал доклад, он десятки раз вспоминал своего друга, свою дружбу с Цибартом. Я не сомневаюсь, что Червяков и в 35 и в 36 году приезжал к тебе [Цибарту] на дачу. Я сам жил в Ильинском и был свидетелем одной встречи. Больше того, он приезжал в институт, но, кроме твоего кабинета, никуда не заходил»...
Сработает против А.А. и «тайная связь» Цибарта с В.Г. Кнориным (Кнориньшем) – «разоблаченным» в июне 1937 г. «врагом народа», деятелем не меньшего, чем Червяков, масштаба. «Цибарт очень часто фигурировал своими связями с Червяковым, Кнориным и рядом других фамилий. Когда же стало известно их вражеская физиономия, он начал говорить, что я их конечно знал по Белоруссии, но у меня с ними были только деловые отношения. Я в это поверить не могу...» (из донесения Зернова в НКВД 16/XI-1937 г.; орфография, что говорится, сохранена). У Кнорина действительно были на первых порах разногласия с той линией партии и лично Сталина, которая при воцарении Сталина окончательно взяла верх, а именно было его неприятие искусственной и даже подчас насильственной «белорусизации» республики (активно проводимой в т.ч. Червяковым и Адамовичем, и уже очень скоро, разумеется, самим Кнориным). «С позиций верховенства "чистой" пролетарской культуры он отрицательно, а временами и враждебно относился к идеям белорусского национального возрождения...» (см. Иоффе). Расхожий в Белоруссии оборот «национальное возрождение» несколько лукав, поскольку сама белорусская народность как отличная от русской представляет собой не столько данность, хотя бы былую, сколько особого рода культурный и политический проект, причем, с самого своего возникновения и по сию пору продвигаемый «сверху» и не встречающий среди белорусов достаточного энтузиазма. Как кажется, с враждебностью Кнорина периода нач. 1920-х годов к этому специфическому национализму, в частности к «беларускай мове», был солидарен и Цибарт. Спустя десятки лет супруга Цибарта, дочь минского столяра, говорила с явным раздражением: «никакого белорусского языка не существует – его сделали!». Впрочем, это могло быть и ее собственным впечатлением – как свидетельствуют даже «национально-ориентированные» источники, в Белоруссии первых лет советской власти порою «достаточно было произнести слово белорус, чтобы все засуетились, заревели, как тот бык от красной тряпки» (см. «Мы патриоты Белой Руси»).
Нетрудно представить, чего стоит русскоязычному приучать себя к анекдотичной «фонетической» анти-орфографии «мовы», благодаря которой это исчезающее местное просторечье столь и отличается на письме от русского литературного языка! А как долго в Белоруссии будут еще «бароцца» с собственным русскоязычием, изойдет ли это безумие или дело дойдет до этноцида, подобного тому, который проводится в настоящее время на Украине (как и в Прибалтике и др.) – об этом страшно и задумываться. |
В любом случае до таких подробностей институтские преследователи А.А. не доходят, может и не слышали о них – им достаточно одного факта «связи».
(Интересное в своем роде упоминание об оппозиционности Кнорина в начале 1920-х гг. оставил Цибарт в дневниковой записи от 6 ноября 1937 г. Убеждая своего друга Малинковича в том, что «теперь берут [арестовывают] только тогда, когда есть веские доказательства», он приводит пример с И.М. Москвиным (на момент ареста предс. Комитета Совконтроля) и В.Г. Кнориным, которым, видимо, в НКВД припомнили какие-то старые оппозиционные выступления. «Он [Малинкович] [этот пример нелояльности Москвина и Кнорина] отвергает, говоря, что в 21 году везде искусств<енно> назначали докладчиков по оппозиционным вопросам»...)
О возможной «связи» и безусловном хорошем личном знакомстве А.А. Цибарта с проживавшим в 1922-м году на одной квартире с Кнориным И.А. Адамовичем, третьим лицом «парттройки», сформировавшей в 1920-м году советскую власть в Белоруссии, наркомвоеном, заместителем Червякова по ЦИК и (с 1923 г.) председателем Совнаркома БССР, уже говорилось в рубрике «Ольга Адамович». В апреле 1937 года Адамович, как вскоре это сделает в сходных обстоятельствах и Червяков, застрелился.
Еще одним опасным знакомством А.А. по работе в Минске был упомянутый выше заместитель Ленского А.Ф. Ульянов. О нем А.А. в своих сохранившихся текстах, впрочем, не упоминает.
...Что до Вайнштейна, об отношениях с которым Цибарта после работы в Минске также ничего не известно, – то его арестуют еще только в феврале 1938 года, на два месяца позже Цибарта. Последнее относится и к И.А. Адамайтису, в 1920-1924 гг. наркому продовольствия ССРБ, к которому А.А. действительно предполагал обратиться за помощью в 1937-м году (см. Дневник). Вайнштейн в тюрьме умер (или покончил жизнь самоубийством), Адамайтис расстрелян.
В ряду фамилий белорусских коллег Цибарта в 1920-1922 гг., которыми Цибарт мог в дальнейшем «фигурировать» (встречается в том же списке предполагаемых ходатаев за А.А. из его Дневника), был еще, по меньшей мере, А.А. (Ш.Ш.) Ходош, председатель Совета профсоюзов ССРБ и член Центрального бюро КП(б) Белоруссии, затем член его Президиума. Этот деятель, что нетипично, умер в 1951-м году своей смертью.
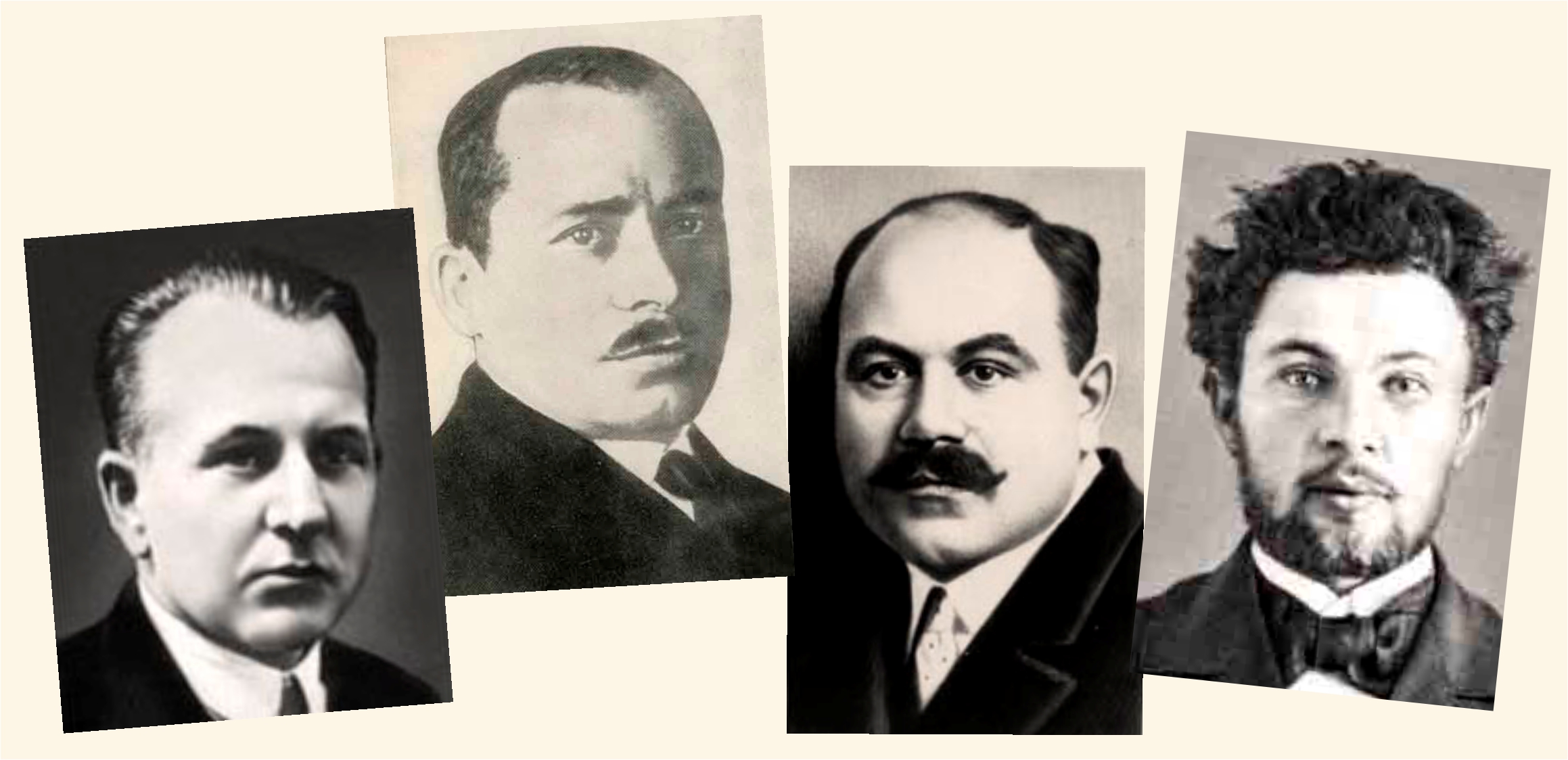
В.Г. Кнорин (1890–1938); А.Г. Червяков (1892–1937); И.А. Адамович (1896–1937); А.И. Вайнштейн (1877–1938)
...Важная хозяйственно-политическая деятельность А.А. в Белоруссии также длится недолго – по январь 1923 г. В этом месяце А.А. выбывает в Москву, и с ним – 20-летняя М.И. Сыч.
Амбициозный 31-летний Цибарт явно желал бы перевода из Минска в Москву, в распоряжение ЦК РКП, и получает принципиальное согласие Кнорина. (В январе 23-го года ходатайство Цибарта удовлетворено – далее он работает в Москве, предс. правления Егорьевско-Раменского объединения хлопчатобумажных фабрик, позже Гос. хлопчатобумажного треста; правда, в этом же году «переброшен» в Оренбург.) – Машинопись: «Учетный П/отдел ЦБ. |
12 февраля 1923 г., Москва – день свадьбы А.А. и минчанки Марии Иосифовны Сыч (1902–1988), дочери сравнительно пожилого и неграмотного, но квалифицированного столяра-краснодеревщика и притом красивого, гордого собой польского дворянина, фанатичного католика. Ее мать – Зинаида Кругликова, по первому мужу Шарий (Шарая), православная; за разрешением на брак с нею Иосифу Игнатьевичу пришлось отправлять прошение к самому папе римскому. Впрочем, скорее всего, это была стандартная процедура. Умер Иосиф Игнатьевич в 1932-м году в Москве в возрасте 92-х лет (отсюда видно, что в год рождения дочери ему было 62); с ним А.А., по воспоминаниям Марии Иосифовны, вел в Москве горячие дискуссии на общие темы; о смерти и похоронах «дедушки» А.А. упоминает в своем дневнике. Жили в Москве и братья М.И. Александр и Петр Шарий – последний во время директорства А.А. в Бауманском заведовал институтской типографией.

М.И. кончила 8 классов гимназии и работала до замужества, видимо, каким-то техническим работником в белорусском Совнаркоме: она имело дело в т.ч. с отчетностью по многочисленным дезертирам, вылавливаемым властями ССРБ в белорусских лесах (к сожалению, никаких более подробных сведений об этом мы, ее внуки, не попытались от нее разузнать). Там-то, в бывш. доме губернатора на Соборной площади, резиденции Совнаркомбела, она вероятнее всего и познакомилась с Цибартом. Кстати, вспоминая о тех временах, она называла супруга по привычке именно «Цибарт» (а не домашним именем «Ацек», как обычно), – в начале знакомства он был для нее грозным комиссаром, к тому же на 10 лет ее старшим.
Незадолго до даты свадьбы Марии Иосифовны с А.А. ее любимый брат (старший из трех) Николай Шарий, по-видимому непричастный ни к какой политической деятельности, был расстрелян за переход образовавшейся в то время белорусско-польской границы (в Польше он обучался какому-то ремеслу). – Учтя это страшное событие, наверняка поставившее на подозрение у советских властей всю семью, брак А.А. можно расценить как шаг смелый или независимый. Еще можно заметить, что, если даты в автобиографии и дневнике А.А. верны, М.И. уехала с А.А. из Минска в Москву еще до заключения брака. Имея в виду чрезвычайные консерватизм, набожность и авторитарность отца семейства, этому ее поступку нельзя не удивиться. Но получить согласие Иосифа Игнатьевича на замужество с коммунистом М.И., очевидно, не могла.
До 1930-х годов, скорее всего до 1935 года, отношения в семье были, сколько можно судить, безоблачными. По крайней мере мы, внуки М.И., никогда не слышали о каких-то ее обидах на мужа, недостатке любви или уважения ее к нему или его к ней. Воспоминания о муже, которыми она делилась, были только самыми светлыми, а его лучшая фотография (утраченная уже после ее смерти) всегда стояла рядом с ней, где бы она ни жила. М.И. разделяла с А.А. все трудности его постоянных командировок (так, в Оренбург она прибыла с А.А. зимой и в последние дни беременности); была в то время абсолютно надежным другом и помощником. Но и наступивший после 1935-го года серьезный разлад в отношениях не помог следователю НКВД в 1937-м году, с матом и револьвером на столе, заставить ее хоть как-то оговорить арестованного супруга, как впоследствии не склонил и отказаться от него, изменить слишком заметную фамилию.
(Фамилия, что курьезно, осложняла и без того трудную жизнь еще и по причине начинавшегося во время войны казенного и бытового антисемитизма. Евреев в семье ни с какой стороны не было, но однажды, получая в некой конторе очередной отказ в какой-то совершенно законной просьбе, М.И. услышала в свой адрес: «г-гажданка Цибе́гт»: рассчитывать было не на что.)
После ареста А.А. на руках у Марии Иосифовны осталась ее престарелая мать, которую вскоре разбил паралич, и сын осужденного брата Александра; у нее не было никакой профессии, кроме того – статус жены врага народа. «Неужели буквально все твои друзья покинули тебя? Неужели нет никакого исключения?» – ужасается в письме из лагеря А.А. (письмо от 6 февраля 1944 г., Магадан). Как вспоминала М.И., при ее виде многочисленные прежние постетители дома перебегали на другую сторону улицы. Исключения, конечно, были – например друг семьи «дядя Митя», т.е. детский друг М.И., по минскому двору, архитектор Дмитрий Кирик; рабочая метростроя Муся Флейшер; директор гастронома в доме на Чкаловской Давид Ратнер и его супруга – укрывшие зимой 1942-го ее вещи в подвале этого гастронома. Последнее было по существу спасением жизни ее и детей – это произошло в день, когда М.И. с детьми были выселены соседом-жуликом из квартиры и ей было сказано, что неубранные к вечеру вещи будут считаться антисоветской агитацией... Об этих обстоятельствах А.А. пишет: «Ты очень мрачно смотришь на предстоящую зиму. И конечно это понятно, для легочного больного в квартире без стекол, без печи и особенно без дров ... прожить зиму, да к тому же ездить на работу в рваных ботинках, очень тяжело. Меня это крайне беспокоит...».

И несмотря на все беды и лишения – обе дочери Адольфа Августовича и Марии Иосифовны получили высшее образование, на дневных факультетах. Кстати сказать, с 1940-го по 1956-й годы образование в 8-м, 9-м и 10-м классах и в высшей школе было платным (избавить от довольно большой платы могли лишь 2/3 пятерок и остальные четверки в школе, а в вузах для успевающих были стипендии). В той среде, в которой М.И. естественно оказалась после ареста мужа – после долгих мытарств ей удалось, на особых и невероятно трудных условиях, устроиться кассиром в гастрономе – М.И. конечно не понимали: все ждали, что дочери после семилетки или хотя бы после 10-и классов «пойдут работать» и жить семье наконец станет легче. С ее стороны это был настоящий подвиг, но никаких колебаний в этом вопросе не было. Такое отношение М.И. к образованию детей вызывало особую благодарность к ней А.А. (см. письма из лагеря). «Я знаю, что пока родная Мурочка жива, она [старшая дочь Эльфрида] будет продолжать учебу»; «Не сдавай позиций, чтобы наша Элечка могла спокойно учиться в Университете, а Светка в школе» (6 февраля 1944)...
Коммунисткой М.И. не была ни исходно, ни тем более в жизни после Цибарта. (Между прочим, супруга репрессированного знакомого Цибарта З-ва, соседка М.И. по дачам, выстроенным еще в 1937 году, и ее частая собеседница стала скорее маниакальной ленинисткой.) По теоретическим вопросам она вообще не высказывалась, а преступления власти, что ленинской, что сталинской, для М.И. были скорее чем-то вроде стихийных бедствий. Однако, когда ее старшая дочь однажды слишком презрительно выразилась в адрес коммунистов, она заметила: «твой отец был коммунист».
Имела трех внуков – сыновья Эльфриды Адольфовны Евгений и Александр Абелевы и сын Светланы Адольфовны Алексей Пешехонов. О нас она бесконечно и деятельно заботилась.
В 1978 году М.И. и всю семью постиг тяжелый удар: умерла от сердечного приступа младшая (и любимая дочь А.А.) Светлана...
М.И. в этом очерке биографии А.А., конечно, еще будет не раз упоминаться. Непосредственно о ней, ее судьбе и удивительно стойком характере кое-что говорится на этой странице, после очерка, в разделе «Судьба семьи».
Итак, с января 1923 г. А.А. Цибарт «по мобилизации ЦК» «переброшен» из Минска в Москву. Работает председателем правления Егорьевско-Раменского объединения хлопчато-бумажных фабрик.
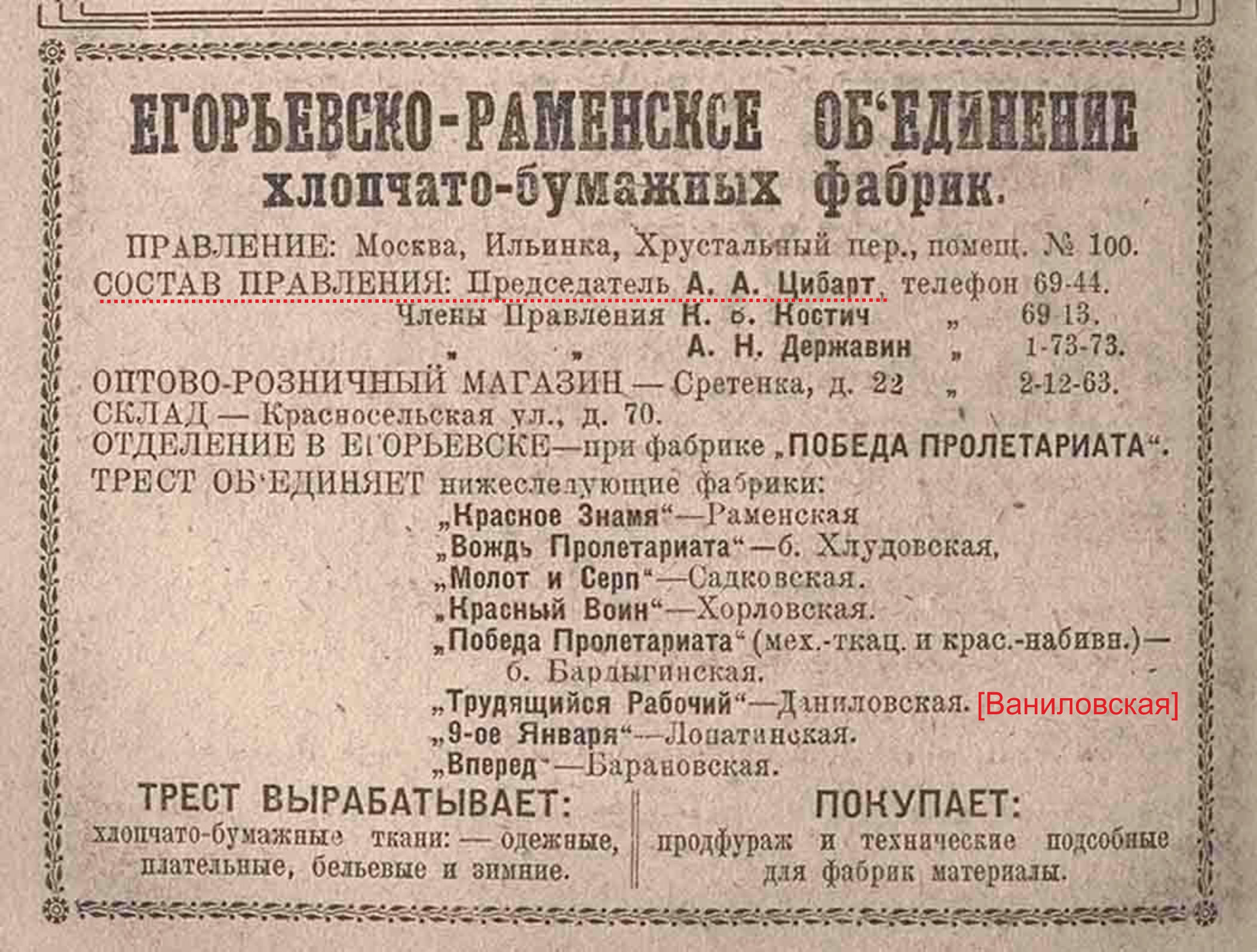
Реклама из: Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1923 год

Правление Егорьевско-Раменского хлопчато-бумажного объединения (с апреля 1923 г. гос. треста) располагалось в Старо-Гостином дворе,
со стороны Ильинки/Хрустального переулка, пом. 99/100

Московская биржа и Гостиный двор, Ильинка, современный вид (фото с сайта allerleiten.livejournal.com/721151.html)
Вскоре, на основании декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 10 апреля 1923 г. «О государственных промышленных предприятиях, действующих на началах коммерческого расчета (трестах)», объединение преобразуется в Егорьевско-Раменский Государственный Хлопчато-Бумажный Трест. (Тресты – важнейший инструмент НЭПа в государственной промышленности.) Правление, согласно уставу треста (принятому 19 октября) «в составе трех лиц», имело «местопребывание в г. Москве» и обязано было «состоять членом местной товарной биржи»; назначалось ВСНХ РСФСР «по получении заключения от ЦК Всероссийского профсоюза рабочих текстильной промышленности сроком на один год». Как это и было в общем случае, Егорьевско-Раменский трест действовал под общим руководством ВСНХ «на началах коммерческого рассчета с целью извлечения прибыли» без «переложения ответственности на какие либо другие государственные органы или общегосударственную казну»; включал к моменту опубликования своего устава 10 текстильных фабрик: это «Красное знамя» (Раменская), «Трудящийся рабочий» (Ваниловская), «Вперед» (Барановская), «Красный воин» (Мастерова), «9-е января» (Лопатинская), «Молот и серп» (Садковская), «Вождь пролетариата» (б. Хлудовская), «Победа пролетариата» (красильно-набивная), «Победа пролетариата» (Механическо-ткацкая и ШЕД) и Городецкая фабрика.
Подписан Устав треста, с поправками, председателем ВСНХ Пятаковым, управделами ВСНХ Новиковым, и.о. Председателя Особой комиссии СТО (Совета Труда и Обороны) И.А. Калинниковым и представителем Президиума ВСНХ Шеиным. – И.А. Калинников (его инициалы даны в списке подписей единственные) – Иван Андреевич Калинников, профессор МВТУ в т.ч. в годы обучения в нем Цибарта; в 1920-1922 гг. Калинников ректор МВТУ, а в 1930 г. фигурант «дела Промпартии».
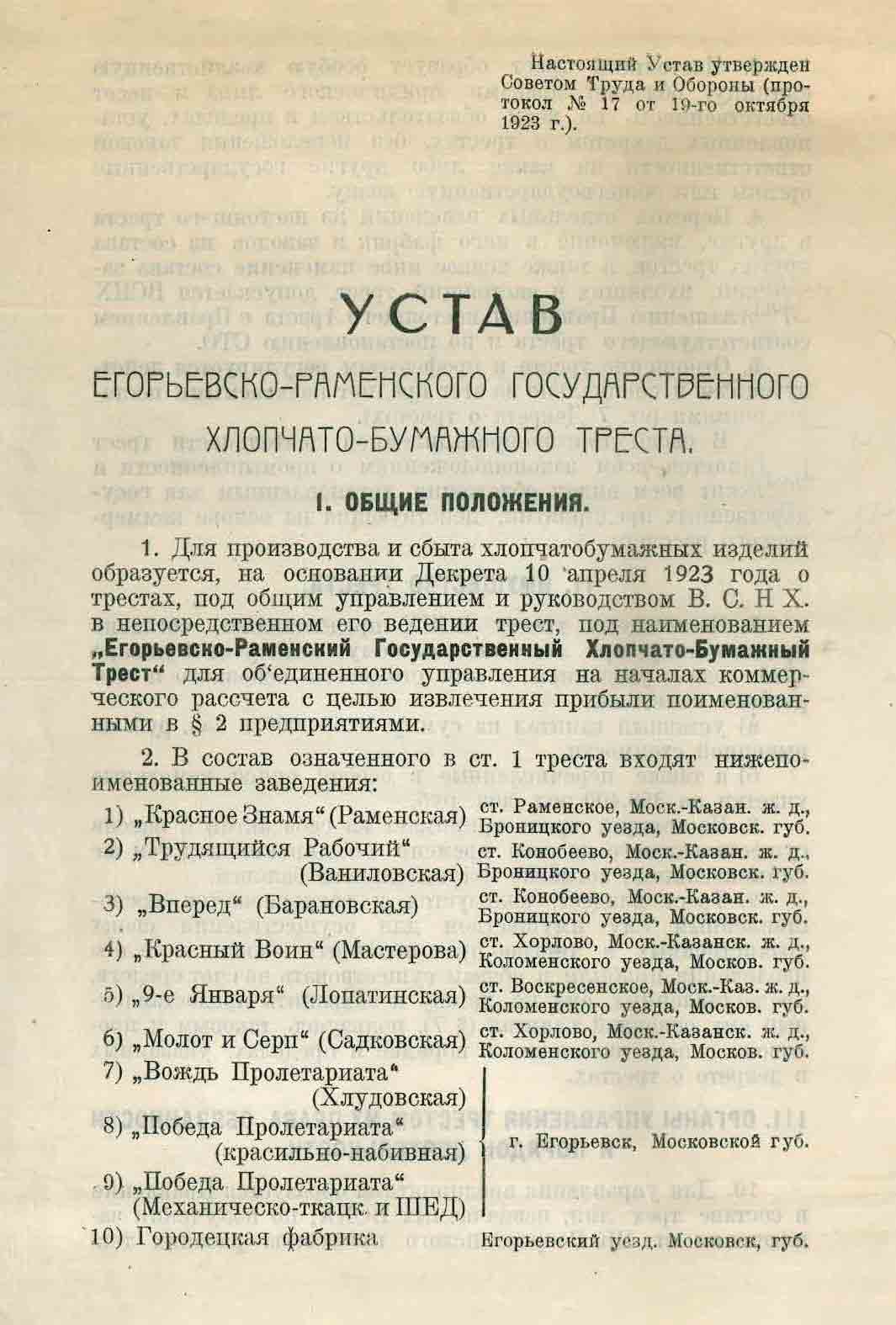
Видимо, в этот период А.А. не сработался с Профсоюзом текстильщиков – 6 декабря 1923 г. председатель ЦК профсоюза И.И. Кутузов (расстрелян в 1937 г.) отправляет в Учраспред (учетно-распределительный отдел) ВСНХ отрицательную характеристику на него (см. РГАЭ ф. 3429 оп. 20 д. 600 л. 14).
Как значится в адресной книге «Вся Москва», А.А. живет в это время на Б. Лубянке, 20 (кв. 9). Ныне в этом здании приемная ФСБ.
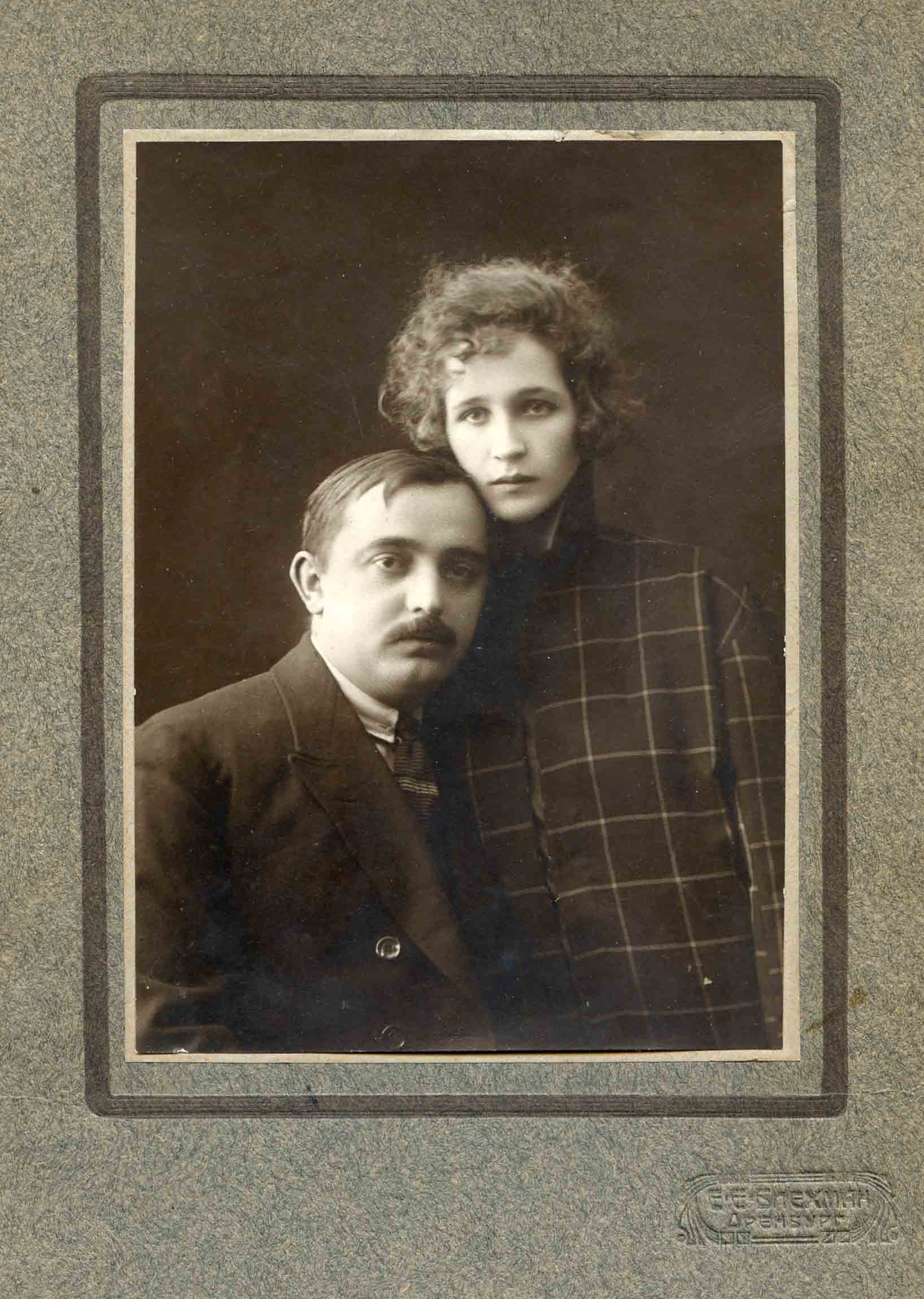
В декабре 1923 г. А.А. Цибарт был «переброшен» в Казахстан (тогда Киргизскую АССР), в столицу автономии Оренбург, на должность директора Илецкого соляного промысла – с 1924 г. именуемого Илецкий государственный соляной трест (позже «Илецксоль»). Задача была исключительно важной – старинный промысел постигла в 1919-м году очередная катастрофа (последствия которой пытались ликвидировать еще в 1925-м году), кроме того, рудник пострадал и от белогвардейцев, а соли в стране не хватало, – здесь до назначения А.А. побывали Фрунзе, Куйбышев, Калинин...
(Между прочим, в 1922-1923 гг. председателем Совета Труда и Обороны Киргизской (Казахской) АССР являлся А.И. Вайнштейн, заместителем которого по СНХ Белоруссии был Цибарт. Неизвестно, могли ли они встретиться в Оренбурге.)
В этом же месяце, 12 декабря, в Оренбурге родилась старшая дочь Адольфа Августовича и Марии Иосифовны – ее назвали в честь матери и сестры А.А. Эльфрида-Леокадия (Э.-Л. А. Абелева, 1923–1996). В интернационализме пролетарской российской власти сомнений, видимо, тогда еще не было.
Весной 1924-го года – новая встреча А.А. с давним знакомым, еще по Гомелю, З.В. Малинковичем: после окончания промакадемии в мае 1924-го года Малинкович прибыл в Оренбург, где «заведывал агитпропом горкома партии» (а в конце 1924 г., после назначения Цибарта членом президиума Казакского [Киргизского] Промбюро ВСНХ РСФСР, он сменит Цибарта – это сведение неточно, возможно, это произошло уже после отъезда Цибарта в Москву – на должности управляющего Илецким соляным трестом).
В 1924 г. в Илецке (историческое название Илецкая Защита, ныне Соль-Илецк) началось «капитальное переоборудование основных производственных единиц рудника – солеразмольной мельницы, силовой станции, подсобных мастерских, материальных складов, динамитных магазинов» – эти работы завершены уже после отъезда Цибарта, в 1927 г.; сразу после отъезда Цибарта трест, под руководством Малинковича, на три месяца снижает добычу соли, в связи с техническим переоборудованием, запланированном, понятно, еще при А.А. «Улучшились жилищно-бытовые условия, повысилось культурно-просветительское обслуживание рабочих» (см. Аксенов). «В 1924 году рудник достиг уровня добычи 1913 года, а в 1927 году этот уровень был превзойден в два раза» (см. сайт История Оренбуржья). «На окраине Илецкой защиты, неподалеку от построек соляного рудника, в 1924 году зародился маленький больничный городок» (см. Секерж). Работали на руднике в основном заключенные, о чем в советской литературе не сообщалось, но точное указание на соседство новых медпунктов с рудником говорит о том, что именно для этого несвободного контингента рабочих они и предназначались, и очевидно были созданы новым руководством Илецкого треста. Условия работы заключенных ко времени назначения Цибарта, видимо, были ужасными: М.И. было известно, например, что те втирали в раны соль, чтобы только попасть в больницу.

А.А. Цибарт. Илецкий соляной промысел/трест, декабрь 1923 – конец 1924 (?)
Мелочь: в это время А.А. подрабатывает (обходя «партмаксимум») фельетонами в местной печати, – одну заметку, касающуюся не6режности партийной чиновницы при проведении «кампании за вступление в МОПР [Международную организацию помощи борцам революции]» – «завженотделом 2 райкома РКП(б), проснись!», – удалось отыскать в интернете, в Оренбургской газете «Смычка», под псевдонимом «дядя Адя».
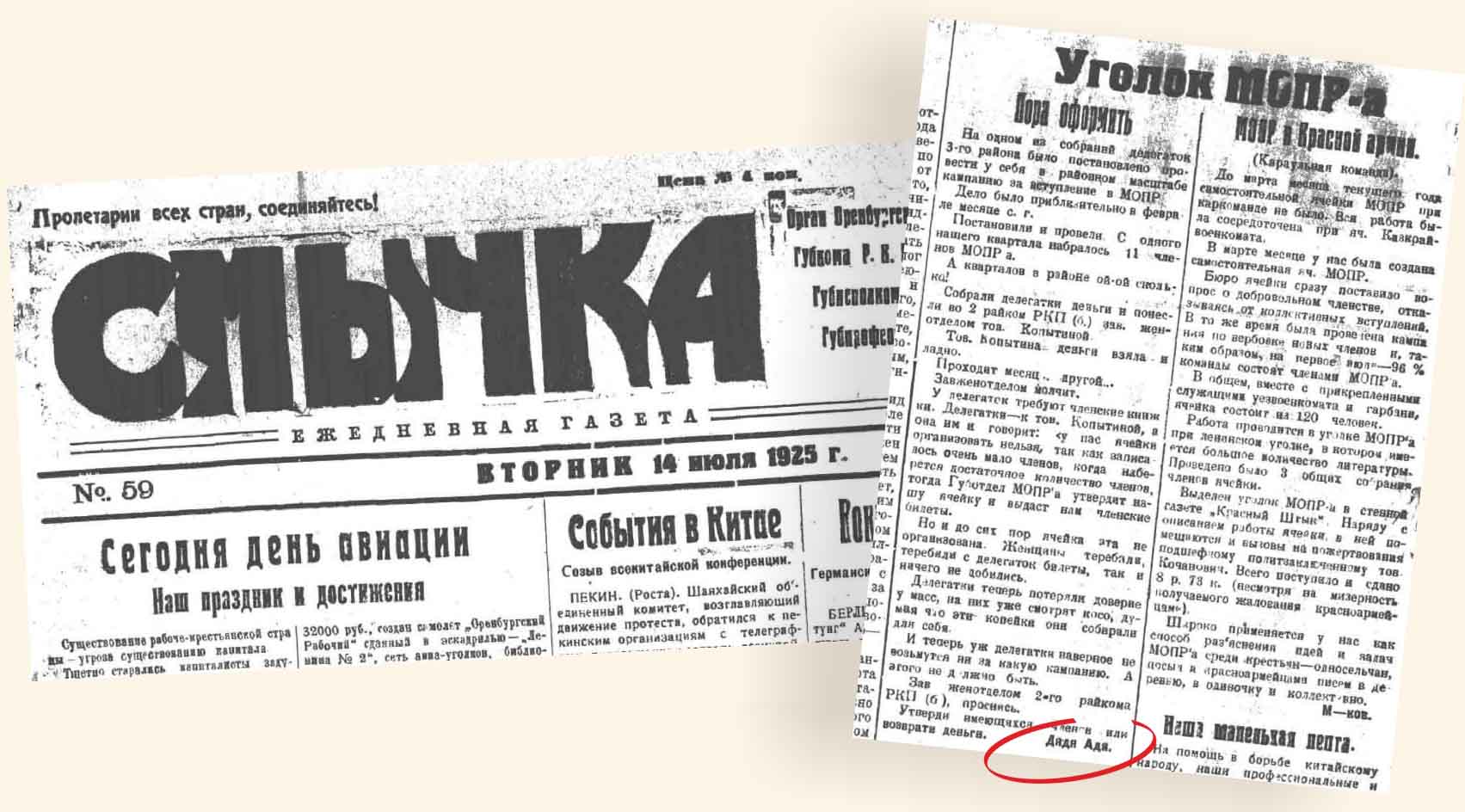
Летом 1924 г. Цибарт с семьей пытаются покинуть Киргизскую республику. Заболела либо полуторагодовалая Эля, либо супруга А.А. Мария Иосифовна, у которой в молодости подозревали туберкулез. Видимо, А.А. обратился с просьбой о новом месте работы в ВСНХ РСФСР, и там охотно идут ему навстречу. – «ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦСНХ КИРРЕСПУБЛИКИ тов. [У.Д.] КУЛУМБЕТОВУ / ВСНХ РСФСР учитывая состояние здоровья семьи т. Цибарта, просит откомандировать последнего в наше распоряжение, предприняв для этого соответствующие шаги в Кир"обкоме. / В ближайшее время мы со своей стороны примем необходимые меры к посылке Вам равноценного хозяйственного работника, но учитывая семейные обстоятельства т. Цибарта, просим не задерживать его откомандирование. / ЗАВ. УЧРАСПРЕД"ом ВСНХ РСФСР /БРЕНЕР/ За Секретаря /КОРНБЛЮМ/» (июнь 1924 г.; РГАЭ, ф. 3429 оп. 20 д. 600 л. 13, также об этом л. 15 и др.).
Однако выезд из Оренбуржья тогда не состоялся. С 14 ноября 1924 г. А. А. Цибарт получает высокое назначение в Киргизской АССР – член президиума Казпромбюро [Кирпромбюро] ВСНХ РСФСР. «14 ноября... годовщина как меня Казакст. Крайком назначил Членом Презид. Кир[гизского] ВСНХ» (Дневник 1937 г.). Судя по данным автобиографии З.В. Малинковича (см. в рубрике «Захар Малинкович ...»), должность заведующего Илецким соляным трестом А.А. с этого времени оставляет (передает Малинковичу). Но в регистрационном бланке члена ВКП(б) 1936-го года Цибарт указывает, что заведовал Илецким трестом вплоть до августа 1925-го года.
С 5 марта 1925 г. А.А. Цибарт – член коллегии и 1-й заместитель председателя ЦСНХ (Центрального совета народного хозяйства) Казакской АССР.
Киргизами, точнее киргиз-кайсаками или киргиз-казаками, именовались до 1925 года казахи. До 1925 г. существовала Киргизская АССР, со столицей в Оренбурге, затем это Казакская АССР со столицей в Кзыл-Орде, Оренбург в автономию уже не входит. В дальнейшем, в 1936 году, в названии республики меняется одна буква – она была переименована в Казахскую АССР, – а затем преобразована в Казахскую Советскую Социалистическую Республику – Казахстан. – Промбюро – существовавшие с 1920 по 1928 гг. советы народного хозяйства крупных промышленных областей и автономных республик РСФСР, руководившие губсовнархозами и предприятиями, подведомственными ВСНХ РСФСР; всего их было 7, в том числе Промбюро Киргизской, позже Казакской АССР. Вышеприведенная цитата из дневника А.А. видимо может быть уточнена так: «14 ноября 1924 г. краевой комитет ВКП(б) КАССР назначил А.А. Цибарта членом Президиума Киргизского, с 1925 г. переименованного в Казакское, Промбюро ВСНХ РСФСР». |
В это время А.А. не мог, очевидно, не контактировать с будущим наркомвнуделом Ежовым. В 1924–1925 гг. Н.И. Ежов был зав. орготделом Киргизского обкома ВКП(б), а в 1925–1926 – зам. ответственного секретаря Казакского крайкома. (В те годы, хочется здесь упомянуть, Ежов еще не проявлял явных людоедских черт.) В 30-х годах, в разгар ежовщины, А.А. вспоминал в разговорах с друзьями о своем давнем с ним знакомстве: на партсобрании МММИ в декабре 1937 года осмелевшие «травители» А.А. подвергают это знакомство сомнению. «Возьмем Шевцов – человек подхалим, он говорит с активом одно, а с Цибартом другое, его конечно надо гнать. Распустил он слухи, что Цибарт друг Ежову и тем самым глушил критику и самокритику...»
После Киргизии-Казакстана, с сентября, а фактически (см. РГАЭ) с 4 октября 1925 г. А.А. в Москве, в руководстве всей государственной (хозрасчетной) текстильной отраслью РСФСР. «Работает в Уместпроме [Управлении местной промышленности] ВСНХ РСФСР в должности Завед. Текстильным п/отделом» (РГАЭ ф. 3429 оп. 20 д. 600 лл. 12, 25). Иначе его должность называлась – директор (один из двух или трех) Директората текстильной промышленности ВСНХ РСФСР. Директораты – отраслевые подразделения Центрального управления государственной промышленностью (ЦУГПрома) ВСНХ. В 1927-м году (за 1925 и 1926 гг. сведения не найдены) Старшим директором Текстильного директората ВСНХ РСФСР был Василий Максимович Кесаев (бывш. нарком финансов Терской Советской республики), директорами – Цибарт и Корнблюм Александр Исаакович; в 1928 и 1929-м гг. – ст. директор Кесаев, директор Цибарт (Адресно-справочная книга «Вся Москва» 1927, 1928, 1929).
О деятельности А.А. на этом посту можно составить представление по многим его статьям и заметкам в журнале «Швейник».

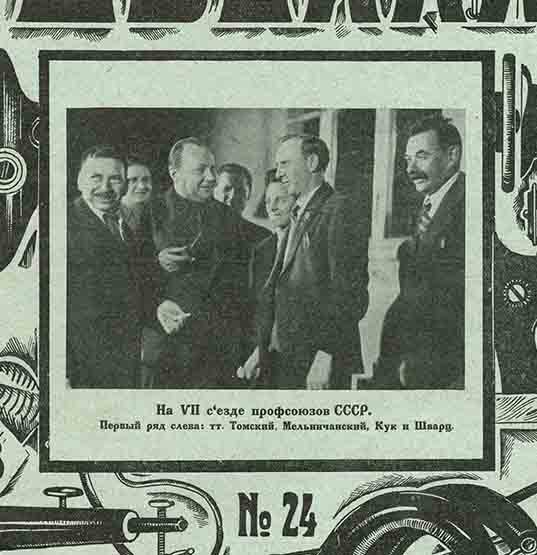
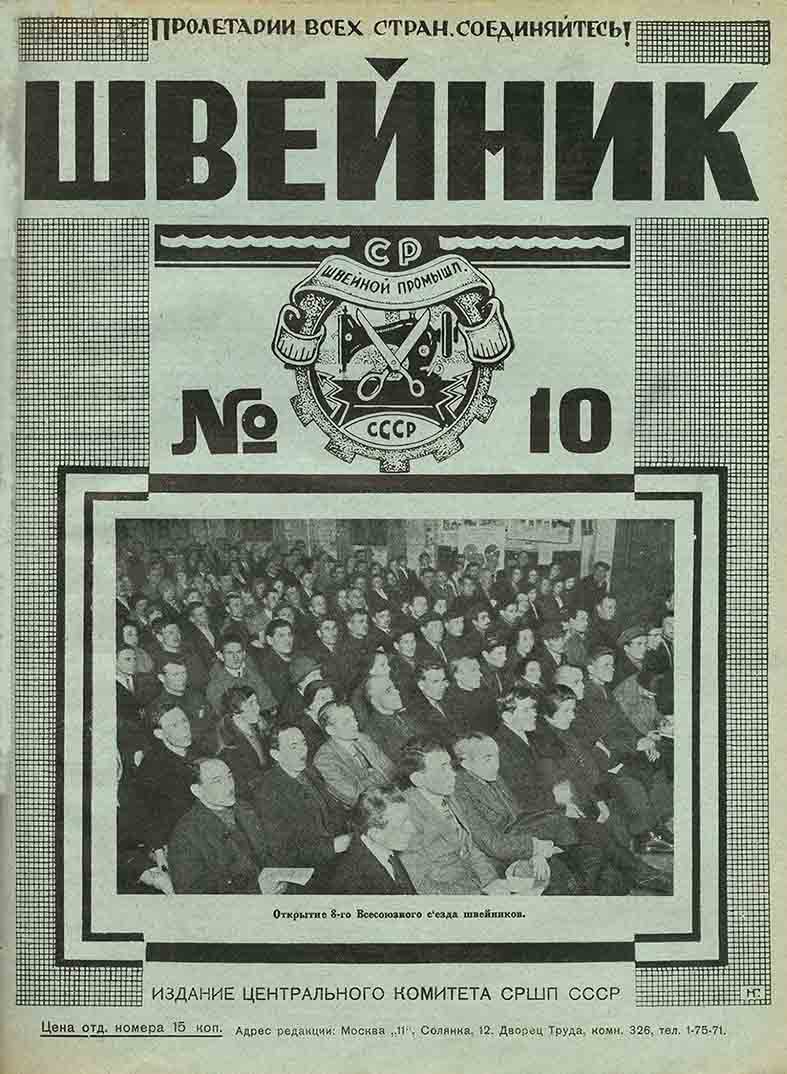
К 1924-му году на долю трестов приходилось 80% всей производимой продукции страны, однако именно текстильными трестами выпускалось лишь 10% от объема швейной продукции в целом, покупатель предпочитал «квартирника-кустаря». Одной из причин этой отсталости была разобщенность швейных предприятий и трестов (существовавший к тому времени Всесоюзный текстильный синдикат, как не оправдавший себя, был ликвидирован), а также недостаточное внимание к ним губернских совнархозов. В 1926 г. директор директората А.А. – также председатель выборного органа фабричной швейной промышленности – Бюро Постоянного Совещания по делам швейной промышленности, созданного с целью координации работы отдельных трестов и представительства их интересов в высших хозяйственных и правительственных органах. (Деятельность Бюро аннонсируется Цибартом в статье начала 1926-го года «Ближайшие задачи фабричной швейной промышленности», см.) К Совещанию, относящемуся поначалу лишь к промышленности РСФСР, вскоре присоединились Белоруссия, Азербайджан и Украина (всего 26 трестов), затем, возможно, и другие республики. «Таким образом, теперь Совещание об’единяет фактически всю промышленность Союза ССР и это не по принуждению сверху, а путем свободного и, безусловно, здорового стремления мест. Не считая существующую организацию идеальной формой об’единения и рассматривая ее лишь как первое нащупывание организационных форм регулирования и управления Швейной промышленностью, нужно признать, что мы имеем дело с положительным явлением добровольного об’единения швейной промышленности, что является залогом ее дальнейшего роста и укрепления» (см. Цибарт, Ближайшие...).
Вообще, можно заметить, что ни в одной из своих статей по этому вопросу Цибарт не предлагает каких-либо административных ограничений деятельности «квартирников-кустарей», – речь шла о честной (относительно) конкуренции государства с частником на рынке. А в объединении самих трестов Цибарт особенно ценит его «здоровую» добровольность и отсутствие «принуждения сверху».
Среди других тем, по которым А.А. высказывается в «Швейнике» в 1926-м году – состояние капиталов государственной швейной промышленности; разделение труда и конвейер; возможность введения второй смены; разработка единой учетной единицы; организация обмена опытом, а также прошедший в 1926-м году пленум Постоянного совещания швейной промышленности, и др. В 1927 г. при Постоянном совещании швейной промышленности создается Комиссия по стандартизации проз- и спецодежды, А.А. Цибарт – ее председатель. В этой связи выходят две статьи в «Швейнике». Со всеми найденными статьями Цибарта, в т.ч. этого периода, можно ознакомиться на этом сайте.
Кроме энергичной административной деятельности и совершенного владения экономической наукой в приложении к условиям НЭПа (см., напр., статью «Наши капиталы»), Цибарт (что и естественно) демонстрирует особый интерес к развернувшимся в то время исследованиям в области рационализации или иначе научной организации труда, связанным в России 1910–20-х гг. главным образом с именем О.А. Ерманского (о нем еще будет речь далее). В статье «Что дает разделение труда и конвейер», замечая, что «конвейерная система – идеал разделения труда», А.А. предостерегает: «...в небольших предприятиях (а они составляют большинство) нужно к вопросам разделения труда, и в особенности к введению конвейера, подходить сугубо осторожно и ни в коем случае не копировать слепо опыта больших фабрик». Любопытно подтвержденное статистически наблюдение, что в результате введения конвейера производительность труда неквалифицированных работников растет пропорционально больше, чем квалифицированных.
В 1927-м году проходит сокращение штата ВСНХ.
В связи с этим, А.А. Цибарт получает следующие характеристики. «ДЕЛОВАЯ ОЦЕНКА данная в комиссию по сокращению штата ВСНХ РСФСР Ст. Директором Текстильного Д-та т. КЕСАЕВЫМ 17/VIII-27 г. – Директор Текстильного Д-та Цибарт А.А. По специальности текстильщик. Производство знает хорошо. Исполнительный, но много времени уделяет общественной работе, почему полностью не может быть использован в Директорате». И другая: «ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 Заседания Комиссии по сокращению аппарата ВСНХ РСФСР от 23-го августа 1927 года. ... Дело знает. Инициативный работник. Принимает большое участ. в обществ. работе. Вполне соответ. своему назначению. ... I категор.» Несмотря на неблагоприятный отзыв Кесаева, по заключению Учраспреда ВСНХ РСФСР «при пересмотре в связи с сокращением штатов», «характеризующих и отводящих материалов [на Цибарта] нет» (РГАЭ ф. 3429, оп. 20, д. 600, лл. 9, 10, 11). Таким образом, А.А. продолжает работать директором (в это время одним из двух) Текстильного директората вплоть до своего назначения в МВТУ.

Пл. Ногина (Славянская площадь), открытка 1935 г.
Здесь с 1925 г. располагался в т.ч. директорат текстильной промышленности.
Деловой двор. ВСНХ РСФСР; ВСНХ СССР; НКТП СССР
В 1928 и 1929 гг. статей А.А. в «Швейнике» не появляется.
В 1928 (или 1927) году А.А. Цибарт больше не возглавляет, а с 1929 года и не входит в состав Бюро постоянного совещания по делам швейной промышленности. Думается, что прямо или косвенно это связано с отказом центральной власти от НЭПа.
В 1927 году власть возрождает ВТС (Всесоюзный текстильный синдикат).
Это было, конечно, не продолжением, а отходом от принципов НЭПа, именно в сторону не одобрявшегося Цибартом «принуждения сверху». «Деятельность синдикатов можно разделить на два этапа: 1921–1925 и 1926–1929 годы. На первом этапе происходила организация синдикатов, вырабатывались методы их работы, основанные на хозрасчетных принципах ... Второй этап характеризуется усилением регулирующего влияния синдикатской системы, укреплением самих синдикатов и постепенным перерастанием их в органы управления промышленностью»; «Переход СССР к индустриализации сделал необходимым распространение плановой централизованной системы снабжения и сбыта на всю промышленность...» (см. Звездин).
А.А. Цибарт получает новую, формально близкую к задаче Бюро постоянного совещания, но по сути противоположную задачу.
14 марта 1927 г. приказом № 537 по ВСНХ СССР создается Организационное бюро «для проведения подготовительных работ по организации [Всесоюзного] синдиката швей<ной> промышленности и оформления устава его». Бюро Постоянного совещания по делам швейной промышленности, возглавлявшееся раньше Цибартом, не ликвидируется, но теперь его возглавляет тот самый Ф.И. Чугунов, на которого возложена должность председателя Оргбюро нового ВТС. А.А. Цибарт входит в число шести членов этого оргбюро (РГАЭ ф. 3429, оп. 20, д. 600, лл. 24 и 20).
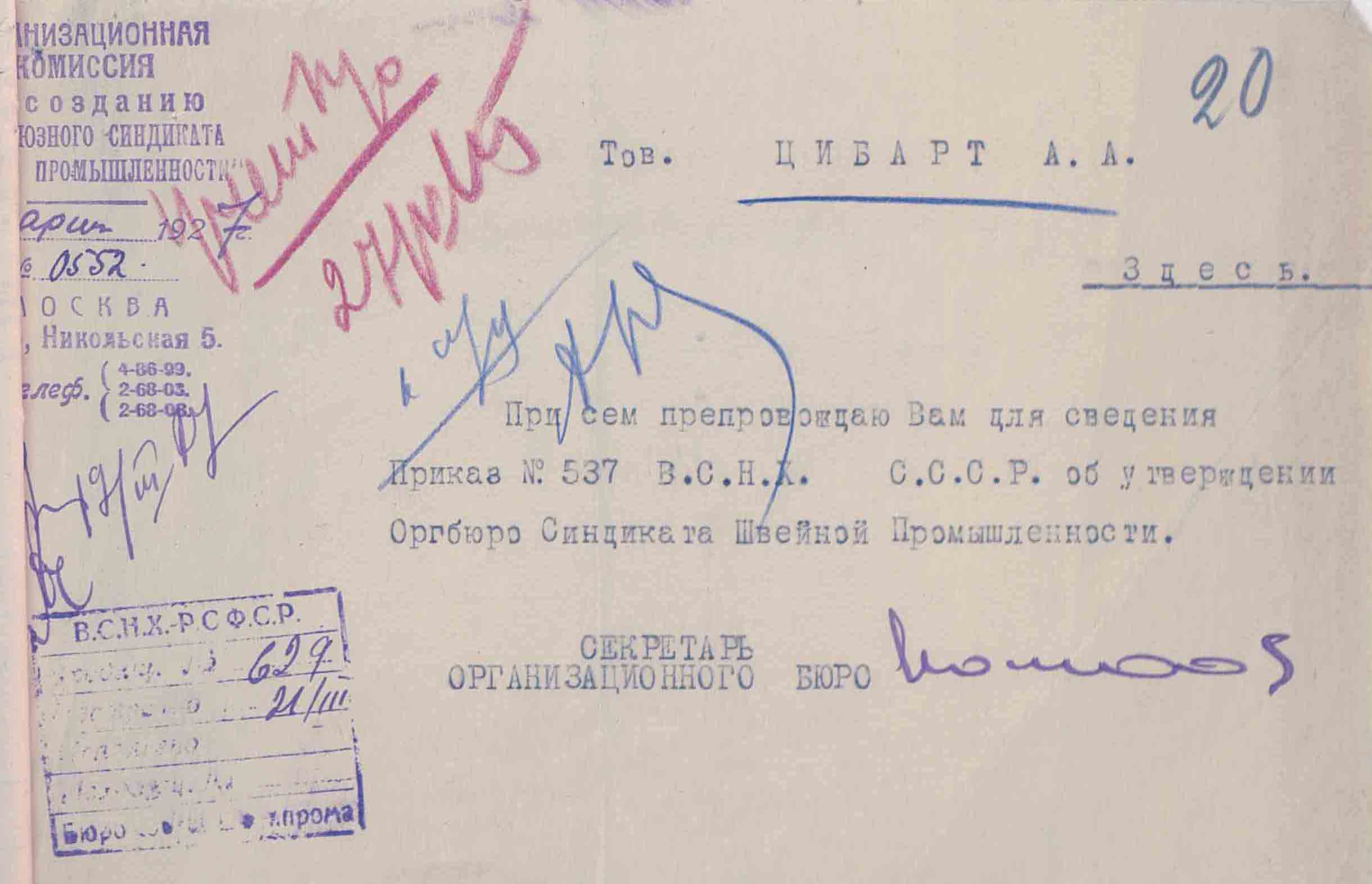
* * *
Итак, с начала 1920-х гг., со времен работы в Белоруссии, Цибарт, в основном – хозяйственный деятель, проводник «Новой экономической политики» (вплоть до ее завершения). Характерно, что в его статьях в журнале «Швейник» (возможно, были статьи в других журналах или другие печатные работы), конец которым положил, видимо, конец НЭПа, ни разу не поминаются Ленин или Сталин, как и не встречается аббревиатура ВКП(б)...
«Период этот, по многим причинам, в книгах по истории МВТУ освещается с большим числом недомолвок,
хотя по количеству и качеству происходивших событий он может быть отнесён к наиважнейшим»
И.Л. Волчкевич. Очерки истории МВТУ
«Как и в других важных делах, тов. Сталин был главным инициатором реорганизации вузов и втузов на протяжении 1928–1929 гг.»
В.М. Молотов. Речь на Первом всесоюзном совещании работников высшей школы 15 мая 1938 г.
«Идея же о целевой установке каждого втуза,
т.-е. чтобы каждый втуз или хотя бы каждый факультет работал лишь по определенной специальности,
без разветвления на высших курсах, есть идея сумасшедшая»
А.В. Луначарский. Еще несколько слов по вопросу о втузах. Правда, 12 июля 1928 г.
«Нам нужно теперь обеспечить себя втрое, впятеро больше инженерно-техническими
и командными силами промышленности, если мы действительно думаем осуществить программу социалистической индустриализации СССР.
Но нам нужны не всякие командные и инженерно-технические силы. Нам нужны такие командные и инженерно-технические силы,
которые способны понять политику рабочего класса нашей страны, способны усвоить эту политику и готовы осуществить ее на совесть.
А что это значит? Это значит, что наша страна вступила в такую фазу развития, когда рабочий класс должен создать себе свою собственную
производственно-техническую интеллигенцию, способную отстаивать его интересы в производстве, как интересы господствующего класса»
Сталин, Речь на совещании хозяйствеников 23 июня 1931 г.
«Профессор математики приветствовал нас так: "Здравствуйте, инженеры царства теней!" –
чем вызывал глухой ропот в зале. "Зря обижаетесь, ведь начертательную геометрию изъяли из курса,
как же вы займетесь проектированием?" Возможно, он был прав, однако, такое обращение
сократило число его слушателей в несколько раз»
М.С. Карпачева. Записки советского инженера
К концу 1920-х, с началом первой пятилетки, НЭП фактически прекращает свое существование. Начинается «индустриализация».
К несчастью, техническая школа – ковка ударными темпами «втрое, впятеро» бо́льшего числа «красных специалистов» – в фокусе внимания партии. Общий замысел реконструкции самого́ типа техобразования, соответствующего этой цели, состоял, по общепринятой формуле, в том, чтобы «обеспечить органическую связь [технического образования] с производством» (см. Янау). Имелось в виду, очевидно – учить лишь тому, чего требуют конкретные производственные задачи (ибо невежество верит, что это вообще возможно). Причем учить до половины учебного времени прямо на производстве (но без каких-либо занятий, лишь выполняя «промфинпланы» и помогая заводам в «прорывах»), заодно с этим сокращая сроки и без того обкорнанного обучения, соответственно разоряя учебные программы и снижая требования к учащимся. Последние два пункта были необходимы еще и потому, что абсолютное большинство представителей «господствующего класса», которыми партия наполняла втузы порой даже против воли самих этих представителей, попросту не могли иметь достаточной для учебы в вузах подготовки.
Мысли «реакционных» ученых о должных путях технического образования в России, такие, в частности, как высказанные последним директором ИМТУ В.И. Гриневецким (а труд Гриневецкого, умершего в 1919-м году от тифа, в свое время восхитил Ленина и лег в основу ГОЭЛРО), вождям ВКП(б) сталинского периода оказались, что называется, без надобности. Меж тем в 1915-м году Гриневецкий писал (см.): «Подобно тому, как в практической технике все развитие идет в двух направлениях – специализации в разных отраслях и оплодотворяющего взаимовоздействия этих отраслей – и в технической школе развитие инженерного образования должно идти в двух направлениях. С одной стороны, должна расти специализация образования, с другой – должно усиливаться взаимодействие, тесное сотрудничество разных специальностей. Единственно школа политехнического типа, при достаточно гибкой организации, может удовлетворять обоим направлениям – и поэтому она является жизненно необходимой для интенсивного развития русского инженерного образования». Именно на узкую специализацию при искоренении «оплодотворяющего взаимовоздействия» специальностей (то есть общей подготовки или, как это будет называться, «универсализма»), и будет направлена разрушительная реформаторская активность ВКП(б) в технической школе.
Тезисно, схема этой «реконструкции» заключалась в следующем:
– «Передача втузов промышленности» – то есть, организационно, из ведения Наркомата просвещения в ведение ВСНХ СССР, промышленных наркоматов и ведомств. Их «отраслирование» – жесткая специализация втузов по отдельным отраслям промышленности. Соответствующее этой задаче раздробление крупных многофакультетных втузов. Резкое увеличение, в т.ч. за счет последнего, их числа. Узкая специализация выпускаемых инженеров.
– Сокращение сроков обучения во втузах до 3–4 лет, за счет вытеснения общетеоретических предметов.
– «Непрерывное практическое обучение» – работа студентов на заводах, до половины всего учебного времени.
– Усиленная «пролетаризация» состава будущих «красных специалистов» (до 70–80% от числа учащихся), без оглядки на наличие у внедряемых на учебу достаточной подготовки, с ее апофеозом – набором т.н. парт- и профтысячников.
– Внедрение «активных методов преподавания», «бригадного метода обучения» (т.е. сведе́ния лекций к минимуму и запрета индивидуальных зачетов) – по существу способ облегчить студенту прохождение курса путем снижения качества учебы. Отмена дипломного проектирования.
– «Борьба за качество выпускаемых специалистов»; под «качеством специалистов» разумелось главным образом то, что они должны были стать в преобладающем большинстве «красными» (из рабочего класса).
– Улучшение финансирования втузов, перенятие зарубежных достижений (преподавание языков, переводы зарубежной технической литературы и пр.), издание специальной литературы, снижение отъема времени на «общественные нагрузки» (но не на «общественные науки»), и др.
Основные ее вехи:
– Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 6 – 11 апреля 1928 г. Нужной Сталину резолюции провести бы на нем еще не удалось (Куйбышев выступает довольно робко, против даже Орджоникидзе, сам Сталин как бы в стороне), – но сразу после пленума (13 апреля) он обрисовывает свой замысел. В общих фразах он призывает сократить теоретическую («от книжки») подготовку во втузах, ввести в обучение «неразрывную связь с производством, с фабрикой, с шахтой и т.д.», и предлагает с этой целью передать несколько втузов из ведения Наркомпроса в ведение ВСНХ СССР.
– Пленум ЦК ВКП(б) 4 – 12 июля 1928 г., постановление «Об улучшении подготовки новых специалистов». 6 втузов передаются ВСНХ (и 2 – наркомату путей сообщения), предлагается создание нескольких втузов с 3–4-годичным курсом обучения, производственная практика во всех втузах устанавливается минимум в 10 месяцев. Принимается решение о ежегодном внедрении на учебу во втузы «партийных тысяч» – рабочих с партийным и управленческим стажем, хотя бы и без среднего образования.
– Пленум ЦК ВКП(б) 10 – 17 ноября 1929 г., постановление «Об исполнении решений июльского пленума о подготовке технических кадров». «Дальнейшая передача» втузов ВСНХ СССР, хозяйственным наркоматам и ведомствам. Срок обучения для всех втузов – 3, максимум 4 года. Производственная практика – до 50% всего учебного времени. Пролетарский состав учащихся определен минимум в 70–80%. Одобряются и продолжаются наборы парттысячников (к ним, по инициативе профсоюзов, присоединяются и профтысячники, в т.ч. и не члены ВКП/б/).
– 13 января 1930 года. Постановление ЦИК и СНК СССР о «О подготовке технических кадров для народного хозяйства Союза ССР». Воспроизводит директивы ноябрьского 1929 г. пленума. К началу 1930/31 уч. года все втузы обязаны перейти на соответствующие новые программы.
– 23 июля 1930 г. Постановление ЦИК и СНК СССР «О реорганизации вузов, техникумов и рабфаков» (МВТУ будет реорганизовано, т.е раздроблено, раньше – уже 20 марта).
– 19 сентября 1932 г. Постановление ЦИК СССР «Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах». – Окончание эпохи «реконструкции», практически отмена всех ее нелепых «достижений».
* * *
«Передача втузов промышленности», «отраслирование» («отраслизация»), дробление втузов
6 июля 1928-го года завершается расстрельными и лагерными приговорами «Шахтинское дело» – погром на крупных «буржуазных» инженеров; но «"шахтинцы", – предостерегает вождь (22 апреля 1929 г.), – сидят теперь во всех отраслях нашей промышленности. Многие из них выловлены, но далеко ещё не все выловлены». Это дело ОГПУ, а «хозяйственники» должны сделать выводы по само́й организации техобразования.
Началом очередного, после первых лет революции, наступления ВКП(б) собственно на высшее техническое образование явилась передача втузов из ведения Наркомата просвещения в ведение ВСНХ СССР, запущенная объединенным пленумом ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 1928-го года. По мысли Сталина, высказанной им по завершении этого пленума, порок «молодых спецов», не сумевших распознать «вредительства» старых «спецов» на шахтах, состоял в следующем: «Новые молодые спецы то и дело терпят поражение в борьбе со старыми спецами. Почему? Потому что они учились по книжке, они спецы от книжки, но у них нет практического опыта, они оторваны от производства, и они, естественно, терпят поражение. А разве нам такие спецы нужны? Нет, не такие спецы нам нужны...». Похожие на невинное и глуповатое общее место слова о «книжке» были на самом деле зловещи: опасной для созидания нужных партии инженеров оказалась фундаментальная теоретическая учеба. А посему: «необходимо изменить их обучение, причем изменить надо таким образом, чтобы молодые спецы с первых же лет своего обучения во ВТУЗах имели неразрывную связь с производством, с фабрикой, с шахтой и т.д. А кому легче всего провести эти изменения в практике обучения молодых специалистов – Наркомпросу или ВСНХ? Я думаю, что ВСНХ было бы легче провести это улучшение». Результат долгой дискуссии на пленуме предопределен: «нельзя вопрос о подготовке командного состава для промышленности ставить только с точки зрения культурнической» (Каганович), и т.д. Робкое опасение наркома просвещения Луначарского, что «может быть, у ВСНХ будет снижение типа [выпускника втуза] к практику-инженеру без достаточных научных основ» подтвердятся в самом худшем варианте. Уже через два месяца выяснится, что именно «научные основы» техобразования и предполагалось свести к известному одной партии минимуму.
Решениями июльского 1928 г. пленума ЦК ВКП(б) (резолюция «Об улучшении подготовки новых специалистов») некоторые втузы, и ноябрьского 1929 г. пленума (того самого, что запустил сплошную коллективизацию) все втузы уходят от Наркомпроса и прикрепляются к ВСНХ, промышленным наркоматам и ведомствам. Это – т.н. «отраслирование» или ставшее более употребительным «отраслизация». Многофакультетные политехнические учебные заведения предписано с этой целью разделить на специальные отраслевые учебные заведения. МВТУ раздроблен одним из первых, а после июльского 1930 г. постановления ЦИК и СНК все оставшиеся многофакультетные втузы.
Все происходит именно так, как, в последний день июльского пленума, обрисовал в «Правде» (12 июля 1928 г., см.) Луначарский. Отвечая своим критикам, он пишет: «Повидимому, тт. Эйдеману и Самарину кажется, что для каждой узкой специальности необходим особый вуз или особый факультет. Поздравляю их с такой идеей. Для этого мы, конечно, никогда не напасемся денег. Да и что за нелепая затея. Если студентам всех специальностей нужен некоторый общий фундамент, то, очевидно, общий фундамент им и надо давать сообща. Неужели устраивать десяток физических лабораторий там, где можно иметь одну для десяти узких специальностей?». Предполагаемая реконструкция втузов не только бессмысленна, но и затратна. «Идея же о целевой установке каждого втуза, т.-е. чтобы каждый втуз или хотя бы каждый факультет работал лишь по определенной специальности, без разветвления на высших курсах, есть идея сумасшедшая.»
(Кстати, в своей статье Луначарский обращает внимание и на то, что у ВСНХ к началу сталинской реконструкции техобразования не было четкого представления о действительной потребности промышленности в инженерах. «...ВСНХ, имеющий полную возможность опереться на ВСУ, на Госплан и на собственные свои сведения, в течение всего истекшего времени не мог дать никаких вразумительных заявок относительно количества необходимых ему разнородных специалистов»; «Когда непосредственно промышленность представила ВСНХ свои соображения о потребности в специалистах на пятилетку, оказалось, что общая цифра заявок промышленности совпала с [представленной до того ориентировочной] общей цифрой НКП. Совпали также многие отдельные данные, хотя в некоторых оказалось расхождение. В кратчайший срок после этого, неведомо какими методами, до сих пор не опубликованными, ВСНХ перекроил цифры заявок до неузнаваемости. По ним, например, заявок на инженеров почти вдвое больше...» – «Неведомые методы», очевидно, были доступны Сталину – с его «втрое, впятеро больше»...)
Нелепая, сумасшедшая идея взяла верх. Первый год пятилетки «индустриализации» дал старт подлинному разгрому технического образования в СССР.
На базе «громоздких» и «пораженных внутренним параличом» «колосса на глиняных ножках» МВТУ и «подобных» ему Ленинградского Политехнического института, Московской Горной академии и других (закавыченные выражения принадлежат Д.А. Петровскому), создаются по нескольку новых, путем их деления по специальностям; так осуществлялась задача «сцепления» втузов с соответствующими промышленными объединениями.
Давид Александрович Петровский (Давид Эфраимович Липец) – один из главных кураторов процесса реконструирования технической школы. В свое время член ЦК Бунда и затем видный деятель РКП(б) – ВКП(б) и Коминтерна, знавший и Ленина и Троцкого, имевший прекрасное экономическое, но не техническое образование, – в рассматриваемый период начальник Главтуза (Главного управления техническими учебными заведениями) ВСНХ СССР, а с октября 1933 г., через некоторое время после того, как 5 января 1932 г. ВСНХ СССР был преобразован в Народные комиссариаты тяжелой, легкой и лесной промышленности – начальник ГУУЗа (Главного управления учебными заведениями) НКТП СССР; также главный редактор журнала НКТП «За промышленные кадры». Надо сказать, что после отмены всех описываемых реформ и возврата к нормальному способу обучения его деятельность на своем посту, в основном, положительна. – В судьбе Цибарта Петровский невольно сыграет определяющую роль. О рабочих и личных взаимоотношениях Петровского и Цибарта, участи Петровского и пр. речь пойдет далее. – См. также на этом сайте собственные тексты Петровского: «Реконструкция втузов и борьба за качество»; «Реконструкция технической школы и пятилетка кадров»; речь на 1-м заседании совета КрМММИ им. Баумана (сб. «Очередные задачи втузов», стенограмма). |
Создаются и новые втузы (понятно, что задача их укомплектования преподавателями решалась кое-как: «в выделенных из старых втузов оставались старые кадры профессоров и преподавателей, штаты же новообразованных втузов набирались по мере возможности» – «Высшая техническая школа» /в дальнейшем ВТШ/ 1934 № 1, Беркенгейм). Их общее число вырастает в это время в несколько раз: в 1929-м году в СССР было 30 втузов, к 1933-му их стало 131 («За промышленные кадры» /в дальнейшем ЗПК/ 1934 № 8 /апрель/). Видимо, само понятие втуза стало размытым – «Высшая техническая школа» приводит и другую цифру: «Колоссальный количественный рост высшей школы (488 втузов на январь 1933 г.) обгонял возможности ее обеспечения материальной базой. Рядом с существующими мощными учебными заведениями организовывались карликовые вузы и втузы, не имевшие собственных зданий, лабораторной базы и квалифицированных научно-педагогических кадров. Количество студентов в некоторых из этих учебных заведений едва превышало две сотни человек» (ВТШ 1935 № 1, проф. В.И. Раздобреев, Перспективы предстоящей работы). После отмены этих реформ (постановлением ЦИК 19 сентября 1932 г.) возникшие таким образом втузы ликвидируют или объединяют. «К январю 1934 г. их осталось 357», сообщает тот же источник. В № 2 «Высшей технической школы» за 1936-й год помещается статья «Втузы и вузы СССР к началу 1935/36 учебного года (по статистическим материалам ЦУНХУ и ВКВТО)»; согласно этой статистике, в 1932/33 учебном году только промышленных втузов было 226, число учащихся в них 188,7 тыс. человек; в 1935/36 уч. году втузов осталось 129, с общим числом учащихся 166,4 тыс.
Сокращение срока обучения во втузах
В цитированной выше статье Луначарского есть и такое замечание: «...меньше, чем в 5 лет, по большинству специальностей инженера приготовить нельзя. Уже после войны у немцев такие технические высшие школы, как в Мюнхене, Шарлоттенбурге, Карлсруэ, перешли с четырехлетнего курса на пятилетний. Между тем нашему студенту необходимо изучить новый язык, по крайней мере один, на нем лежат неведомые в Германии общественные обязанности, он должен изучить политминимум, он готовится [в средней школе] только 9 лет против 10 в Германии, и вы все это хотите втиснуть в 4 или даже 3 года? Практически это не выйдет».
Но для партии не существует естественных преград. За счет сокращения в программах фундаментальных теоретических предметов – математики, физики, химии, сопротивления материалов и др., вкупе с внедрением «активных методов преподавания», срок пребывания студентов во втузах уменьшается до трех, максимум до четырех лет (ноябрьский 1929 г. пленум ЦК, постановление ЦИК и СНК СССР от 13 января 1930 г.). В МВТУ, где этот срок к 1930-му году составлял 5 лет, он сократился до четырех. «Выиграть время и взять более быстрые темпы» предстояло, поборовшись в числе прочего, курьезно, с «той обломовщиной», каковая по мнению партии «царила в нашей технической школе и делала ее работу в буквальном смысле бесплодной» (Петровский, Реконструкция технической школы...).
Кроме борьбы с предполагаемой «обломовщиной» в труднейших вузах, обеспечить «более быстрые темпы» в 3-4 года обучения в них можно было, лишь «пересмотрев содержание учебной работы и ликвидировав в основном безмерное количество знаний "на девять десятых ненужных и на одну десятую искаженных" [Ленин]» (из материалов архива администрации МММИ за 1931 год). Вообще, ленинская цитата о знаниях, «на девять десятых ненужных», – дежурная, она постоянно мелькает в это время и в печати, и в деловых документах учебных заведений; это практическое руководство к действию для реформаторов. – Озвучивали партработники и еще одну цель – по воспоминаниям тогдашней студентки МВТУ. Вместе с ликвидацией ставших ненужными знаниий открывалась возможность активнее изгонять их носителей, «буржуазных спецов». – «Срок обучения сократили до четырех лет, что вовсе не улучшило качество знаний. Нам объясняли, что такие меры вызваны необходимостью избавиться от засилья дореволюционных преподавателей, а нас поскорее выпустить на производство. И как будто в подтверждение этому, из наших институтов постепенно исчезали многие преподаватели-"вредители"» (Карпачева)...
Интересно, что, как мы видели, на сокращение курса учебы во втузах партия отваживается не сразу (или, может быть, рассчитывает на то, что «инициатива» на местах довершит дело в заданном направлении, чего не последовало). В резолюции июльского пленума 1928-го года по срокам обучения во втузах речь шла лишь о малом числе втузов: «начать с 1928 г. организацию нескольких втузов нового типа, особенно для дефицитных специальностей (например, строительной и др.), с доведением срока обучения в них до 3–4 лет». Однако приуроченная к годовщине Пленума программная статья в «Правде» (см. Янау) 20 июля 1929 г. уже прямо направлена против «реакционных и консервативных элементов», посягнувших в т.ч. на «смазывание четких установок, вытекающих из существа решений июльского пленума, и протаскивания отвергнутых июльским пленумом установок»; эти «реакционные элементы» осмеливались утверждать, что «"июльский пленум не дал директив" о сокращении сроков обучения», что «нельзя осуществить взятых темпов при одновременной постановке вопроса о сокращении сроков обучения и повышении уровня теоретической и технической подготовки, – это, мол, вступает в конфликт с ограниченными возможностями человека», что «5–6 лет являются минимальными» и пр. «Существо решения» пленума по этому вопросу, как выяснилось, состояло как раз в максимальном сокращении сроков обучения во всех втузах и техникумах. И ноябрьский пленум 1929 г. вносит в вопрос уже окончательную определенность: «расширить сеть втузов ... с сокращенным сроком обучения (3 года), установив предельным сроком обучения для всех остальных втузов 4 года обучения». Скорое (от 13 января 1930 года) постановление ЦИК и СНК СССР о «О подготовке технических кадров для народного хозяйства Союза ССР», или «январская реорганизация», как называл это Петровский, воспроизводит замысел партии в качестве прямого указания. К началу 1930/31 учебного года все втузы обязаны были перейти на новые программы.
|
Похоже, Петровский – искренний и радикальный сторонник реформы. Вот отрывки из его выступления на ноябрьском 1929 г. пленуме ЦК. «Петровский. ... Ни для кого не тайна, что резолюция июльского пленума, по сути дела, подтверждена, жизненность ее подкреплена всем ходом борьбы за кадры. Спрашивается, чем объяснить тот факт, что эта резолюция проводилась в жизнь так медленно, что результаты ее столь ничтожны? Я знаю общий политический ответ, он всем нам известен. Он сводится к тому, что на этом участке фронта классовый враг представлен весьма и весьма серьезными, весьма и весьма сильными, квалифицированными силами, которые к тому же опираются на традицию и инерцию старой высшей технической школы. Если мы ограничимся только этим ответом, то получится такая картина, что до того момента, пока не подготовим смену, мы вряд ли заметно продвинемся вперед. Очевидно, были и другие причины. И мне представляется, что в резолюции необходимо более подчеркнуть и заострить тактическую сторону вопроса. Для меня нет никакого сомнения в том, что июльскую резолюцию проводили так, как будто речь шла о реформе, рассчитанной на десяток лет. Необходимо в этой резолюции подчеркнуть не только то, что нужен крутой перелом, но что нужно также самым резким образом изменить всю тактику реконструкции втузов. ...» «...[Нужно] добиться, чтобы втузы действительно взяли правильный темп работы, для того, чтобы это сделать, необходимо осудить более резко ту тактику, которая применялась до сих пор, и применить более решительную тактику. / Конкретно, меня сильно смущает 3-й пункт резолюции, в котором говорится о том, чтобы подготовить пересмотр учебных программ и учебных планов таким образом, чтобы в 1930/31 г. можно было начать учебный год по новой программе. Я не знаю, почему надо так долго ждать, почему здесь не проявить несколько иной темп и с января перейти к новым учебным планам и новой учебной программе. Я знаю – могут сказать; ломка в середине года. Надо бояться ломки, когда вы имеете дело с правильно действующим механизмом ...» (см. Стенограммы...). |
Есть в истории «реконструкции технической школы» 1928–1932-х годов еще одно обстоятельство, занятное и поучительное само по себе. Именно, и 3–4-летний срок обучения во втузах, и включаемая в этот срок длительная работа студентов на производстве, и даже отказ от лекций – все это прямое подражание некоторым образцам с «капиталистического Запада». «Всем известно хвастливое заявление Форда о том, что большинство инженерно-технического персонала на его предприятиях получило свое образование не в школах, а на самих фабриках» (Петровский, XVI съезд...). На европейский и американский опыт ссылается Молотов на июльском пленуме 1928 г. (как и затем на ноябрьском пленуме 1929 г.), где впервые на высоком уровне и была озвучена идея сокращения сроков обучения во втузах вместе с увеличением заводской практики. На сей раз, в июле, Луначарский и его заместитель В.Н. Яковлева (видная большевичка, чекистка; расстреляна в 1941 г.) настойчиво и аргументированно сопротивляются этой идее, указывая, что есть заграницей, в частности в Германии, и прямо противоположный опыт, что поминаемые Молотовым заграничные втузы суть фактически техникумы и т.д. (см. Как ломали НЭП, стенограммы...), – разумеется, Наркомпрос сопротивлялся безрезультатно. – Впрочем, имелся уже и единственный, но яркий советский пример (якобы) втуза с подобной системой обучения: формально состоящий при Наркомпросе и принципиально не пользовавшийся его дотациями электромашиностроительный институт Каган-Шабшая, ковавший за 2 года при 2/3 времени заводской практики «узких специалистов». О детище Каган-Шабшая нарком просвещения Луначарский отозвался так: «...техникум инженера Каган-Шабшая, для которого у Наркомпроса старались вырвать звание втуза» (Правда 12 июля 1928 г.).
|
Речь у Молотова и в резолюциях пленума идет только о малой части втузов – но это, как выяснится (и как, вероятно, это было сразу же очевидно Луначарскому), было только маневром. «Молотов. ... Перед нами стоит вопрос: нельзя ли наряду с теперешними ВТУЗами, курс которых рассчитан на 5-6 лет, создать новый тип ВТУЗов, с более сокращенным сроком обучения, например с 3–4-годичным? Почему на Западе и в Америке такой сокращенный тип высших учебных заведений имеется, и почему мы не можем так поступить? Разве мы можем в этом деле больше ждать, больше откладывать, чем эти передовые по технике государства? Конечно, не можем. Мы находимся в гораздо худшем положении, чем они, и потому вопрос о ВТУЗах нового типа, о ВТУЗах с более сокращенным курсом обучения для нас является абсолютно неотложным вопросом.» «... Почему нам не воспользоваться опытом других государств и наряду с осуществлением основной задачи по подготовке квалифицированных во всех отношениях специалистов не прибегнуть также к подготовке специалистов более узкого типа и на этом выиграть в темпе. Только недопустимым игнорированием жизненнейшей и неотложнейшей проблемы можно было бы объяснить отказ от создания ВТУЗов с 3–4-годичным сроком обучения. Такого игнорирования запросов промышленности партия допустить не может.» «Молотов. ... Нельзя отрицать того несомненного факта, что институт Каган-Шабшая, при том положении, что курс обучения здесь был 2 года (а на практике срок обучения получался 2 ½ года), все же уже дал для промышленности несколько сот квалифицированных специалистов с узкой, но очень сейчас ценной квалификацией. Действительно ли он дал этих специалистов? Я сам об этом судить бы не взялся, но и тов. Луначарский не специалист в этом деле, а вот директора заводов и трестов говорят, что это подходящие специалисты – узкие, но нужные специалисты. ... Наркомпрос до сих пор относится свысока к этому делу: это, по его мнению, какие-то парии, это – техники, это – не инженеры, они, видите ли, "не доросли". «Луначарский. ... Совершенно правы те наши профессора, которые говорят, что теоретик может изучить любую практику в известное количество лет, работая на производстве, но узкого практика заставить понять совершенно новую практику, когда он не в достаточной мере знает основные научные, теоретические принципы, нельзя. Если бы у нас была промышленность, где вся работа состоит из первичных рефлекторных движений, то мы могли бы автоматизировать не только инженера, но и любого рабочего. Но нам приходится приспосабливаться к новым условиям, следить за развитием науки, а тот, кто следить за развитием науки не может, потому что он не знает основ химии, физики и математики, – тот безоружен в этом случае. Мы можем и должны иметь всякого рода техников и рабочих, каких угодно специалистов средней руки, но кто должен их переучивать? Кто должен их поставить на обе ноги, если понадобится новая реформа на данном заводе? Инженерный состав. И вот таких инженеров нам нужно готовить. Мы очень боимся, что если вы пойдете по линии снижения для всяких ВТУЗов, или некоторого количества их, срока обучения ниже 5 лет, то в свое время мы вынуждены будем признать, что уменьшение это принесет нам реальный вред. Примите во внимание, что наши инженеры в большинстве говорят только на русском языке - на языке, на котором меньше технической литературы, чем на немецком, а наш студент, вышедший из рабфака или школы 2 ступени, не знает ни одного иностранного языка и ему приходится изучать иностранные языки в самих ВТУЗах. Кроме того, мы налагаем на студентов общественные обязанности. Если мы сократим срок обучения, мы будем иметь разрыв по линии подготовки социалистических специалистов. Ведь они должны пройти определенный минимум социальных наук, и все это они должны усвоить в течение 5 лет! Нигде в мире нет школьной подготовки меньше 10 лет, а у нас девятилетняя школьная подготовка...» «Луначарский. ... Можно ли установить курс меньше 5 лет? Я утверждаю, что этого сделать нельзя, если мы хотим иметь настоящих инженеров. Опыт Западной Европы (правда, несколько еще неясный) подтверждает это. В последние 3-4 года Дрезденская, Мюнхенская и ряд других школ с 4 лет расширили срок своего обучения до 5 лет, так как ими признано, что они инженеров в такой короткий срок дать не могут. Конечно, смотря кого называть инженером. В Англии инженером называют всякого рабочего металлиста... «Яковлева. ... Наркомпрос за это время очень многое сделал. Мы проделали большой опыт, проделали ряд экспериментов. ... Взять хоть вопрос о 3-летнем сроке подготовки специалистов. Тов. Молотов говорит, что этот декрет не применялся. Неверно это. Этот декрет применялся; мы перевели наши ВУЗы, в том числе индустриальные ВУЗы, на трехгодичное обучение и в течение 3–4 лет в таком состоянии их держали. Но жизнь нас сломила и заставила перейти на другие сроки. Мы были не одни в этом деле. Инженер ВСНХ, член президиума ВСНХ, профессор Долгов нам заявил, что 3 года обучения для инженера – вещь негодная, что нужно перейти на другой, более длительный срок обучения. И наши теперешние учебные планы мы вырабатывали вместе с представителями ВСНХ.
«Молотов. ... Руководители Наркомпроса говорят, что создание таких ВТУЗов поведет к ухудшению подготовки специалистов. "Вот, – говорят они, – и на Западе переходят от 3–4 лет обучения к пяти годам". Но ведь никто не предлагает все теперешние ВТУЗы переводить на сокращенный срок обучения ... Во всяком случае, мы знаем, что тип ВТУЗов с сокращенным сроком обучения и на Западе и в Америке существует. |
...Еще в июле 1929-го года А.В. Луначарский проигрывает бой против сноса Чудова монастыря в Кремле, заслужив предупреждение от Политбюро ЦК о «непартийном певедении», и, вместе со всей коллегией Наркомпроса, подает прошение об отставке. 12 сентября 1929 г. – постановление Президиума ВЦИК РСФСР «Об освобождении тов. Луначарского А.В., по его собственной просьбе, от обязанностей наркома по просвещению» (см. Ефимов).
Ноябрьский 1929 г. пленум принимает самые убийственные резолюции по втузам.
«Непрерывное производственное обучение»
Столь же губительной, как сокращение сроков обучения, была другая составная часть замысла реформаторов – одновременное увеличение сроков втузовской производственной практики, по существу тривиальной работы студентов на «промфинпланы предприятий», с условием ее непрерывности и прямым подчинением ее предприятиям. (Эту тему здесь надо продолжить.) Это так наз. НПП, непрерывная производственная практика, или НПО – непрерывное производственное обучение. Последний термин, впрочем, поначалу вызывал у смотрящих некоторую опаску: «много путаницы вносит и неустановившаяся терминология: НПО или НПП? Дело не в самих словах конечно, а в их значении. Толкуя в своих интересах термин НПО, институты постоянно домогаются организации целых циклов лекций на производстве, силами заводских инженеров проводят целые курсы по 30 и более часов...» (ЗПК 1931 № 7-8, с. 43). Указанные поползновения втузов (в т.ч. ВММУ–МММИ им. Баумана) к хоть какому-то действительному обучению на заводах пресекаются, и в дальнейшем «НПО» вместо «НПП» никого в заблуждение не вводит и начальство вполне устраивает.
Идея подобной практики была для советской власти не нова. О «большой моде» на постоянную производственную практику вспоминают, как и указывают на причину ее нецелесообразности, в «Очерке деятельности МВТУ» 1926-го года (см.). «Признавая громадную важность практики в деле подготовки инженеров, МВТУ не нашло, однако, возможным проделать эксперимент постоянной производственной практики, бывшей одно время у нас в большой моде. Главным преимуществом такой системы обучения считается то обстоятельство, что постоянная производственная практика дает студенту еще во время учения весьма полное знакомство с деталями определенного производства. По окончании школы такой студент сейчас же может приступить к работе, почти не затрачивая время на приспособление. / МВТУ не придает, однако, этому обстоятельству какого-либо решающего значения. Подготовляя весьма квалифицированных инженеров, МВТУ рассчитывает, что они должны быть на высоте современного им уровня промышленности не только при получении диплома, но и через 15–20 лет по окончании. При таких условиях даже вредно с самого начала ограничивать кругозор студента узкими рамками одного какого-либо предприятия, тем более, что и число предприятий СССР, стоящих на должной высоте в отношении технологии и организации производства, весьма ограничено. Большинству студентов, все равно, пришлось бы весьма критически относиться к тем навыкам, которые они увидели бы в своей постоянной производственной практике. МВТУ стремится подготовить инженеров, достаточно образованных и достаточно независимых от существующих навыков, чтобы они могли активно участвовать в технической революции, которую придется пережить нашей стране.»
К концу 1920-х гг. спорить с ВКП(б) уже не приходится.
Из резолюций июльского 1928-го года пленума: «II. 1. б) поставить производственную практику сроком не менее 10 месяцев, установив непрерывность работы практикантов на предприятии круглый год, возложив ответственность за руководство ею на соответствующие хозорганы по согласованию со втузами (Наркомпросом)». Это было только начало: в соответствии с резолюцией ноябрьского 1929-го года пленума и постановлением правительства 13 января 1930 года, НПП занимала уже до 40–50% учебного времени! «Освободить наши программы от балласта [т.е., фактически, от базовых общетеоретических предметов] на основе расширения производственной практики» – поясняет Петровский замысел партии (см. Реконструкция...), лишь выявляя его абсурдность... Невозможно отделаться от подозрения, что за псевдоученой формулой «сближение образования с производством» стояло лишь подспудное и наивное убеждение в том, что учеба – не дело, и лучше всего обойтись без нее. Фактически не скрывалось, что настоящее назначение НПО состояло исключительно в увеличении числа рабочих рук на заводах. Работа практикантов включалась в производственные планы (и оплачивалась), а хотя бы относительная связь «производственного обучения» с тем, что преподавалось во втузе, составляла постоянную проблему для руководства втузов. Практика лишалась ее широкого ознакомительного характера, когда, как увидел это остроумный и наблюдательный автор той же работы, практиканты «болтаются без дела по предприятиям, растрачивая свое драгоценное время и подчас принося промышленности больше вред, чем пользу»...
Конечно же, настоящая цель студенческой практики не в том, чтобы приносить пользу промышленности. (И здесь есть почва для недопониманий: представления от дирекций заводов вроде того, что студенты-практиканты «валандаются по заводу и ни черта не делают», поступали и в ИМТУ...) Привязывая студента к рабочему месту, а это именно так и было, ему, очевидно, не оставляли возможности составить почти никакого представления о том же производстве. А сроки этой «практики» сокращали сроки собственно учебы, и без того укороченной и профанированной, ровно вдвое.
Не очень-то пригодны оказались сгоняемые на производство студенты и для выполнения «промфинпланов». Самое характерное в затронутых здесь решениях партии – то, что настоящей практической необходимостью они не только не оправдывались, но и не вызывались, скорее мешали и образованию, и производству. Как неохотно отдавали фабрики и заводы своих рабочих на псевдо-учебу, так же неохотно они принимают массовые наплывы отрываемых от учебы студентов-практикантов. Об этом оставляют печатные свидетельства сами главные исполнители реформы (таким свидетельствам, как бы мало их ни было, нельзя не поверить). «Студенчество часто остается без работы, мучается своим неопределенным положением и спешит укрыться в буфет или красный уголок» (ЗПК 1931 № 5); «...не мешает вспомнить и о том, что не только старая профессура, но и изрядное количество наших хозяйственников очень скептически относилось к потоку студентов, которые запрудили фабрики и заводы для прохождения в них непрерывной производственной практики. Надо помнить, что в 1930 г. мы не только увеличили количество студентов в наших втузах и техникумах, но подняли удельный вес производственной практики до 40-50% всего учебного времени» – отмечает впоследствии, между прочим, сам Петровский (ЗПК 1935 № 2; курсив наш). О том же в 1934-м году пишет и член ВКВТО проф. Беркенгейм, слова которого также приводятся нашем очерке. Итак – не «пополнили», не «подставили плечо» и т.д., а – «запрудили».
|
Практика – необходимая «дисциплина» для подлинного специалиста, может быть даже условие «sine qua non». Знаменитая русская школа обучения, представленная ИМТУ (при директорстве В.К. Делла-Воса) на Всемирной выставке в США 1876 года, «имела три основных составляющих: 1. Глубокая практическая подготовка, основанная на реальной работе студентов в условиях, максимально приближенных к тем, с которыми им после придётся иметь дело на заводах и фабриках. 2. Серьёзное изучение теоретических предметов на уровне, не уступающем преподаванию этих же предметов в классических университетах. 3. Постоянная взаимовыгодная связь высшей технической школы с промышленностью». И однако, «вот что об этом писали в 1860 году: "И завод и фабрика необходимы для окончательного образования техника и машиниста; без них он не будет понимать и чувствовать в себе исполнить всё, в них он делается полным практиком. Без них технолог имеет одно представление о практике, в них он делается сильным практиком. Всё это совершенно справедливо; но справедливо также и то, что и техник и машинист, без основных сведений в технологии и механике, останутся рабочими-обезъянами, способными делать только по данному образцу и не имеющими возможности сделать ничтожного изменения, требуемого местными условиями, не говоря уж о том, чтобы ввести что-либо новое, более пригодное и удовлетворяющее требованиям местности"» (Волчкевич, Очерки...). Эту же мысль – о недостаточности практики – высказывает некий ученый в 1928-м году, цитируемый Луначарским (см. Луначарский, Правда): «теоретик всегда сможет создать высокую технику, но практик останется навсегда рутинером и в лучшем случае улучшит винтик, гайку, но не технику». И продолжает: «мы считаем необходимым дать возможность втузу проводить больше работ в учебных лабораториях и мастерских самого втуза». Практика должна быть, но должна быть осмысленной. Вообще же некий разрыв между «знать» и «уметь» (без последнего первое не может быть полноценным), существовал всегда: «...техническая практика [в области методов обработки металлов] шла по старым испытанным проторенным путям, ориентируясь на личный опыт и сноровку, годами воспитанные индивидуальные уменья, кустарную выучку мастеров. Инженер – машиностроитель и во втузе воспитывался на том, что "м а с т е р з н а е т" и большую часть своего времени проводил обычно в технической конторе», – пишет зав. кафедрой рациональной обработки металлов МММИ проф. И.М. Беспрозванный. Но примечательно, что иногда именно теория и заполняет эту лакуну: «...в настоящее время инженеры (Электрокомбинат и др.), в том числе многие старые специалисты, технические директора больших предприятий, образуют группы по изучению теории рациональной обработки металлов резанием и они воспринимают материал, предлагаемый им нашей кафедрой как нечто в значительной степени новое для них» (ЗПК 1935 № 3, с. 25). Интересный пример понимания роли практики для становления инженера – из биографии директора ИМТУ (времени студенчества Цибарта) А.П. Гавриленко. «Окончив в 1882 году курс наук в Императорском Техническом Училище, Александр Павлович ... по отбытии военной службы, уехал вместе с несколькими своими товарищами в октябре 1882 года для усовершенствования в деле машиностроения в Северо-Американские Соединенные Штаты. Здесь А.П. поступил на завод Гуго Билграма, в Филадельфии и в течение полугода занимался изучением массового способа изготовления специальных зуборезных машин системы Билграм. Затем А.П. поступил рабочим на известный машиностроительный завод Бимент и Майльс, в Филадельфии, где работал полтора года. В начале 1884 г. А.П. поступил рабочим на инструментальное отделение всемирно-известного завода Браун и Шарп, в Провиденсе. Далее А.П. опять переселился в Филадельфию и поступил на завод Шютце и Геринг...» (см. Памяти Гавриленко). Коренное отличие этой заводской практики лучших выпускников ИМТУ от советской НПП, думается, даже не в том, что она проходила на самых передовых производствах (что само по себе, конечно, имеет особое значение), а в том, что ею не мыслилось подменять теоретическое обучение – то, для чего и существуют вузы, чего нельзя получить на практике. Хочется привести здесь и слова сменившего Гавриленко на посту директора ИМТУ В.И. Гриневецкого о значении практики (см. Гриневецкий, О реформе инженерного образования). «...Техническая практика учащихся является также неотъемлемым условием, которое должно быстро перерабатывать наш сырой материал. Когда учащийся столкнется со всем разнообразием технической обстановки и с известной пестротой, законченностью и строгостью практических технических требований, он иначе начинает относиться к школе и к её требованиям. Очень яркую картину в этом направлении можно наблюдать по тем учащимся, которые пришли в техническую школу из технической практики. Такие лица теперь есть; они считаются единицами и десятками, но с ними совершенно иначе приходится разговаривать по многим вопросам, чем со студентами, может быть, очень способными, но технической практикой совершенно не затронутыми...» – Практика, как видно из этой цитаты, – условие для полноценного теоретического обучения, но никак, конечно, не замена ему. Фабрично-заводская практика в ИМТУ, при минимальном пятилетнем сроке обучения, проходила во время каникул. Кстати при ИМТУ, кроме мастерских, действовал свой небольшой завод. Другой пример серьезнейшего отношения к практике (кроме примера А.П. Гавриленко) – из «зарубежного опыта», которому в частности в журнале «За промышленные кадры» (ЗПК), выходившем с октября 1930-го года, посвящаются регулярные публикации. Цитируем одну из них (1930 № 2–3, С. Гайсинович): «германская и австрийская высшие школы … в течение многих лет считали лучшей формой практической подготовки инженеров предшествующую (до поступления во втуз) практику каждого абитуриента высшей школы. Обычно методически защищался взгляд об исключительной целесообразности строить широкую научную теоретическую подготовку студента – будущего инженера – на базе значительного производственного опыта. Поэтому в условиях для поступления во втуз можно прочесть пункты об обязательной производственной практике для всех абитуриентов. Для большего обеспечения этого требования германские и австрийские предприятия ввели так называемый Институт практикантства, который имел целью предоставить всякому желающему поступить во втуз возможность 1–2 годичной производственной работы на предприятии. Абитуриенты … ничем не отличаясь от учеников фабзавуча [ФЗУ, школы фабрично-заводского ученичества], работали 1–2 года на разнообразных производственных работах». – Абсолютное большинство учащихся в советских втузах того времени приходили на учебу с заводов и во всяком случае в этой форме обучения необходимости не имели. Как уже говорилось, на «капиталистическом» Западе среди разных систем технического обучения были (и есть) как будто очень похожие на советскую систему 1929–1932-х годов. «Сандвич-система, Глазго»: «...Глазговский технологический институт. Здесь мы уже можем наблюдать правда еще стихийную по содержанию, но уже строго организованную связь втуза с индустрией. Система построена на принципе сочетания учебы и производственной практики (именно практики, а не обучения). Соотношение их друг к другу как 1:1, т.е. 6 мес. отводится учебе в стенах школы и 6 мес. работе на заводе. Курс обучения в колледже 4-летний» (ЗПК 1931 № 6). Между прочим, о «сэндвиче» из теории и практики, и о том, что в достаточно престижном Колледже техники и инженерии в Глазго «лекций минимум», сообщается и на сайте, зазывающем современных юных россиян на учебу на запад. – Существуют заграницей и такие заведения, в которых воплощено нечто подобное идеалу директора ГЭМИКШ проф. Каган-Шабшая (осуществившем в своем втузе «реформу» еще до ее проведения в стране): «Идеалом для нас мы считали бы то положение, когда все академические преподаватели (со всей учебной частью) входили бы в состав производственного отдела, как его учебный цех наряду с заводскими цехами» (цит. по: ЗПК 1931 № 5). Впрочем, это – только для «резковыраженных специализаций». т.е. для самых узких задач. На ноябрьском 1929 г. пленуме, который и решил дело в пользу НПП, Каганович в очередной раз ссылается на зарубежный опыт в этом вопросе. ...Почему эта сверх-прагматичная ориентация оказалась в СССР провальной – интересный, но в общем довольно легко разрешимый вопрос. Еще Луначарский отметил (см. выше), что на Западе лучшая довузовская подготовка, что поступающие там уже знают иностранные изыки, что там не отнимают массу учебного времени «общественные обязанности» (а также, добавим, лагерные сборы и многое другое). Думается, что совершенно не адекватная ни далеким от прагматизма советским установкам и реалиям, ни русской отечественной школе, которую тогда еще представляли все лучшие «реакционные» профессора, западный опыт способен был лишь сыграть с реформаторами самую злую шутку. В любом случае, недопустимо было уже то, что лишь некоторые западные примеры предполагалось сделать (с ноября 1929 г.) образцом для всех советских втузов: если бы подобная советской реформа прошла где-нибудь на Западе, ее, можно не сомневаться, постигла бы та же участь. Кстати, Каганович говорил всего лишь о 19 американских втузах, принятых им в качестве образца для советских, но примерно в это время (на 1 января 1934 г.) в США насчитывалось, включая крупные инженерные факультеты и технические колледжи, 145 втузов (эта цифра взята из № 8 за 1934 г. журнала «За промышленные кадры»). |
...Повторим, к этому пункту, слова Луначарского на июльском 1928 г. пленуме: «Совершенно правы те наши профессора, которые говорят, что теоретик может изучить любую практику в известное количество лет, работая на производстве, но узкого практика заставить понять совершенно новую практику, когда он не в достаточной мере знает основные научные, теоретические принципы, нельзя»...
«Орабочение студенческого состава» – «чудовищная борьба за пролетаризацию»
и довтузовская подготовка учащихся. Рабфаки, курсы, девятилетка. Апофеоз пролетаризации: тысячники
В 1926-м году Совет МВТУ констатировал, в очень лояльных, но определенных выражениях, недопустимо низкий образовательный уровень постреволюционных поступающих и одну из причин этого – проводимую так наз. «пролетаризацию» (см. Обзор деятельности МВТУ). «Констатируя факт некоторого понижения качества выпускаемых инженеров, Совет Училища считает, что это – явление временное, объясняемое политическим и экономическим состоянием страны, необходимостью пролетаризации высшей школы, и что оно будет изжито путем повышения требований к поступающим в МВТУ новым кадрам пролетарского студенчества и улучшения постановки учебного дела в самом ВУЗ'е.» «Академическая подготовка студентов, принятых на I курс в предыдущие годы, была, по единодушному мнению всех академических органов Училища, совершенно недостаточна для прохождения программы ВУЗ'а. Результаты переводных сессий с громадным процентом студентов, не выполнивших обязательного минимума, наглядно подтверждают это обстоятельство.»
Надежды Совета МВТУ на «скорое время» были обмануты самым решительным образом. «Временное явление» не только не было «изжито» – напротив, волна «пролетаризации» 1928–1932 гг. превзошла все, с чем приходилось сталкиваться вузам после Октябрьского переворота.
Итак, колоссальный вред нормальной работе втузов принесла очередная волна «пролетаризации» – массовых наборов во втузы по классовому признаку. Новая кампания была в буквальном смысле безумной. «Что нужно сделать, чтобы освежить положение во ВТУЗ'ах? Надо туда пустить свежую кровь, большее количество рабочих о т с т а н к а...». «От станка» здесь – это не гипербола, а бред, с упорством обращаемый в явь. «Мы поставили себе эту задачу в Москве, но провалились. Мы хотели в январе получить 1.000 рабочих от станка, а получили только 600» (Петровский, В борьбе...). И в итоге проделанной работы в МММИ: «ушли в историю годы чудовищной [курсив наш] борьбы за пролетаризацию втуза. / В институте сейчас 3836 студентов. Среди них 76% рабочих...» (ЗПК 1933, № 8-9, А. Ямский). – Заводы лишались рабочих рук, даже против воли рабочих, т.к. стипендии были меньше зарплат, а втузы наполнялись лже-студентами.
Для полной ясности в этом вопросе, как будто задевающем чувство справедливости, хотелось бы подчеркнуть следующее. Нет сомнения, что «при прочих равных», даже при добавлении желающим учиться рабочим, крестьянам и их детям каких-то баллов на вступительных экзаменах – и если бы все они их сдавали – «пролетаризация» только способствовала бы поступлению наиболее талантливых и устремленных, «self-making» людей. Однако образ жаждущих знаниий юношей из социальных «низов», которым новая власть обеспечивает справедливые привилегии при поступлении в вузы (образ, естественно возникающий в сознании всякого здравого человека), не имеет практически никакого отношения к описываемым здесь реалиям. Дело не в том, конечно, что таких людей не было, – их попросту не могло быть в том количестве, какое наметила партия. Низкий уровень внедряемых партией в вузы «пролетариев на учебе» определился не только тем, что их контингент вынужденно включал в основном не имевших сколько-нибудь приемлемой довтузовской подготовки, но и, что еще показательнее, тем, что даже наличие у них инженерного призвания или хотя бы общего желания учиться в расчет приниматься не могло. Ибо к 1930-му году все средние учебные заведения страны вместе не выпускали и четверти того числа детей рабочих, которое втузы обязаны были принимать – а их число в этом году требовалось довести до 70 процентов и более от всех учащихся!
Эту статистику откровенно сообщает Петровский – приведем исчерпывающую, но отнюдь не скучную цитату (см. Реконструкция технической...). «...Мы имеем в виду проблему укомплектования технической школы под углом зрения орабочения студенческого состава. "Отмечая повышение рабочего ядра в приеме 1928–1929 г., в ближайшие годы довести процент рабочего ядра среди общего приема не менее чем до 70%" – такова директива ноябрьского пленума [1929 г.]. / Кто, при нормальных условиях, должен был бы быть основным поставщиком [детей рабочих для] наших ВТУЗ'ов? Кончающий девяти или семилетку идет на предприятие и после приобретения определенного стажа поступает во ВТУЗ или в техникум, таков нормальный путь в будущем. Между тем школа II ступени в течение этого года выпустит лишь 80 000 чел., среди которых дети рабочих составляют только 11%. Таким образом, вся та "продукция", которая была бы для нас наиболее приемлема, едва достигает 10 000 чел., тогда как для укомплектования одних только ВТУЗ'ов, не говоря уже о техникумах, в этом году нужно больше 40 000 человек (курсив наш. – А.А.). Естественно, что мы будем пользоваться целым рядом других каналов и резервуаров. Мы имеем в виду рабфаки, подготовительные курсы, а также партийные и профсоюзные "тысячи". Но и при использовании всех этих каналов мы с большим трудом едва покроем даже ту потребность, которая вытекает из старых контингентов приемов существующей и запроектированной сети ВТУЗ'ов, в то время как эти контингенты необходимо увеличить».
Читать Петровского всегда интересно: он слишком умен для тех директив, которые так рьяно проводит...
В проектах «кремлевских мечтателей» после Ленина поражает уже не амбициозность, а абсурдизм, полное отсутствие связи с реальностью. За нелепостями «реконструкции высшей школы» стояла даже не «идеология», как это принято говорить – за ними стояло грубое и всевластное невежество. Причем невежество не только в отношении задач образования, специфики научной деятельности и тому подобных тонкостей, но даже элементарное административное: реформаторы, «широко раскрывая двери втузов для людей из рабочего класса» и задавая фантастические параметры «пролетаризации», не удосужились даже поинтересоваться, сколько в стране имеется в наличии нужных им пролетариев, которым предстояло в эти двери войти. Таковых, по самым скромным подсчетам самого рьяного проводника их замыслов, было в 4 раза меньше истребованного!..
Какой была довузовская подготовка большинства тогдашних поступающих?
«Тысячники», эта удивительная причуда власти, о которой речь пойдет отдельно чуть дальше, образования практически не имели (в основном фабзавучи и семилетки). В Бауманском на 1 октября 1931 г. они составляли 20,7% студентов: каждый пятый мог только, фактически, мешать другим учиться.
«Рабфаковцы». – Что до рабфаков – существовавших с 1919-го года – то в 1930-х годах это были трехгодичные дневные или четырехгодичные вечерние подготовительные курсы для рабочих и крестьян, имевших производственный стаж и «командированных на учебу» общественными организациями. Образовательный уровень поступавших на рабфак мог быть и запредельно низким, соответственно рабфаки несли, кроме специальных, также функции общеобразовательной школы. И при этом они существовали «на правах факультетов» втузов – окончившие рабфак «выпускались во втузы» без экзаменов, что означало отсутствие всякой планки для этой части поступавших... Три года дневного обучения, казалось бы, немало, с рабфаков начинали и многие крупные специалисты. А по воспоминаниям бывшей студентки МВТУ, в будущем известного инженера С.М. Карпачевой, по ее опыту проектирования с троими из них в студенческой «бригаде» – фактически они выполняли ее указания – то были все-таки «работяги», которые «могли ночами сидеть за чертежами»... И все же не приходится удивляться тому, что печать «рабфаковец», одновременно гордая и означавшая почти наверняка неудовлетворительную подготовку, оставалась за ними и во втузах.
Постановлением ЦИК от 19 сентября 1932 г. экзамены для рабфаковцев при поступлении их во втузы были введены, это было начало конца рабфаков. «Прямая задача рабфака – готовить кадры для высшей школы, и вот эту-то свою основную задачу ... значительное количество рабфаков разрешало настолько неудовлетворительно, что на приемных испытаниях осенью 1932 г. почти в каждом втузе 30–50% рабфаковцев испытаний не выдерживало» («За промышленные кадры» 1933 № 8–9)...
При наследнике МВТУ, училище времени первых лет директорства Цибарта, имелось два рабфака: имени А.И. Рыкова (с 1933 г. без имени этого уже попавшего в опалу вождя) и почему-то рабфак ОГПУ, судя по отсутствию каких-либо распоряжений Цибарта в отношении последнего никак не подчинявшийся училищу, но также поставлявший ему студентов. К 1936-му году рабфаков при МММИ нет, вообще рабфаки во второй половине 1930-х прекращают свое существование.
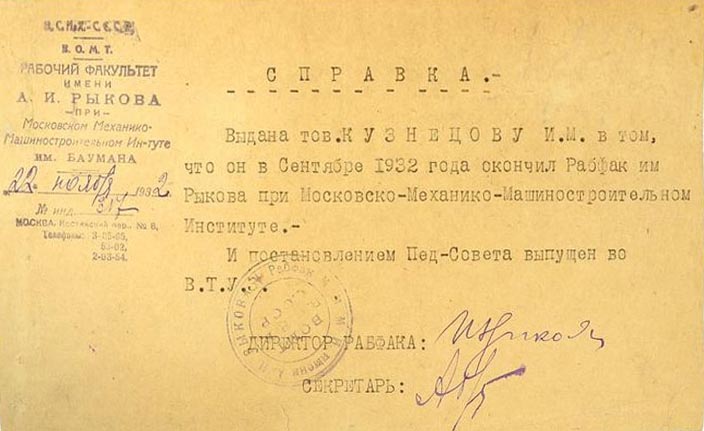
Подготовительные курсы при предприятиях. – Насколько нам известно, подобные курсы предполагали зачисление во втуз без экзаменов. Можно не сомневаться, что все сказанное о рабфаках относится к этим курсам в той же или еще большей мере.
Техникумы. – В нормальных условиях, наряду со среднеобразовательной школой вариант оптимальный. Однако все эксперименты ВКП(б) в сфере образования относились и к техникумам (включая сокращение сроков обучения, практику, «бригадный метод обучения» и пр.), соответственно и к ним также имелись во втузах обоснованные претензии. Мы сейчас это увидим.
В конце 1930-го года А.А. Цибарт обращается с письмом в Сектор кадров ВСНХ СССР (к сожалению, оно не найдено) – «о недостаточной подготовленности в академическом отношении октябрьского приема 1930 г.». Речь идет о «втузах [!], техникумах, рабфаках и предприятиях, при которых организованы курсы по подготовке во втузы» (За промышленные кадры 1931 № 1); парттысячники видимо не в счет. Сектор кадров (что, учитывая тогдашние очевидные установки ВКП/б/, выглядит удивительным) с письмом Цибарта оказывается совершенно согласен, принимает грозные решения...
Из письма Сектора кадров ВСНХ СССР начальникам отдела кадров объединений |
Но и средняя школа, тогда девятилетка, далеко не стояла на должном уровне. («Нигде в мире нет школьной подготовки меньше 10 лет, а у нас девятилетняя школьная подготовка», и пр., – Луначарский, см. выше.) Вот что сообщает журнал «За промышленные кадры» о школах вкупе с рабфаками и др. (1932 № 11–12, с. 38, заметка Н. Галиной «Подготовку во втуз – на высшую ступень»): «...Известная часть продукции средней школы и всевозможных учебных заведений, готовящих во втузы, – брак, что значительно усложняет задачу втуза – подготовить хороших инженеров. / Вуз принимает, например, 200 чел. на первый курс, начинаются занятия. Сто человек оказываются всесторонне... безграмотными. Начинается ломка учебных планов, вводятся дополнительные занятия с отстающими, устраиваются временные "нулевые" подготовительные группы. Тратится время, силы и средства, пока не поубавятся в сводках гигантские горы "неудов" и злополучная успеваемость не поднимется процентов до 70. Тогда начинаются "нормальные занятия"». Это касается тех заведений, поставлявших втузам учащихся без экзаменов, – а вот собственно о школах. – «Или проводится прием. На каждое место – двое желающих. Устраивается предварительное испытание – очень мягкое, и в результате 20% недобора "по академической неподготовленности"». Также (ЗПК 1932 № 13–14, с. 28, А. Г-ский): «Практика последних приемов показала, что "брак" в выпусках средней школы и различного рода краткосрочных курсов достигает очень больших размеров. Приемные испытания обнаружили в ряде случаев полное незнание основ элементарной математики: арифметики, алгебры, геометрии и тригонометрии. У большинства поступающих нет твердых навыков в раскрытии скобок, "плюс" и "минус" – terra incognita для них».
Не забудем еще, что приемные испытания также велись при безумном классовом цензе, в результате которого дети «служащих» и «служащие» имели слишком мало шансов на поступление, тогда как дети рабочих, как и рабочие в рабфаках, оказывались в вузах и без минимальной подготовки, и порой даже против их собственного желания. Разумеется, практически не было дороги в вузы дворянским детям (кое-кого выручали, как и во все времена, знакомства): «жаль было Мишу Кусакова, не только очень способного, но и необычайно старательного, усидчивого. Его не приняли из-за дворянского происхождения. Однако помогла Мария Семеновна Сканави, у которой было много знакомых в институте [ВХТУ, быв. химфак МВТУ], да и сам [А.Ф.] Иоффе знал ее давно. В виде особого исключения Мише разрешили посещать все занятия и даже сдавать зачеты в качестве вольнослушателя. Через год его приняли в институт, и он успешно его окончил» (см. Карпачева).
Представить себе образовательный и культурный уровень многих набираемых таким образом в вузы учащихся можно вживую, например, по следующему эпизоду из жизни Бауманского в 1930-м году (ЦГАМ П-158, оп. 1а, д. 3, л. 146). В комнате 1-го общежития для ударников учебы (в Бригадирском переулке) разгорается конфликт: студент-нацмен (тогда это вполне официальное слово) Берадзе подает в ячейку ВКП(б) группы холодной обработки металлов жалобу на своих соседей Харитонова и Мельникова: они ему со студентом Дыскиным мешали заниматься. Дело разбирается на Бюро партячейки всего училища, поскольку Берадзе приплетает к своим обвинениям самый убийственный, политический аспект. «...Перви раз тов. Хоритонов и Мельников та ка я новым был ничего не говорили и когда они постепенно привыкали со мной они уже началис обыкновеним виде ругатся наши генралнй лини парти система нашего правительство и так дали даже они огитировали между меня и Дискина они нам зониматся не давали все говорили и сичас тоже говорят: подготовка кадров таком положения нельзя студентам не имеится площад галадают и т. д., обед не дают, нет возможности купит чео не будит, цени постепено повышаются на всех предмедах, денги тиряют свои значение и скоро придет время кодда наша страна совсем погибается, будим галадат блогодаря нашего генеральная линий партии, каждый ден прибавляется уклони и вредителство ветом все учавствует боле умные и значителные люди как ест Бухарин, Томски, Риков и балшество професора котори все болше в курсе в деле чем работники нашего генералной линия парти...» (Как видно на примере Харитонова и Мельникова, «идеального» тоталитаризма не существует: убедить всех можно лишь в абсолютности власти, но не лишить всех критицизма... |
На упомянутых Петровским «партийных и профсоюзных "тысячах"» надо остановиться особо – как в силу диковинности этого явления, так и потому, что трения с ними, похоже, в конце концов и стоили Цибарту лагеря.
Студенты-тысячники – самое курьезное, хоть и не смешное изобретение во всей истории «пролетаризации» втузов. (Первые годы советской власти не в счет, поскольку тогда в вузы приходили без экзаменов все желающие, и перевеса именно пролетариев это не обеспечивало.) Итак, июльский пленум 1928 года постановил направить на учебу во втузы не меньше 1000 коммунистов, «прошедших серьезную школу партийной, советской или профессиональной работы и практиковать эту меру ежегодно в течение ближайших лет». Затем ноябрьский пленум 1929-го предписывает, «признавая опыт посылки на учебу "1000" себя оправдавшим, провести в 1930/31 г. вербовку во втузы не менее 2000, а в следующем году – не менее 3000 ... Фракции ВЦСПС организовать систематическую общеобразовательную подготовку рабочих – коммунистов и беспартийных (за счет профсоюзов), особенно проявивших техническую инициативу. В ближайшие два года в таком порядке подготовить во втузы: в 1929/30 г. – 3000, а в 1930/31 г. – 5000 квалифицированных рабочих...». Тысячники, эти «рабочие, набранные с целью замены старых специалистов» (Карпачева), должны были иметь не менее 4–5 лет стажа руководящей работы, имевшие среднее образование принимались без экзаменов, остальные – не имевшие такового! – каким-то образом сдавали русский, математику и физику. Не сразу, но все-таки для кандидатов в тысячники устраивались подготовительные курсы (см. Главацкий). Эти курсы другим автором, в 1935-м году, названы «молниеносными».
|
Из статьи «Партийные тысячи» (ЗПК 1935 № 19-20, О. Писаржевский). – «Подбор "партийной тысячи" – это был не единовременный рывок, не изолированное мероприятие. Тысяча за тысячей шли во втузы, цепь за цепью лучшие партийцы укрепляли студенческие ряды. Большинство их было направлено во втузы тяжелой промышленности как основной базы индустриализации страны. / Сознанием своей глубокой ответственности перед партией, пославшей их на учебу, нужно объяснить систематически высокую успеваемость парттысячников [!]. Большинство их училось с отметками выше удовлетворительных, и, как правило, по мере приближения к дипломному проекту переходило на хорошие и отличные оценки. При этом надо помнить, что почти все парттысячники пришли во втуз либо после огромного перерыва в учебе, либо с молниеносной подготовкой на краткосрочных курсах. Выполнять же они должны были не специально приспособленные к их начальному общеобразовательному уровню учебные планы, а нормальные программы, рассчитанные на полноценную довтузовскую подготовку.» Институт тысячников замышлялся, видимо, «всерьез и надолго». Возведенное, в конструктивистском духе, в 1931-м году великолепное общежитие Московского текстильного института получает именование «Дом парттысячника», это именование переживет и наборы новых тысячников... А по окончании этих наборов парттысячники должны были составить одну из советских легенд, им предполагалось посвятить отдельный том в задуманной А.М. Горьким в 1935-м году «Истории заводов»... (Когда, по предложению Горького, «горячо поддержанному всей советской общественностью», начала создаваться многотомная история заводов, ее было решено дополнить и этой историей. 4 апреля 1935 года в газете «За индустриализацию» публикуется коллективное письмо «Создадим историю высшей технической школы». «Мы предлагаем: 1. Немедленно организовать сбор фактических материалов, рисующих во всем объеме историю технической школы тяжелой промышленности как историю борьбы рабочего класса СССР за создание свой собственной производственно-технической интеллигенции...» – От МММИ письмо подписали директор Цибарт, засл. деят. науки и техники И.И. Куколевский, засл. деят. науки и техники А.Н. Шелест, проф. М.А. Саверин, проф. Н.Н. Рубцов. – «Предложение актива технической школы мы подробно сообщили Алексею Максимовичу Горькому, который горячо поддерживает идею включения в историю фабрик и заводов истории втузов.» «Наряду со специальными сборниками, посвященными отдельным втузам, – указал, суммируя эти итоги Д.А. Петровский, – мы будем, очевидно, подготовлять по крайней мере два общих сборника. Тема одного – парттысячники – не может вызвать сомнений...» – См. ЗПК 1935 № 7 /апрель/. – История втузов, увы, не была создана – к тем большему сожалению, что отдельным втузам, в первую очередь МММИ им. Баумана, также было впоследствии решено посвятить особые тома.) |
Естественно, что уровень тысячников был несравним даже с уровнем рабфаковцев. (Есть примеры, когда в счет парттысячи принимались люди, имевшие за плечами рабфак и почему-либо сразу не перешедшие в вуз, своеобразное учебное заведение ГЭМИКШ и др., но они единичны.) Если студент после рабфака мог шокировать преподавателя МВТУ вопросом «что такое интеграл?», то студент-парттысячник уже не знал, по свидетельству проф. Куколевского, и арифметики. В 1930-м году на партконференции МВТУ констатировали, что «некоторые тысячники почти полуграмотны» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 1, л. 6).
Пребывание тысячников во втузах было накладным и в денежном отношении. М. Акимов в Юбилейном сборнике (см. на сайте) приводит такие цифры для МММИ: «в среднем стоимость обучения одного госстипендиата в 1932 г. составляет 1222 руб., парттысячника – 2481 руб., профтысячника – 1967 руб.».
Выразительное описание ситуации с тысячниками можно найти в одном стороннем источнике – книге М. Поповского «Управляемая наука». «Парттысячники, – а они составили в тридцатые годы изрядную и наиболее влиятельную часть студентов во всех технических вузах, внесли в институты дух доселе неведомый. Эти юные победители попросту презирали своих учителей. Парттысячник мог запросто накричать на профессора, оскорбить его. А их шуточкам над "хлюпиками интеллигентиками" конца не было. Обучение приняло характер какой-то непрерывной партизанской войны, в которой дозволялись любые приемы и методы.»
Даже к концу 1933-го года, когда приоритет учебы во втузах был почти полностью восстановлен, а самые неподготовленные парттысячники отсеялись, критерии оценки успеваемости для парттысячников были явно занижены (оценки в это время уже выставлялись индивидуально и по балльной системе). Согласно «данным об успеваемости по партийности, обработанным МММИ им. Баумана» «беспартийные дают средний балл 3,69, а коммунисты 3,63», причем «у парттысячи более высокий средний балл (3,74 вместо 3,69)» (ЗПК 1933 № 10, с. 40). Понятно, что проставить «неуд» коммунисту вообще было для преподавателя сопряжено с, мягко говоря, неприятностями, чем и объясняется столь небольшое отставание коммунистов в этой статистике, а «более высокий балл» парттысячников (в общей массе студентов-коммунистов института) говорит лишь о том, что ставить «неуды» парттысячникам (да и рабфаковцам) бывало особенно опасно. «Однажды группе, в которой учился Малышев, доцент В.В. Уваров, читавший "Курс паровых турбин", выставил сплошные двойки. ... Владимир Васильевич рассказывал: / – Пригласили меня на так называемую предметную комиссию. Режу, мол, пролетарское студенчество. В комиссиях были и преподаватели и студенты. Но поскольку преподаватели, как правило, пропускали эти заседания, а студенты, особенно рабфаковцы, бывали в полном составе, в большинстве, я заранее предчувствовал серьезный массаж для нервов. В самом деле, едва я вошел, раздались крики: / – Вышибать Уварова! ...» Надо сказать, впрочем, что защитил Уварова от неминуемого «вышибания» парттысячник – будущий нарком Малышев, староста группы: «Нет, товарищ Уваров не требовал ничего сверх программы...» (см. Чалмаев).
Советская общественность была, конечно же, результатами наборов тысячников удовлетворена, но уже в середине 1931-го года эти наборы неожиданно сворачиваются – во втузы перестают «пускать свежую кровь». Ниже приводится соответствующий приказ, интереснейший документ – приказ Сектора кадров ВСНХ СССР от 8 июня 1931 года (цитируем по ЗПК 1931 № 6). Думается, покончить одним махом с очередными парттысячами вряд ли мог бы по собственной воле и председатель ВСНХ Орджоникидзе (тогда кто, кроме Сталина?). Приказ же подписан даже не начальником, а помощником начальника Сектора кадров; речь идет как будто всего лишь о том, что «оказалось, что ряд товарищей [из числа вновь принимаемых парттысячников] не имеет подготовки для занятий на 1 курсе» (уж в ВСНХ-то хорошо знали, что ее не имел практически никто), а директорам втузов категорически запрещается принимать таковых товарищей и устраивать для них «нолевые группы». При этом главными адресатами приказа являются, ни больше ни меньше, как все обкомы ВКП(б) и ЦК республик.
«О ПОДГОТОВКЕ ВО ВТУЗЫ
Всем обкомам ВКП(б), ЦК республик и всем хозобъединениям и директорам втузов.
Во время приема партпятитысячников майского набора оказалось, что ряд товарищей не имеет подготовки для занятий на 1 курсе (командированные в Нижегородский мехвтуз, в Московский металлургический институт и др.).
Сектор кадров ВСНХ СССР ставит в известность, что при втузах никаких подготовительных курсов и нолевых групп не будет организовано. Все товарищи, не имеющие подготовки для занятий на 1 курсе, будут отправлены обратно за счет командирующих организаций.
Необходимо обратить внимание на постановку подготовительных курсов и их качественную работу.
Директорам втузов категорически запрещается прием без необходимой подготовки во втузы и организация дополнительных занятий без санкции Сектора кадров за что они несут персональную ответственность.
Пом. нач. Сектора кадров ВСНХ СССР
Бороздин
Секретарь Балаков
8 июня 1931 г. № 145/3859»
А в следующем, 1932-м году вообще вся провальная «реконструкция» уйдет в прошлое.
«Активные методы преподавания»
Отменят в 1932-м году и насаждавшийся реформаторами «лабораторный метод обучения» (иначе семинарский, групповой и, после произведенной Цибартом в апреле 1930-го года сравнительно благотворной трансформации, «бригадный») – довершающая нелепую картину «реконструкции» важнейшая ее составляющая. Это был родившийся в США и искаженный применительно к советским реалиям «Дальтон-план» (рассматривать собственно этот план здесь конечно излишне), приглянувшийся Крупской и применявшийся с начала 1920-х годов в советских начальных и средних школах, а затем в техникумах и во втузах. Сущностью его было маловразумительное «коллективное» и «практическое» усвоение предмета, в советской практике высшей школы означавшее в частности то, что лекции в вузах почти не читались, а – с 1930-го года – в знаниях всех членов «бригады» учащихся (учебной группы) фактически отчитывался лишь ее «бригадир». Если учесть средний уровень тогдашнего «красного студенчества», «Дальтон-план» в виде «лабораторного метода» пришелся как нельзя более кстати. Понятно, что и тысячники и большинство рабфаковцев были крайне заинтересованы в этих «активных методах преподавания», введенных в частности в МВТУ в 1929-м году; порядок, при котором «активны только вожаки» (как сказал некий неназванный профессор), давал возможность «пролетариям на учебе» строить карьеру, избегая необходимости учиться.
|
...Из книги 1931-го года издания «Опыт перехода к лабораторному методу занятий во втузах». – «Социалистическая перестройка старой школы, ведущая к полному уничтожению схоластических традиционных устоев прежних методов обучения, приблизилась к этапу, ознаменовавшемуся широкой волной повсеместных опытов в области активизации учебного процесса в высшей школе. Высшая школа стала лабораторией, где исследуется и оттачивается острейшее оружие – новые методы и формы обучения – которому суждено стать победителем в борьбе за скорейший выпуск высококвалифицированных пролетарских специалистов.» |
О лабораторном методе конкретно в Бауманском 1930–31-х годов, о его преобразовании Цибартом в «бригадный» и других попытках его совершенствования, будет рассказано подробнее в рубрике «1930 – 1932: прежним курсом...».
«Борьба за качество выпускаемых специалистов»,
освоение зарубежных достижений, затраты на техобразование и пр.
Очевидно, осуществляемая вышеперечисленными способами «пролетаризация» находилась в полном противоречии с лозунгом «борьбы за качество выпускаемых специалистов», – но только не в помутненном сознании вождей, веривших, что ученый способен посвятить себя не творчеству, а «вредительству», и соответственно «буржуазных спецов» нужно менять на «классово своих», хотя бы и худших. Но тут они убеждали себя в том, что преподававшееся ранее во втузах – «балласт», что знания «дело наживное, сегодня их нет, а завтра будут», что их можно получить путем заводской практики...
Все же решимость большевиков «выпускать на производство» недоучек и даже полных невежд (из «тысячников»), набирая во втузы не кончивших средней школы, придумывая для них способы избегать серьезной учебы, урезая программы, сроки обучения и параллельно прорежая ряды лучших инженеров-преподавателей, видимо порождала опасения у них самих. Может быть, их постоянные заклинания о «борьбе за качество специалистов» и нельзя назвать чистой риторикой или лицемерием. В числе как будто позитивных решений июльского пленума 1928 г. были и такие, как «привлечь к чтению лекций крупных иностранных специалистов» (впрочем было ли это осуществимо? да и нужно ли, при наличии собственных?) и «систематически издавать переводы основных иностранных пособий по технике», «сделать для студентов втузов обязательным знание, по крайней мере одного из иностранных языков» (эта благосклонность к чужому опыту определялась, видимо, ставкой Сталина на строительство иностранцами заводов и импорт техники); «обновить и дополнить оборудование», «обеспечить дело развития научно-технических журналов и издание научных трудов научно-исследовательских институтов», «освободить студентов первого и последнего курсов от всякой общественной нагрузки, кроме посещения общих партийных и профессиональных собраний», и др. – Зарубежному научному опыту, постановке изучения языков, оснащению лабораторий и аудиторий, сокращению, по возможности, бессмыссленной и вредной «общественной деятельности», бесконечных заседаний студентов в училище при директоре Цибарте будет уделяться неослабное внимание. – ЦК ВКП(б) указывает также на «необходимость систематического повышения доли затрат на техническое образование и научно-исследовательские работы», и постановлением ЦИК и СНК СССР от 18 ноября 1929 г. финансирование технических учебных заведений увеличивалось... Но вряд ли исправить положение дел можно было и иностранным опытом, и сокращением «общественных нагрузок», и даже усиленным финансированием.
Вопрос, каким образом удушение высшего технического образования могло способствовать делу «индустриализации», с позиций здравого смысла неразрешим. Ничего не объясняет и спешка с получением новых «кадров». Ибо невозможно признать серьезным основанием к сокращению срока обучения и всего с этим связанного следующее (Петровский, Реконструкция технической...): «если бы мы даже с неимоверной быстротой развили новую сеть технических школ, то высшая техническая школа дала бы новое увеличение продукции [т.е. инженеров] не в течение этой пятилетки, а только к началу следующей. Нужно не забывать, что наша пятилетка кончается через З ½ года. Эта причина, конечно, является важнейшей и решающей»... Причем даже и в такое обоснование никак не вписываются ни трата половины учебного времени на НПП, ни безумная «пролетаризация» и проч.
...К чести советских втузов того времени, все перечисленные «революционизирующие факторы» приходилось внедрять, как с раздражением констатировала «Правда» в упомянутой выше статье чиновника Главтуза В.П. Янау, «диктаторски», подавляя «обострившуюся классовую борьбу», ведущуюся «втузовской деревенщиной» (т.е. «консерваторами»-профессорами) и даже рядом несознательных партийцев «под прикрытием "хоругвей науки"»...
* * *
В сущности, это была совершенно чиновничья, бюрократическая по духу реформа, поражающая только революционным нахрапом и бесшабашностью. Кажущаяся рациональность идеи непосредственного подчинения образования и науки практическим задачам, в данном случае производству, во все времена манит и сбивает с толку чиновника, мало что способного понять в законах функционирования науки и непредсказуемом характере ее выходов в практику (см., напр., Абелев). Но социализм, как это давно и совершенно точно осмыслено – это и есть апофеоз бюрократии.
Одним словом, сомнения в пользе «отраслизации» и «передачи втузов промышленности», повлекшими их раздробление, были естественны. И борьба ВКП(б) с сомневающимися велась. «Если мы обратимся к тактике реакционной профессуры в период, последовавший за ноябрьским пленумом [1929 г.], то мы увидим, что эта тактика заключается во внешне лойяльном отношении к директивам, направленным на реорганизацию втузов, но что за этой нынешней лойяльной оболочкой скрывается самый злостный саботаж» (см. Петровский, Правда).
Руководящая цитата в этом вопросе – ее приводят в частности и Петровский, и Цибарт – фальшиво-благодушные слова Сталина на XVI съезде ВКП(б) 2 июля 1930 г.: «Помните историю с передачей втузов [от наркомпроса] хозяйственным наркоматам. Мы хотели передать всего два втуза ВСНХ. Дело, казалось бы, маленькое. А между тем мы встретили отчаянное сопротивление со стороны правых уклонистов: "Передать два втуза ВСНХ. Зачем это? Не лучше ли подождать. Смотрите, как бы чего не вышло из этой затеи". А теперь все втузы у нас переданы хозяйственным наркоматам. И ничего – живем».
Так или иначе, новая структура технической школы сама по себе втузы не убила – их будут убивать новые методы и сроки обучения. Кроме того, еще при директорстве Цибарта часть специализаций вернутся в Бауманский, и добавятся новые. Дело в том, что в 1932-м году наиболее вредные реформы в техническом образовании будут правительством отменены (об этом в соответствующей рубрике), и начнется обратный процесс – «укрупнения втузов» и в т.ч. обратного их слияния (!).
«На всех факультетах имеются красные деканы,
которые по постановлению Президиума ВЦСПС в скором времени станут директорами»
В 1929-м (как упоминает однажды Цибарт: видимо в том году дело было решено неофициально) или, документально, в 1930-м году А.А. работает в МВТУ. Открывается главная страница в его биографии – страница, предопределившая весомый и положительный итог его жизни.
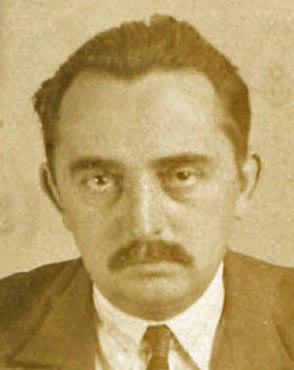
29 января 1930 г. Адольф Августович Цибарт был назначен деканом механического факультета училища. «Я пришел в институт как декан факультета по постановлению МК [Московского областного комитета ВКП(б)] – т. Мостовенко, который тогда был ректором МВТУ» (см. Партсобрание 1 декабря 1937 г.). А.А. зачитывает и протокол постановления МК ВКП(б) о своем назначении, который в стенограмме собрания, к сожалению, не приводится. Не удалось этот протокол (содержавший бы, видимо, и важные для нас выступления Мостовенко) обнаружить и в архиве Московского обкома (в ЦГАМ).
(П.Н. Мостовенко – крупный партийный деятель, старый большевик, директор МВТУ в 1927–1930 гг., расстрелян в 1938 г.)
С 12 февраля 1930 г., в соответствии с предписанным Главтузом ВСНХ (6 февраля) изменением структуры втузов, должность Цибарта в МВТУ получает иное название – не декан, а заведующий механическим факультетом. «Во главе факультета – Зав. факультета, при нем два заместителя, один по Учебно-Производственному обучению, другой – по Адм. Хоз. Части … Завед. Ф-том назначается Директором Училища.» (Это цитата из приказа зам. дир. МВТУ Цвилинга, ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 1, л. 12. – Г.М. Цвилинг – при Мостовенко проректор МВТУ по хозяйственной части, и.о. директора МВТУ в последние месяцы его существования, а в момент разделения МВТУ – «зам. председателя ликвидкома»). Реорганизация 12 февраля велась в порядке подготовки к предстоящему расчленению МВТУ по факультетам: введение должностей заместителей заведующих по учебной и хозяйственной частям означает бо́льшую автономию факультетов во втузе, усиливает роль заведующих как преимущественно администраторов.
Назначали деканов (заведующих факультетами), однозначно, уже как директоров будущих втузов. (В литературе, в частности в Очерках И.Л. Волчкевича, это высказывается лишь в качестве наиболее вероятного предположения.) Так, на последней партконференции МВТУ (11-го марта 1930 г.), о которой речь еще пойдет ниже, Цвилинг говорит о предназначении деканов прямо: «на заседании Политбюро уже решен вопрос о реорганизации ВТУЗов. Ввиду того, что только МВТУ подготовилось к этому и решено расчленить МВТУ на 5 самостоятельных ВТУЗов. На всех факультетах имеются красные деканы, которые по постановлению Президиума ВЦСПС в скором времени станут директорами. Мы разделили хозяйственно – имущество таким образом: сделали так, чтобы каждый факультет имел свое имущество» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 1, л. 2).
Действия декана (зав. факультетом) Цибарта – это действия фактически директора будущего втуза, начиная от участия в определении его профиля и вплоть до назначения своего будущего заместителя по втузу (это и.о. директора МВТУ по уч. части Иосиф Наумович Злотников). 19 февраля 1930-го года на бюро ячейки ВКП(б) факультета «тов. Цибарт указывает о необходимости выделения нашего ф<акультета> в самостоятельный втуз. Решили механический втуз, который должен готовить машиностроителей присоединить к Всесоюзному объединению машиностроения. Главтуз предлагает механич. ф-т преобразовать в чисто механич. втуз, откинув от него тепловоз. спец. грузоподъем точную механику. / Относительно авто-тракторной специальности решено сосредоточить эту специальность в Ломоносов. институт. / Общая установка МВТУ это разделение его на несколько втузов»; «Заключ. слово тов. Цибарта. / В основном из прений не видно разногласий по той установке которую мы предлагаем. Установка на машиностр. втуз должна быть сохранена» (ЦГАМ Ф. 158, оп. 1, ед. хр. 70, л. 131). 20-го февраля, на общем партсобрании: «Сообщение тов. Цибарта о реорганизации механ. ф-та / СЛУШАЛИ. Тов Цибарт указывает, что вопросы индустриализации, пятилетки ставят перед нашим ф-том целый ряд задач, требуется перестройка нашей работы. Надо ликвидировать много-факультетность втуза. Надо перестроить так факультеты, чтобы они соответствовали промышленности. Избежать параллелизма является также важной задачей. Задача органической увязки с промышленностью ставит перед нами необходимость учитывать и географическое положение втуза. Вновь организуемый втуз передается какому-нибудь промышленному объединению. За Главтузом остается методическое руководство. / О лице механ. ф-та было много споров. Была точка зрения такая сделать из нашего ф-та чисто механич. втуз, готовящий инженеров по холодной обработке, горячей обработке. Наша точка зрения следующая: наш факультет должен быть машиностроительным институтом. Установка во всей перестройке должна совершиться к 1 марту» (лл. 108, 108 об). 28 февраля «тов. Цибарт указывает кандидатуры в будущий руководящий состав втуза тов. Злотникова тов. Эфрон и тов. Романов и др.»; «постановили утвердить предложенные кандидатуры» (л. 137).
Значение нового декана в партбюро факультета хорошо понимают: «СЛУШАЛИ / О введении в состав бюро мех. ф-та тов. Цибарта, как красного декана / ПОСТАНОВИЛИ / Ввести в состав бюро ячейки» (л. 134, 19 февраля 1930 г.).
23 февраля 1930 г. в МВТУ проходит заседание парткома и администрации МВТУ «по рассмотрению проекта реорганизации МВТУ в отдельные Втуз"ы» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1, ед. хр. 51, л. 24). На заседании, кроме Цвилинга, Злотникова, секретаря партячейки Наумова и др., присутствуют, естественно, и все пять будущих директоров этих втузов – заведующих факультетами, по привычке именуемых деканами. Принятый проект «не подлежал оглашению» – видимо, до последнего момента детали должны были оставаться неизвестными профессорам.
«Не подлежит оглашению.
ПРОТОКОЛ
заседания по рассмотрению проекта реорганизации МВТУ в отдельные Втуз"ы от 23/II-30 г.
Присутствуют: т.т. Цвилинг, Злотников, Эфрон, Манькович – дирекция, Наумов /яч. ВКП/б/, Апресов /ИБ/, Морозов /Местком/, Переславцев, Карпов /ком. по чистке/, Цибарт, Романов /Мех/, Авиновицкий, Милютин /Хим/, Квири, Чалидзе /Эльфак/, Марутян /яч. ВКП/б/Эльф./, Елисеев, Нешумов, Родионов /ИСФ/, Орлова /МИСИ/, Зайченко /секр. яч. ВКП/б/ МИСИ/, Остапенко /яч. Аэромех./, Семенов /спец. Аэроф./, Синев /"Прол. на учебе"/, Козлов /произв. Ком./, Горячев /яч. ВКП/б/ раб. и сл./, Михайлов, Акопов /яч. ВКП/б/ мех./.
СЛУШАЛИ: Проект реорганизации МВТУ.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Проект в основном принять.
2. 26/II Директору совместно с деканами лично ознакомиться со всеми помещениями, с тем, чтобы окончательно решить вопрос о закреплении помещений за тем или иным втузом.
3. Физический институт – /оборудование/ передать Электротехническому факультету с правом пользоваться им на договорных началах всем другим Институтам.
4. При образовании в других втуз"ах самостоятельных библиотек, втузам передаются из фундаментальной библиотеки книги специального характера и учебная литература.
5. Химический факультет передает при первой возможности, находящуюся во влаж[д]ениях б. ф-ки Урицкого Чертежную Электротехническому втузу.
6. Чертежную и модельную передать Машиностроительному втузу. При организации в других ин-тах самостоятельных чертежных и модельных часть оборудования и чертежно-модельных принадлежностей передаваемых машиностроительному втузу должна быть выделена соответствующим втузам.
7. Распределение средств произвести дополнительно. Все распределение зданий и средств закончить к 15 марта. Ликвидкому закончить работу к 1 мая.
8. Вопрос о Доме отдыха передать на заключение Исполбюро, считая при этом необходимым передачу Дома отдыха одному из втузов.
Председатель<автографа нет>
Секретарь <автографа нет>»
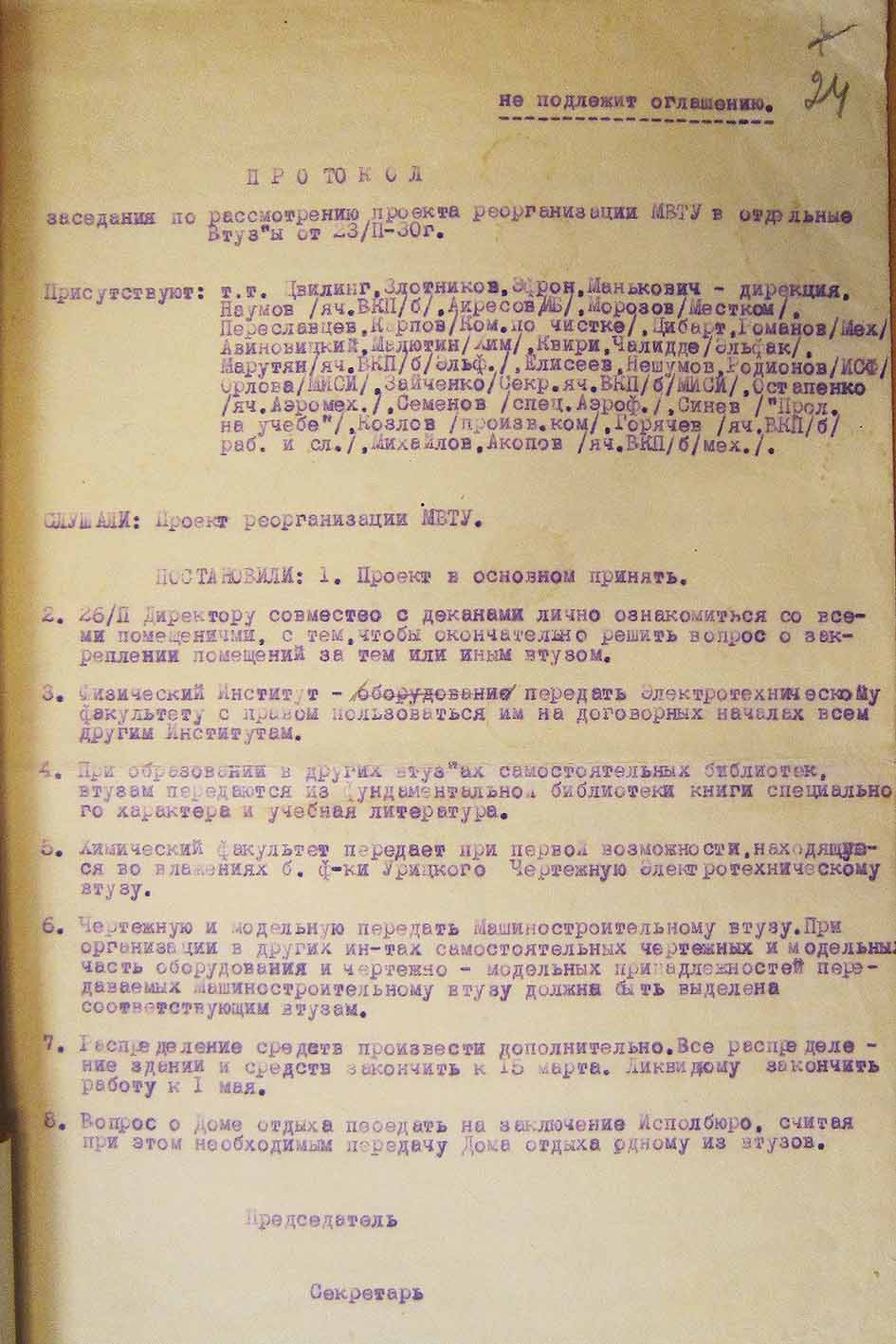
Деканом механического факультета бывшего МВТУ М.А. Саверин работал недолго – «с 1929 г. последовательно занимал должности заместителя декана и декана механического факультета» (см. Юбилейный сборник, 1933). Таким образом, директор МВТУ Мостовенко сместил ради Цибарта декана, которого сам и назначил. Можно заметить, что замена Саверина, как будто, даже не была вынужденной. Ноябрьским пленумом 1929 г. было решено, что «в качестве руководителей втузов должны выдвигаться крупные хозяйственники-коммунисты или активные в деле социалистического строительства специалисты...». Специалист Саверин был в этом деле активен, а кроме того, если верить Юбилейному сборнику, «в первые годы советизации высшей школы и прихода первых рабочих в ее стены проф. Саверин был одним из тех немногих тогда профессоров и работников, которые поддерживали первых рабфаковцев, помогали им преодолевать трудности в учебе и вели борьбу с той реакционной частью профессуры, которая впоследствии стала на путь прямого предательства и измены»; это был «свой, советский профессор». Тем не менее и для лояльного Саверина, как свидетельствует архив, новые требования ВКП(б) оказались чересчур. Партячейка мехфака МВТУ, собиравшаяся до 8 января 1930 г., им недовольна (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1, д. 70, лл. 112, 113об): «т. Шлямберг … говорит, что производственное обучение нельзя доверять преподавателям, нужно привлечь заводские проф и парт организации для правильного проведения Н.П.П. … Т<оварищ> обвиняет проф. Саверина в том, что он, не веря в производственную практику, возглавляет эту работу и тормозит ее»; «т. Михайлов … отмечает недопустимое поведение в работе Саверина, который как по руководству так к своей прямой работе проявляет недопустимое отношение». В результате, оказавшемуся слишком приверженному профессии Саверину был предпочтен «крупный хозяйственник-коммунист». Поводов для оптимизма, несомненно, у «реакционных» профессоров не оставалось никаких. |
На том же заседании 23 февраля 1930 г. был представлен и подробный план разделения МВТУ (лл. 25–26об).
|
«ПЛАН 1. Новые образования. II. Проф.-преподавательский персонал и учебно-вспомогат. учреждения III. Обслуживание студенчества. IV. Здания и строительство. V. Передача центральных функций. VI. Структура новых Институтов. VII. Сроки реорганизации. |
...4-го марта 1930 г. на механическом факультете проходило совещание «административно-технических работников факультета» (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 4, л. 6) – обсуждение «календарного плана и передачи дел ф-там в связи с реорганизацией МВТУ», – как если бы речь шла, так сказать, о смене вывесок.
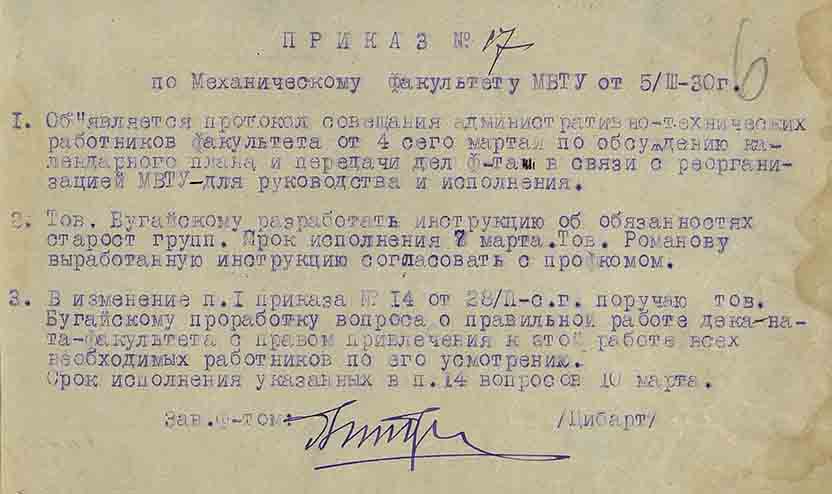
Обстановка в МВТУ во время «красных деканов»
В эти семь недель партийное руководство МВТУ, с боем и угрозами подавляя пассивное сопротивление преподавателей, продолжает внедрять в жизнь безумные решения ВКП(б): специализацию с 1-го курса, непрерывную производственную практику, «активные методы преподавания», программу перехода на 4-х годичный срок. Втуз продолжает наводняться парт- и профтысячниками. Естественно, еще с конца 1929-го года первые студенческие группы мехфака начинают и «соцсоревнование», в т.ч. за досрочное окончание учебы. Разделение МВТУ по отраслям промышленности – структурное закрепление этой программы удушения высшего образования.
Подготовка к раздроблению втуза ведется шумно и агрессивно.
«Немедленно реорганизовать, – излагает резолюцию партактива МВТУ газета студентов и работников училища "Пролетарий на учебе" (вскоре переименованная в "Ударник"). – Существующие старые организационные формы втузов не только не обеспечивают, но и тормозят действительное приближение втузов к промышленности... Собрание партактива МВТУ признает необходимым и своевременным быстрое проведение реорганизации втузов, на основе полной передачи отдельных факультетов соответствующим хозоб'единениям... Актив требует проведения этой реорганизации втузов в кратчайший срок (не позднее 15 марта).» «Выполним постановление июльского пленума. – ...Чем можно об'яснить существование таких втузов, как МВТУ, с 75-ю специальностями? – Только расточительством народного состояния. Этого не будет, когда втузы будут переданы промышленным об'единениям» (Цвилинг)...
Представить себе отношение немого «классового врага» к предстоящему разгрому училища было нетрудно, и против него развязали настоящий террор. «В последний раз собрав организацию МВТУ», в отчетном докладе бюро ячейки ВКП(б) 11-го марта 1930-го года говорили: «мы все время вели борьбу самым категорическим образом, если мы в ноябре м-це профессорско-преподавательский состав делили [по отношению к реорганизации МВТУ] на 3 группы, то сейчас мы говорим, что не должно быть нейтральности: или с нами, или против нас, реакционную профессуру мы должны сами категорическим образом сменять, что уже к настоящему времени сделано» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 1, л. 2).
А с классовой точки зрения профессорско-преподавательский состав втузов был в то время самым ненадежным. «Даже в 1929 г. после 12 лет советской стройки и перестановки сил, среди научных работников индустриальных втузов Союза было всего лишь 3,2% рабочих и 3,7% коммунистов, да и то лишь по преимуществу среди работников социально-экономических кафедр» (ЗПК 1934 № 2)...
«Враг» таился и среди преподавателей, и среди студентов.
«Вплотную к заводам. – ...Реорганизация втузов с самого начала встретила открытое сопротивление реакционной части профессуры, при "болезненно-безразличном", а по существу враждебном отношении большинства, из так называемого "болота". Непонимание решений партии, а порой и отрицательное отношение к ним, наблюдалось и среди определенных слоев студенчества...» «Перестроимся не теряя темпа. Без реакционной тоски о прошлом. – ...Мы должны повести решительную борьбу с паникерством, нытиками, со всеми бегущими от дела перестройки высшей школы. С защитниками и сторонниками "марки МВТУ", с нытиками и паникерами, нам – не по пути. Наша задача – избавиться от этих господ, чем раньше, тем лучше.» «Пора в отставку (Вместо некролога). – Отслужил свою службу седой 60-летний [считая от даты преобразования МРУЗ в ИМТУ] ветеран. Пора и в отставку. Новые пять богатырей – втузов выросли, окрепли и выстроились в один ряд с железобетонными корпусами мощной социалистической индустрии. ... А какой-нибудь из вчерашних "картузников" [в первые годы советской власти студенты демонстративно носили форменные фуражки прежнего ИМТУ], только что, с болью в сердце, скинувший "инженерскую" фуражку, снова сильно огорчит маму и папу неприятной их тщеславию вестью. – Мамочка! МВТУ – упраздняют!.. Представь себе, я теперь буду студент инс-ти-ту-та... Но помимо пассивных консерваторов найдутся люди готовые защищаться. Особенно их будет много среди профессорско-преподавательского состава. Где, как не в МВТУ до последнего года, более 50 лет существовало особое Политехническое Общество, об'единявшее только инженеров-питомцев МВТУ... теперь нет ни МВТУ, ни, оплота его старой марки, Политехнического Общества...» «Сопротивление классового врага из среды профессорско-преподавательского состава неизбежно. Этому сопротивлению надо дать сокрушительный отпор» и т.д. (Все цитаты из: «Пролетарий на учебе».)
В числе этих «врагов», в частности, один из будущих обвиняемых по «делу Промпартии» профессор Н.Ф. Чарновский: он выступал в т.ч. «против непрерывной производственной практики, против сочетания теории с практикой, против реформы втузов» (Юбилейный сборник, Акимов). Все «старые» (времени ИМТУ) профессора под подозрением, например: «Тов. Жебровский о производственных совещаниях. Было производств. совещание. Проф. Кинфер [Л.Г. Кифер] на совещании гостехтрансконторы сказал, что он человек старой школы и то, что происходит он ничего не понимает. Отсюда и качество его работы, инженерно-техническая часть в общем была за реформу, но скрытое недовольствие отдельных тов. тоже было»; «т. Шлямберг … говорит, что производственное обучение нельзя доверять преподавателям ... обвиняет проф. Саверина в том, что он, не веря в производственную практику, возглавляет эту работу и тормозит ее»; «Тов. Полянский. Предлагает об проф. Осецимском не возбуждать никаких вопросов, несмотря на его неважное качество, так как много было затрачено сил, чтобы пригласить сюда проф. А[О]си[е]цимского, и поэтому реакц[ионная] проф[ессура] может на этом что-то вывести» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1, ед. хр. 70, л. 112, 112об, 113об, 120об).
Итак, «Подготовка к разделу в МВТУ шла в течение нескольких месяцев и была закончена в основном еще до постановления президиума ВСНХ. Подготовка была проделана настолько полно и решительно, что опасения вызывала только задержка с подписанием приказа ВСНХ. Училище было готово к разделу. Ждали только приказа...» (см. Красное студенчество. Безболезненный распад МВТУ).

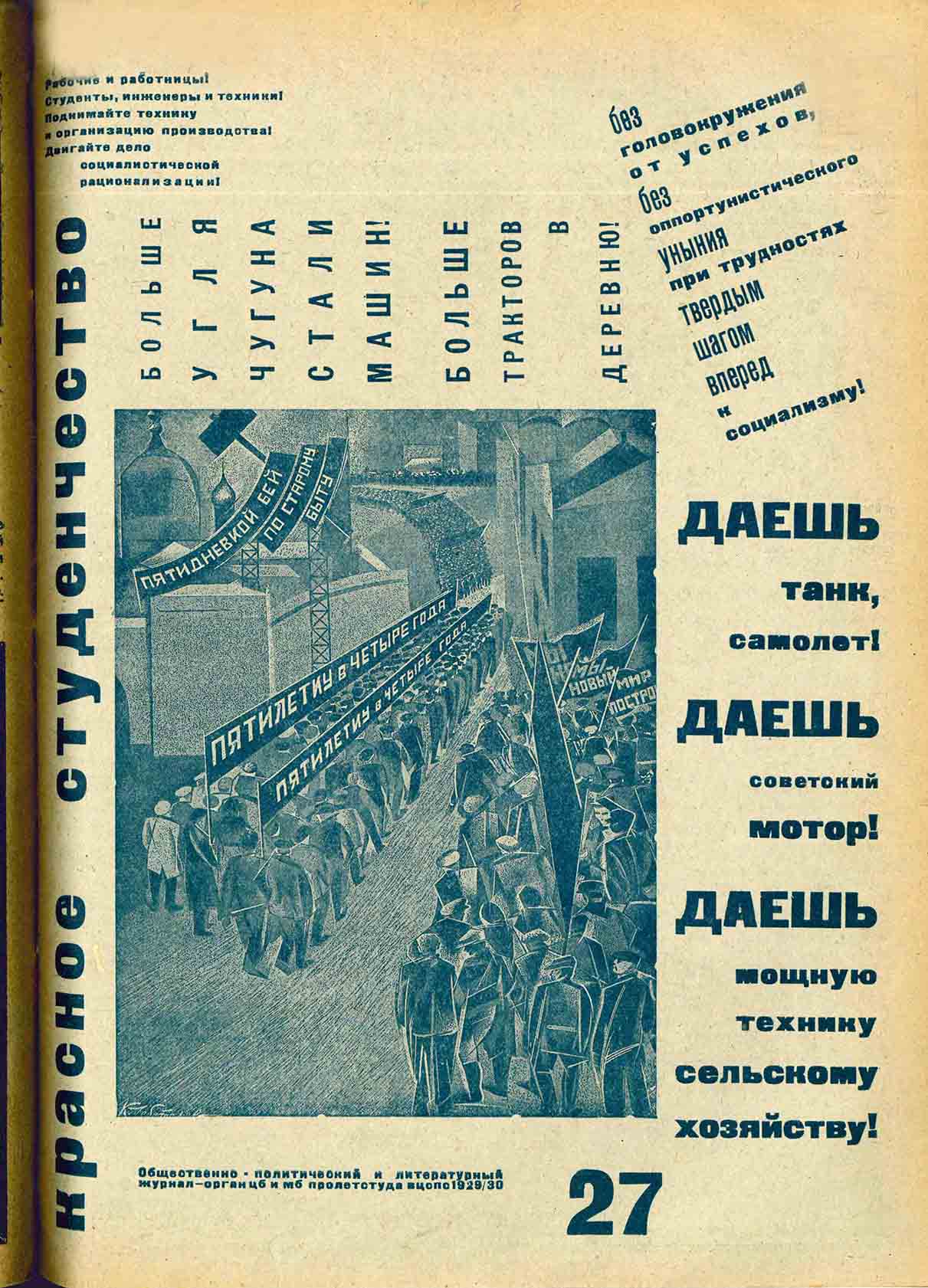
Последняя партконференция бывшего МВТУ
11 марта 1930-го года – последнее собрание партийного, т.е. фактического руководства в истории старого МВТУ (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 1, лл. 2, 3, 4, 6). В президиуме конференции 27 человек, в их числе зам. директора МВТУ Цвилинг и те, кто будет играть роль в жизни будущего ВММУ – МММИ им. Баумана: Кривин, Злотников, Наумов, Эдельштейн. Директор МВТУ Мостовенко отсутствует (как и вообще в конце пути старого МВТУ: его своеобразную миссию в училище вполне мог выполнить хозяйственник Цвилинг). Декан Цибарт, как и другие «красные деканы», в состав партактива МВТУ не входил.
Партсекретарь т. Наумов отчитывается за время с ноябрьского пленума 1928 г.: он говорит о проведенной борьбе с «реакционной профессурой», сначала явно, а потом «в скрытой форме» не желавшей принять раздробление втуза и новые методы обучения; о том, что указанную профессуру надлежит «самым категорическим образом сменять», и что многое в этом направлении уже сделано. Тов. Цвилинг сообщает, что вопрос о реорганизации (разделении) втузов уже решен на некоем совещании Политбюро, и что готовым к этому оказалось лишь МВТУ. В порядке этой подготовки в МВТУ – «на всех факультетах имеются красные деканы» (в их числе Цибарт). В своем заключительном слове т. Наумов выражает уверенность, что будущий втуз будет выпускать из своих стен «инженеров-общественников» не за 9–10 лет, как раньше, а в кратчайшие сроки и притом «с хорошей подготовкой». В резолюции партконференции содержится в числе прочего призыв «вести и дальше борьбу за выкорчевывание корней консерватизма и реакционности из пролетарских ВТУЗ"ов»; «партконференция, классовую борьбу против реакционной профессуры в стенах ВТУЗ"ов рассматривает, как один из ответственных участков борьбы рабочего класса за генеральную линию партии». А также – «производственное обучение уничтожившее длительный отрыв пролетарского студенчества от производства должно быть теснейшим образом увязано с центральной политической задачей партии осуществлением пятилетки в четыре года», и пр.
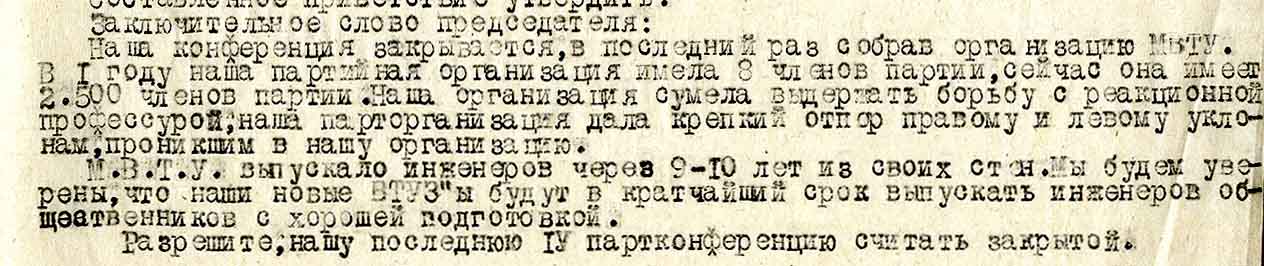
Так завершали вековую историю ИМТУ/МВТУ, признанного во всем мире, лучшего отечественного втуза.
|
Дадим здесь более полные цитаты из протокола последней, IV-й Партийной Конференции старого МВТУ от 11 марта 1930 г. Из отчетного доклада Бюро ячейки ВКП(б) МВТУ, т. Наумов (л. 2): «Тов. Наумов говорит, что отчитывается за период от ноября 1929 г. до марта 1930 г. Из выступлений в прениях, т. Цвилинг (л. 3): «...На заседании Политбюро уже решен вопрос о реорганизации ВТУЗов. В виду того, что только МВТУ подготовилось к этому и решено расчленить МВТУ на 5 самостоятельных ВТУЗов. Тов. Тасиахин (л. 4): «некоторые тысячники почти полуграмотны». Из Заключительного слова председателя конференции (т. Наумова) (л. 4): «Наша конференция закрывается, в последний раз собрав организацию МВТУ. В 1 году наша партийная организация имела 8 членов партии, сейчас она имеет 2.500 членов партии. Наша организация сумела выдержать борьбу с реакционной профессурой, наша парторганизация дала крепкий отпор правому и левому уклонам, проникшим в нашу организацию. Вот и все прощальные слова, которых удостоилось бывшее Училище от его (фактического) руководства... |
Резолюция (л. 6): «РЕЗОЛЮЦИЯ IV-ОЙ ОБЩЕУЧИЛИЩНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ М.В.Т.У.» «1. Заслушав и обсудив отчет о работе Бюро общевузовской ячейки ВКП/б/ общеучилищная конференция признает работу Бюро ячейки и политическую линию правильной. |
МВТУ разделился еще до общего постановления ЦИК и СНК СССР «О реорганизации вузов, втузов и рабфаков» (от 23 июля 1930 г.), на основании решения некоего заседания Политбюро ЦК ВКП(б). «Прогрессивной» общественности втуза не терпелось покончить не только с «седым ветераном» МВТУ, но даже с его вековым именованием «училище» (уже тогда в пользу «инс-ти-ту-та»). «Институтами» будущие втузы именовались и в «Плане разделения МВТУ» от 23 февраля (см. в рубрике «"Красный декан" как будущий директор втуза»). Но на первых порах после реорганизации, историческое «Училище» еще сохраняется.
Меньше чем через два месяца после назначения Цибарта деканом, Приказом по Высшему Совету народного хозяйства СССР за № 1053 от 20 марта 1930 г. МВТУ с его 4 факультетами разделяется на пять частей, высших технических училищ: механико-машиностроительное, аэромеханическое, энергетическое, инженерно-строительное, химико-технологическое. Механический факультет образует Высшее механико-машиностроительное училище (ВММУ) и Высшее аэродинамическое училище (ВАМУ). Его декан (к тому моменту «заведующий») А.А. Цибарт – становится директором ВММУ. Вот этот приказ (цит. по: Волчкевич, «Н.Э. Бауман»).
«В развитие постановления Президиума ВСНХ СССР о создании отраслевых институтов на базе ныне существующих громоздких и расплывчатых политехнических институтов, в целях ускорения темпа и поднятия качества подготовки инженеров, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Московское Высшее Техническое Училище разделить на 5 самостоятельных Училищ:
а) Высшее Механико-Машиностроительное Училище,
б) Высшее Аэромеханическое Училище,
в) Высшее Инженерно-Строительное Училище,
г) Высшее Энергетическое Училище,
д) Высшее Химико-технологическое Училище.
2. Все вышепоименованные Училища организуются на базе соответствующих ныне существующих факультетов Московского Высшего Технического Училища.
3. Высшее Инженерно-Строительное Училище организуется на базе инженерно-строительного факультета МВТУ и Московского Инженерно-Строительного Института, причем последний сохраняется, как факультет внутри единого Высшего инженерно-строительного училища.
4. Высшее Энергетическое Училище организуется на базе ныне существующего электротехнического факультета.
5. Утвердить директорами вновь организуемых втузов:
тов. ЕЛИСЕЕВА В.Т. – Высшего Инжен.-строит. училища
тов. ЦИБАРТА А.А. – Высшего Мех.-Маш.-стр. училища
тов. КВИРИ-КАШВИЛИ – Высшего Энергетическ. училища
тов. АВИНОВИЦКОГО Я.Л. – Высшего Хим.-технолог. училища
тов. КАЛТЫРИНА А.А. – Высшего Аэро-механич. училища
6. В целях максимального сближения втузов с промышленностью передать вновь организуемые Училища соответствующим объединениям на основе общего постановления Президиума ВСНХ от 15/II с.г. Прикрепление закончить в месячный срок.
а) Высшее Мех.-маш.-строит. Училище – Маш. объединению
б) Высшее Аэро-механич. Училище – Авиообъединению
в) Высшее Химико-технолог. Училище – Всехимпромобъединению
г) Высшее Инженерно-строит. Училище – Стройобъединению
д) Высшее Энергетическое Училище – Энергоцентру
7. Рабочие подготовительные курсы при МВТУ временно прикрепить к Высшему мех.-маш.-строит. училищу с тем, чтобы обеспечить подготовку рабочих и работниц во все вновь организуемые Училища.
8. Высшие Педагогические курсы прикрепить в административно–хозяйственном отношении к Высшему Мех.-маш. строительному училищу, подчинив их в учебном отношении непосредственно Главтузу.
9. Для разрешения всех могущих возникнуть спорных вопросов между отдельными втузами и для уточнения финансовой базы реорганизации, создать ликвидационную комиссию в составе т.т. Мостовенко П.Н., Цвилинга Г.М., Любецкого И.Г. и Саламатина В.Н.
Ликвидационной комиссии закончить свою работу не позже 1-го мая с.г.
10. Вновь назначенным директорам вступить в исполнение своих обязанностей немедленно, причем на них возлагается ответственность за бесперебойное продолжение занятий в вверенных им втузах.
11. Главпромкадру совместно с заинтересованными объединениями осуществить правильное распределение и концентрацию специальностей во вновь организуемых втузах с окончанием всей работы к 1 мая.
Зам. Пред. ВСНХ СССР [автограф] (Рухимович)
Начальник Главтуза
ВСНХ СССР [автограф] (Д. Петровский)»
На самом деле, в МВТУ берут начало гораздо большее, чем только пять, число учебных заведений – всего таковых более двадцати (Волчкевич, «Н.Э. Бауман»). Так, «на базе инженерно-строительного факультета МВТУ созданы МИСИ, Военная инженерно-строительная академия, а на базе архитектурного отделения инженерно-строительного факультета МВТУ и архитектурного факультета ВХУТЕИНа был образован МАрхИ» (Базанчук и др.).
Разделение МВТУ больше всего затронуло механический факультет, ставший ВММУ – вскоре МММИ, Московский механико-машиностроительный институт. Аэродинамическая специальность, как уже сказано, сразу стала самостоятельным втузом – Высшим аэродинамическим училищем, в конце 1930 года получившим именование Московский авиационный институт. Теплотехнические специальности перешли в МЭИ, автотракторная и автомобильная – в Московский автомеханический институт им. М.В. Ломоносова (в 1936 году автомобильная специальность вернулась МММИ). Специальности «Текстильное машиностроение» и «Механическая технология волокнистых веществ» составили Московский текстильный институт (первая из названных специальностей вернулась в МММИ уже в 1931-м году).
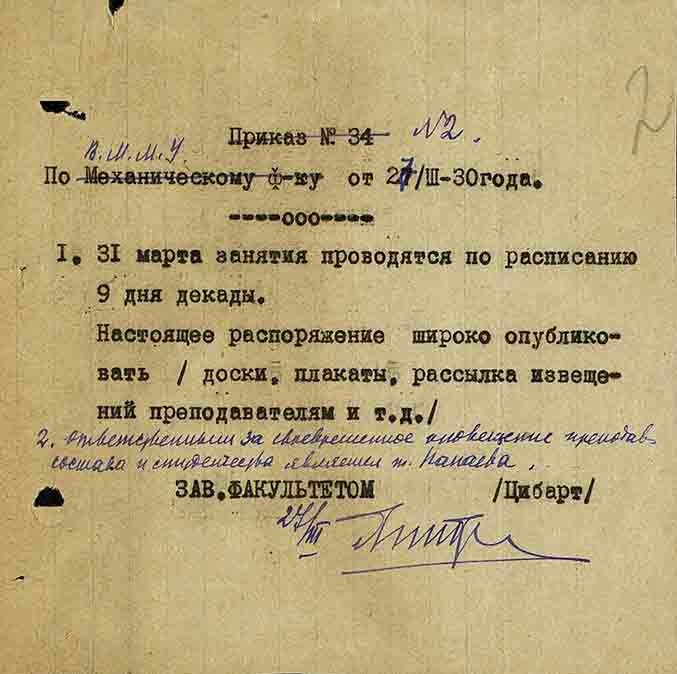
Всего через два года начнется обратный процесс – слияния институтов, будут создаваться втузы-гиганты, т.н. индустриальные институты. Но возврат к прежнему МВТУ, видимо, будет уже невозможен – в известных нам источниках эту тему никто даже не затрагивает, – и МММИ останется «отраслевым». В Комитете по высшей технической школе (созданном к тому времени) сочтут, что «на вопрос о том, на какой тип вуза нам ориентироваться в дальнейшем – на индустриальный (политехнический) или отраслевой, – ответ может быть только такой, что оба типа равноправны и имеют основания для своего развития… механические, химические, энергетические, металлургические, строительные, горные специальности будут в одном месте входить в состав индустриальных вузов, а в другом – образовывать отраслевые втузы. Это станет вполне ясным, если взять такие институты, как Московский механико-машиностроительный, Ленинградский горный и т.д.» (ВТШ 1935 № 9, инж. Г. Весман, Сеть вузов СССР и ее размещение). Бауманский упоминается как вполне устоявшийся образец «отраслевого».
|
«Учебная жизнь института [ВММУ – МММИ им. Баумана] протекает в двух зданиях: главном учебном здании и механическом корпусе...»; «институт располагает сейчас тремя своими общежитиями» (см. Юбилейный сборник, Яковлев). Так было до 1933-го года (поскольку до этого времени здания кузнечной и литейной мастерских находились в полуразрушенном состоянии). В 1934-м году к этому добавится здание физического института бывшего ИМТУ – МВТУ.
На схеме расположения зданий ИМТУ по Коровьему броду (см. выше в рубрике «Учиться в самом лучшем учебном заведении») главное здание отмечено № 1, механический корпус, или механическая лаборатория (также механический институт) – № 4, первое общежитие ИМТУ–МВТУ – № 6, здание Физического института – № 3. Кузнечная мастерская – № 4а, литейная – № 4б.
Итак, новое заведение или ВММУ унаследовало, что самое важное, главное здание ИМТУ–МВТУ, корпус механического факультета – историческое здание, которым оно владело со дня возникновения Ремесленной школы, настоящее лицо училища (ул. Коровий брод, «собственный дом» – ныне Вторая Бауманская, 5). Здание расширялось в 1920-х гг. – в частности, в пристройке к южному крылу паркового фасада находится возведенная вчерне еще в 1914-м году и законченная в 1929-м библиотека МВТУ–МГТУ.
Говоря об истории МГТУ, невозможно не упоминать о художественной ценности его строений, в особенности главного здания ИМТУ–МВТУ–ВММУ–МММИ–МВТУ, или «старого здания» МВТУ–МГТУ. Здание представляет собой один из ценнейших образцов русского ампира (позднего классицизма) – Слободской дворец (Слободской – от «Немецкая слобода»). Его значительные фрагменты восходят еще к 1749–1750-м годам, к усадьбе А.П. Бестужева-Рюмина, в дальнейшем не раз менявшей именитых владельцев и перестраивавшейся крупнейшими зодчими; с 1797 г. это дворец («Слободской дворец») Павла I. Но в основном нынешний облик дворца определили в 1827–1832 гг. Доменико Жилярди и Афанасий Григорьев, капитально перестроившие руинированное после 1812-го года здание под Ремесленное заведение, будущее ИМТУ – и, к некоторому сожалению, известный архитектор Лев Кекушев в 1899–1900-х годах, во время директорства И.В. Аристова, сравнявший двухэтажные галереи между центральной и фланговыми частями дворца до общего уровня в три этажа. Впрочем, это нарушение Кекушевым замысла великого Жилярди не только дало училищу новые прекрасные аудитории, но и – по оценке М.В. Нащокиной (см.) – «окончательно нивелировало усадебные черты в композиции, и здание приобрело облик, характерный для государственных учебных заведений». То есть это изменение может расцениваться и положительно. Ко всему сказанному еще нельзя не добавить, что желто-белая покраска по штукатурке, без чего, кажется, представить Бауманский уже невозможно, появилась лишь в последнее десятилетие XIX века (а до того здание было краснокирпичным с белокаменными деталями). И еще, для нас нынешних: к счастью, дворец избежал погубившей бы его облик надстройки, уже во время директорства Цибарта, которая предусматривалась приказом Орджоникидзе 1934-го года (см.).
Подробнее об архитектурной истории Слободского дворца см. в конце очерка (до списка использованных источников).

МГТУ им. Баумана.
Фото Евг. Райсфельда. 2013
Оставшийся ВММУ корпус механической лаборатории, или иначе механического института, располагавшийся между главным зданием и Яузой (арх. Кекушев; к 1902 г. здание было возведено, но не завершено), был его существенной частью. В 1927/1928 гг. корпус был вдвое расширен. Об истории создания и функционирования этого корпуса, располагавшихся в нем лабораториях (и «факультете особого назначения») см. в статьях проф. И.И. Куколевского из сборника «100 лет МММИ им. Баумана» – «Экспериментальные методы преподавания», проф. Е.К. Мазинга «У колыбели дизелестроения. Развитие специальности двигателей внутреннего сгорания» (обе работы на этом сайте), Е. Симонова «Проф. Л.П. Смирнов», брошюре А. Ямского (Г. Нехамкина? М. Акимова?) «Лучший втуз Советского Союза» (см. на сайте) и других.
Перешли ВММУ также и здания кузнечной (между Механическим институтом и главным зданием) и литейной (по Техническому, б. Спиридоновскому переулку) мастерских, числившихся в ИМТУ при механическом институте. Правда, до 1933–1934 гг. они находились в «полуразрушенном состоянии» и не эксплуатировались (см. Лучший втуз..., «Мастерских не было – мастерские есть»).
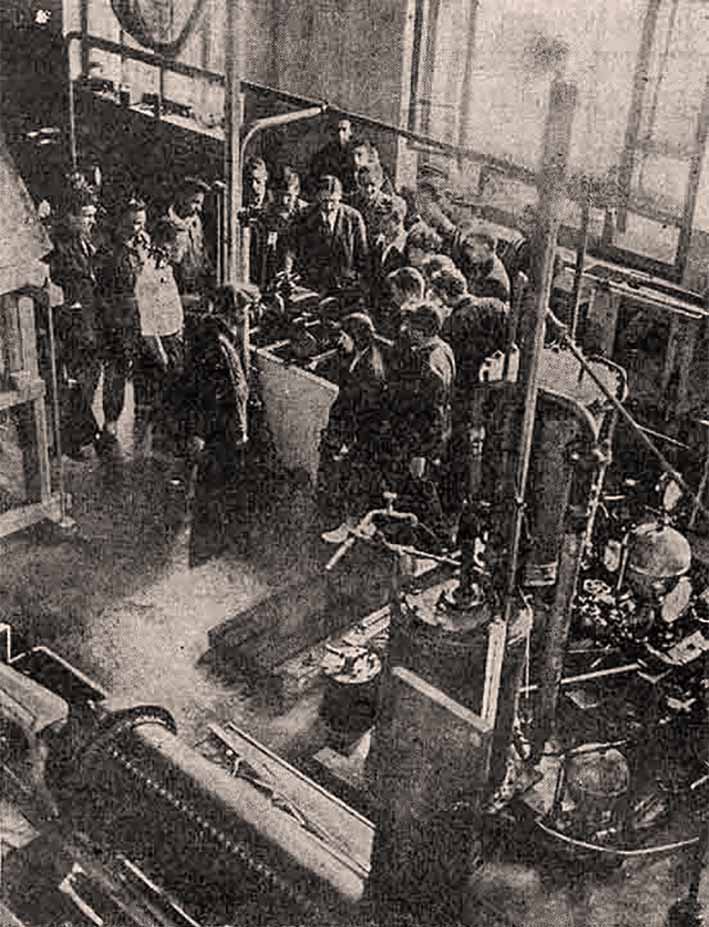
Студенты на занятих в гидравлической лаборатории.
МММИ им. Баумана, корпус бывшего механического института (фото из сборника "100 лет МММИ...")
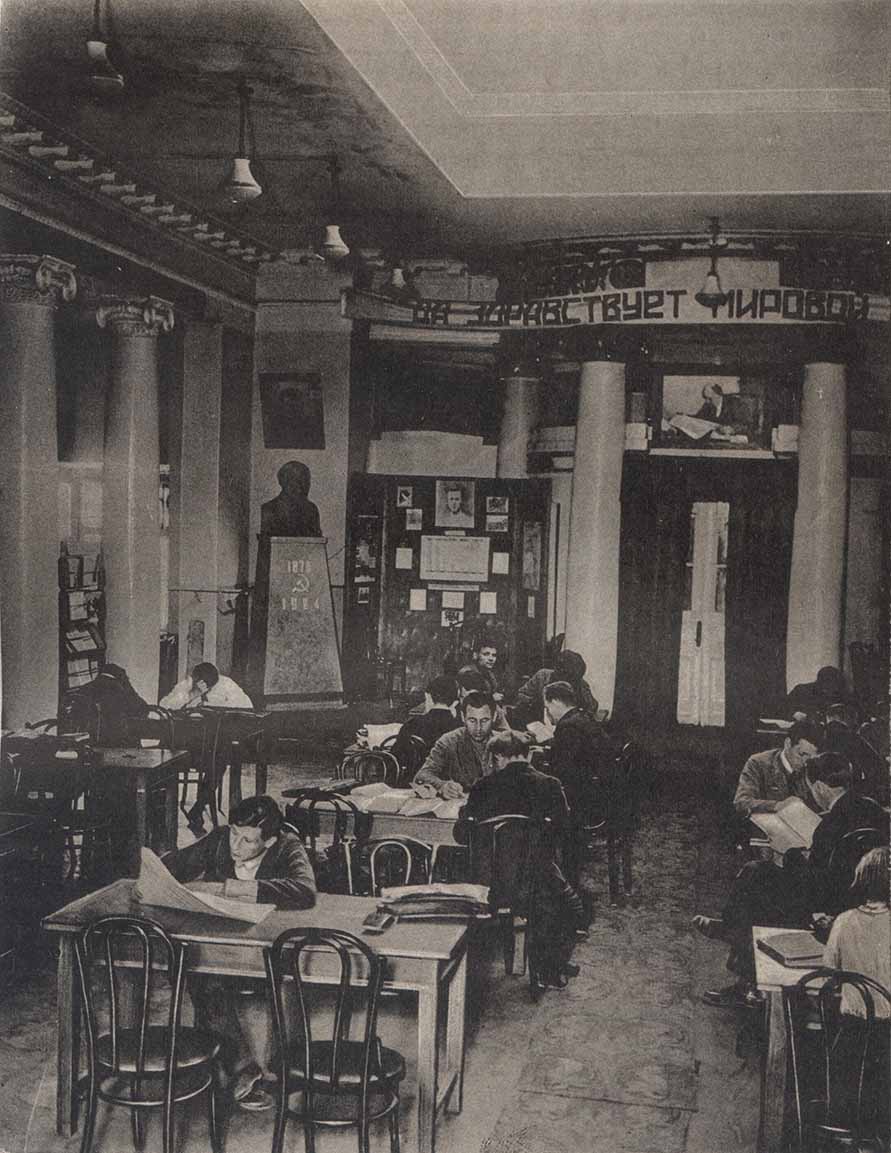
Кабинет социально-экономических наук (помещение бывш. ц. св. Магдалины)
(фото из сборника "100 лет МММИ...")
Здание бывшего физико-электротехнического института ИМТУ (арх. Кекушев, 1901; открытие состоялось 2 октября 1902 г. /Известия Императорского ... за 1902 г./), стоявшее по оси дворца и ближе к нему, чем корпус механической лаборатории – досталось поначалу, вместе с располагавшимся в нем физическим институтом МВТУ, Высшему энергетическому училищу. Это мешало работе ВММУ–МММИ, вынужденному делить аудитории, оборудование и лаборантов с ВЭУ–МЭИ. В связи с остановкой в 1934-м году строительства большого нового корпуса МММИ им. Баумана, наркомтяжпром вернул это здание МММИ. Ныне оба этих исторических здания, механической лаборатории и физического института, не существуют – они «накрыты» новым корпусом МВТУ им. Баумана, возведенным в 1941–1948 гг. по проекту Л.К. Комаровой.
Унаследованное ВММУ общежитие в Бригадирском переулке, 14 («Первое показательное общежитие МММИ им. Баумана») было построено преподавателем ИМТУ, акад. архитектуры Л.О. Васильевым по проекту Л.Н. Кекушева к 1903 году. К нашему времени оно утратило лишь фигурный фронтон в своей угловой части, выходящей на перекресток переулка и нынешней 2-й Бауманской (Коровьего брода), с гербом Империи и надписью «Общежитие для студентов Императорского технического училища». Осталось за ВММУ также общежитие на ул. Радио (б. Вознесенская), 20.
|
Бывшая лаборатория ИМТУ по механической технологии волокнистых веществ (№ 5 на схеме) стала главным корпусом ВЭУ–МЭИ. Это затейливое, с узорчатой красно-кирпичной кладкой и белыми тягами сооружение, выдержанное, как заметила историк архитектуры М.В. Нащокина, в духе тогдашних мануфактурных фабрик, и резко выделяющееся по своей эстетике даже из разностилевых зданий ИМТУ – бо́льшая из его двух башенок придавала зданию сходство с «ратушей», так его и называли – приписывается в распространенных источниках Кекушеву, однако автор его не установлен. По предположению Нащокиной (см.: Работы Льва Кекушева...) это могли быть либо А.В. Кузнецов, либо даже Ф.О. Шехтель. Возведенное в 1899-м году (впрочем, еще и в 1902 г. жертвователи перечисляли больше суммы на его строительство /Известия Императорского ... за 1902 г./), к настоящему времени здание капитально, до неузнаваемости перестроено и увеличено на два этажа. Здание химической лаборатории напротив дворца, на взгорке по другую сторону Коровьего брода (исключительно удачное творение Кекушева, 1902 г.), перешло бывшему химическому отделению. Студентам-химикам бывшего МВТУ приходилось «разрываться» между Миусской площадью (Высшим химико-технологическим училищем) и Коровьим бродом, а в ВММУ была образована своя кафедра химии. (Кстати, студенты бывшего МВТУ считались в новом химическом вузе лучшими, – см. Карпачева.) Здание сохранилось, но надстроено на этаж. (Замечательный Дом Политехнического общества в Харитоньевском переулке, принадлежавший ИМТУ, к этому времени у МВТУ уже был давно отнят: в 1918 году в нем обосновался Российский Коммунистический Союз Молодежи.) |
...Не обошлось, при разделении МВТУ, и без обид. «...Безусловно "старшим сыном" оказалось ВММУ. Оно осталось в основном помещении МВТУ, оно лучше всех обеспечено материально. Правда, ВММУ – самое большое из новых училищ и ему полагается и большее наследство, но – не перегнули ли палку?» (см. Красное студенчество).
С протокольным распределением помещений между новыми втузами можно ознакомиться в «Плане реконструкции МВТУ» от 23 февраля 1930 г. (рубрика «"Красный декан", будущий директор»).
Название «ВММУ» просуществовало недолго – традиционное «училище», как и предполагалось еще до разделения МВТУ, сменяет «институт». Всех обстоятельств этого переименования мы пока самостоятельно не исследовали – сошлемся на рассказ историка МГТУ И.Л. Волчкевича. «25 сентября 1930 года Дирекция ВММУ выступила с инициативой о переименовании в Московский Механико-Машиностроительный Институт. Для этого дирекция направила отношение № 11586 во Всесоюзное объединение тяжелого машиностроения (ВОМТ), которым просило объединение войти с соответствующим ходатайством в ВСНХ. 20 октября в дополнение к этому отношению была подана просьба о присвоении Заведению имени Баумана» (Волчкевич, Н.Э. Бауман). Уже через неделю инициатива ВММУ была удовлетворена.
«Приказ по ВЫСШЕМУ СОВЕТУ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР № 2222
гор. Москва, «28» октября 1930 года.
31 октября с.г. исполняется 25 лет со дня убийства известного революционера-большевика Н.Э. БАУМАНА, и для увековечивания памяти тов. БАУМАНА дирекция, партийные и общественные организации Высшего Механико-Машиностроительного Училища ходатайствуют о присвоении этому ВТУЗу имени тов. БАУМАНА. А потому Президиум ВСНХ СССР
ПОСТАНОВИЛ: переименовать В.М.М.У. в Московский Механико-Машиностроительный Институт им. Н.Э. Баумана.
Зам. Председателя ВСНХ СССР [автограф]
Пом. Управляющего делами ВСНХ СССР [автограф]»
(цит. по: Волчкевич, Н.Э. Бауман; также: Сословие вольных людей...)
Итак, по ходатайству ВММУ, через полгода после его основания, Приказом № 2222 по ВСНХ СССР от 28 октября 1930 года втуз получил название «Московский механико-машиностроительный институт» с присвоением имени Н.Э. Баумана.
Неразрывное с образом училища прозвание «Бауманское», «Бауманский», берет начало именно при директорстве Цибарта.
Можно сказать, А.А. Цибарт – первый ректор нынешнего МГТУ им. Баумана. И не только потому, что Цибарт был директором именно той части прежнего училища, из которой вырос Технический университет, и что при нем втуз получил именование «Бауманский». Главное в том, что при нем эта часть былого ИМТУ не только не растеряла авторитета, но и была признана лучшим втузом СССР, дала новый старт его развитию.
Под названием «МММИ им. Н.Э. Баумана» заведение пробудет 13 лет, до 1943 г., когда ему официально присвоят честь именоваться тем самым прежним «МВТУ». А имя Н.Э. Баумана (волею случая, вполне органичное для втуза по звучанию), под которым оно было признано лучшим в новой истории страны, носит и нынешний МГТУ (Московский государственный технический университет). Это – косвенное, но несомненное признание успехов втуза времени Цибарта.
...Что до того обстоятельства, постоянно искушающего противников советизма (к которым относится и автор этого очерка), что имя ветеринара-большевика носит техническое учебное заведение. – Трагедия Николая Эрнестовича Баумана была, как уже рассказывалось выше, кровной для ИМТУ, она была частью не какой-то казенной легенды, а реальной, кстати досоветской жизни вполне в то время революционно настроенного Училища. (Достаточно сказать, что комитет РСДРП располагался в ходе событий 1905-го года в стенах ИМТУ.) Гибель Баумана «от руки черносотенца» на демонстрации, его смерть в стенах Училища, куда он был перенесен студентами после ранения, его тело в (возможно) актовом зале Училища и грандиозное траурное шествие-манифестация от ИМТУ под административным прикрытием директора ИМТУ А.П. Гавриленко (одного из лучших директоров в истории заведения) – делают увековечение его имени для втуза совершенно естественным. Как бы ни относиться к задачам неудавшейся (и не запятнавшей себя преступлениями) революции, факт тот, что и эта революция и погибший Н.Э. Бауман действительно чрезвычайно много значили в собственной социальной истории втуза.
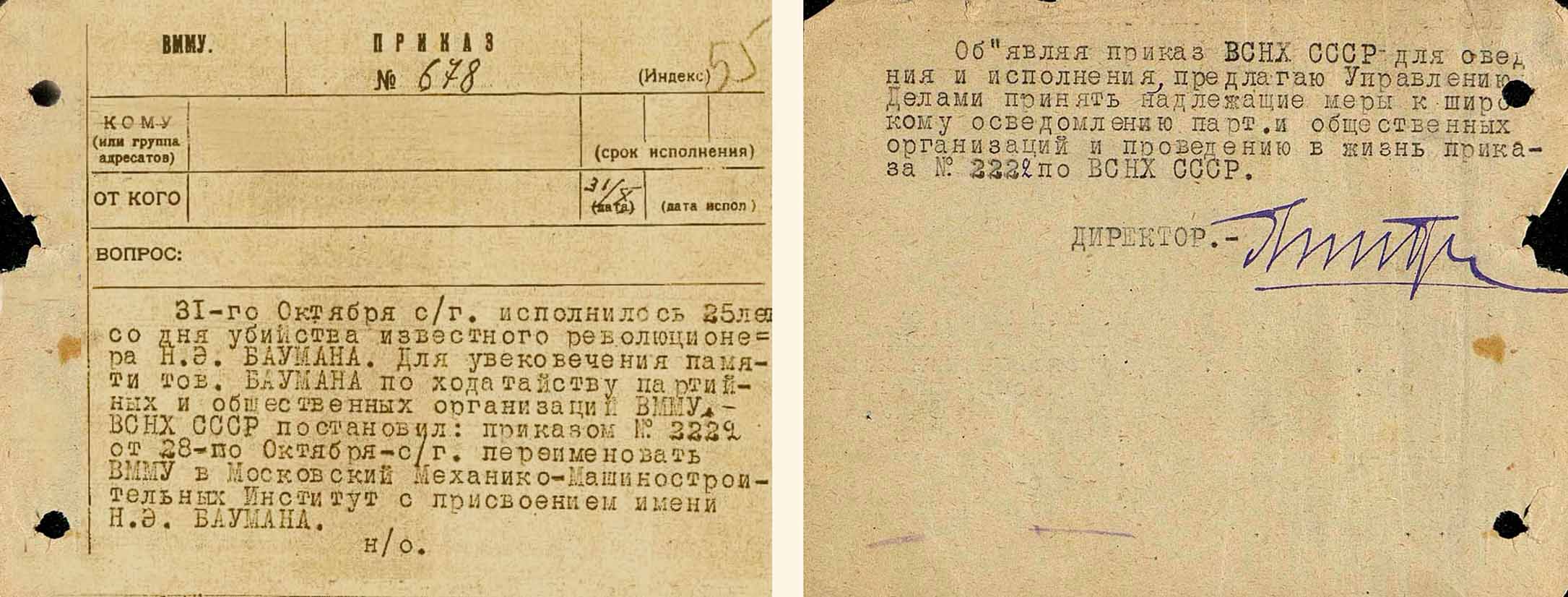
Рождение "Бауманского". Приказ А.А. Цибарта
(ЦГАМ, ф. Р-1992, оп. 4, д. 2, л. 55, 55об)
ВММУ. Приказ № 678 31/X [1930]
31-го Октября с/г. исполнилось 25 лет со дня убийства известного революционера Н.Э. БАУМАНА. Для увековечения памяти тов. БАУМАНА по ходатайству партийных и общественных организаций ВММУ, - ВСНХ СССР постановил: приказом № 2222 от 28 Октября - с/г. переименовать ВММУ в Московский Механико-Машиностроительный Институт с присвоением имени Н.Э. БАУМАНА.
Об"являя приказ ВСНХ СССР для сведения и исполнения, предлагаю Управлению Делами принять надлежащие меры к широкому осведомлению парт. и общественных организаций к проведению в жизнь приказа № 2222 по ВСНХ СССР.
ДИРЕКТОР. - [автограф: Цибарт]
31 октября 1930-го года, в 25-ю годовщину со дня гибели революционера, на крыльце перед главным входом в ВММУ – теперь уже МММИ им. Н.Э. Баумана – торжественно открывается памятник Бауману, о чем сохранился сюжет кинохроники (см. Губайдулин). Авторство памятника нам пока неизвестно. Архив парторганизации ВММУ–МММИ сохранил лишь следующие сведения: в ВММУ действовала комиссия по увековечению памяти Н.Э. Баумана, под председательством члена партбюро Вайнера; установка памятника обошлась в 2500 рублей, из которых 1500 рублей собрали студенты ВММУ, оставшуся тысячу – его преподаватели, а также студенты ВХТУ и ВЭУ (частей бывшего МВТУ). Эта же комиссия и студенческое собрание ВММУ подняли вопрос о присвоении Училищу имени Баумана (ЦГАМ Ф. П-158, оп. 1а, д. 3, лл. 21, 47об).
|
Протокол Заседания рабочей пятерки бюро ВКП/б/ ВММУ от 4/VI-1930 г. Присутствуют: Кутьин, Сорокин, Этлин, Ингликов, Вайнер, Злотников, Цыганков, Цибарт, Резчиков. Протокол Заседания рабочей пятерки бюро ВКП/б/ ВММУ от 7/IX-1930 г. Присутствуют: Резчиков, Кутьин, Сорокин, Вайнер, Этлин, Камков, Злотников Актив: Манькович, Резик, Скопцов, Ингликов, Цыганков |


Открытие памятника Н.Э. Бауману на крыльце перед главным входом в МММИ им. Баумана, 31 октября 1930
Кадры из видео Дамира Губайдулина «Пролетаризация МВТУ им. Баумана»
На первом кадре: выступает А.А. Цибарт
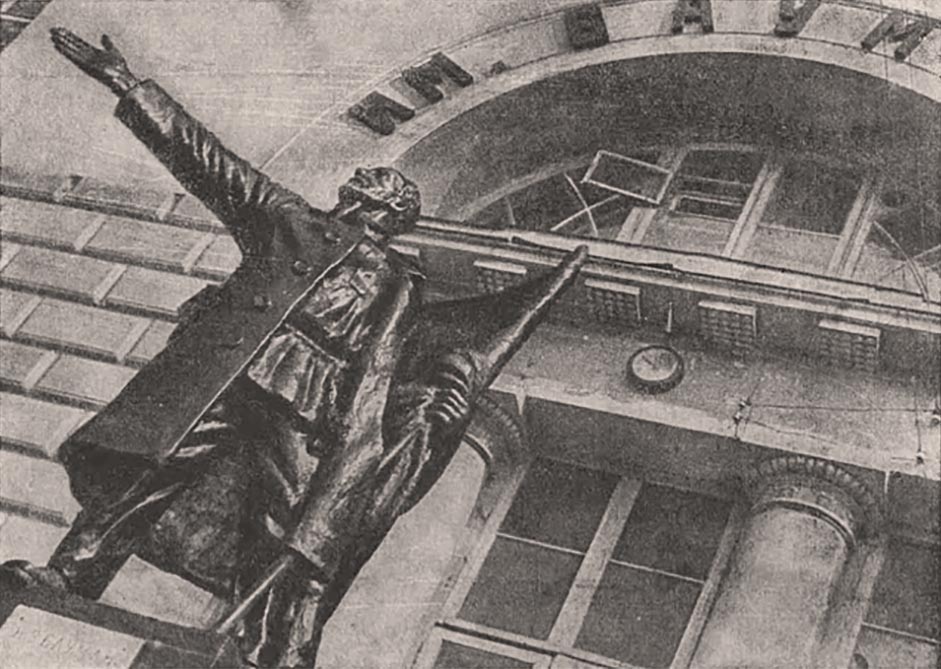
Памятник Н.Э. Бауману на крыльце перед главным входом в МММИ им. Баумана. 1933
Фото Елизаветы Игнатович (?) из юбилейного сборника "МВТУ-МММИ им. Баумана 1832-1932"
Если полагаться на датировки фотографий Бауманского на сайте PastVu.com, памятник просуществовал до 1947 – 1949 гг.
«Быть на чеку!
Показаниями вредителей установлено, что среди контр-революционных агентов международного капитала
были профессора и преподаватели нашей технической школы. Пролетарская диктатура сумеет беспощадно
расправиться с вредителями, мобилизуя советскую страну для отпора международным интервентам.
Но самой технической школе необходимо удесятерить свою бдительность.
Техническая школа должна быть кузницей красных специалистов для страны строящегося социализма.
В ней не может быть места лакеям и агентам международного империализма.
Усилим нашу бдительность, углубим нашу учебу, укрепим нашу мобилизационную способность,
чтобы суметь в любой момент на удар ответить ударом!
Пламенный привет ОГПУ — верному стражу пролетарской диктатуры!»
Журнал «За промышленные кадры» 1930 № 2-3
«Вопрос о кадрах для кадров на данном этапе приобрел
исключительную политическую остроту в связи с вредительством. Система последних вредительских действий
со всей очевидностью показала, насколько сужается база использования старого высшего комсостава науки и техники,
из среды которого черпались вожди контрреволюционных организаций (Рамзин, Кондратьев и др.).»
С. Кишкин. Журнал «За промышленные кадры» 1931 № 1
Сопровождавшие индустриализацию удушение техобразования и дезорганизация лучших отечественных втузов шли в связке со смертоносными сталинскими погромами на крупнейших инженеров: партия бредила своими новыми и небывалыми «красными специалистами», «красными командирами промышленности». Назначение Цибарта пришлось на очередной чудовищный фарс под названием «Дело Промпартии». «Весной 1930 года, после ряда забастовок рабочих на шахтах, была арестована большая группа инженеров и научно-технической интеллигенции. По материалам дела они обвинялись в создании антисоветской подпольной организации, известной под названиями: "Союз инженерных организаций", "Совет Союза инженерных организаций", "Промышленная партия". По данным следствия, эта антисоветская организация в 1925–1930 годах занималась вредительством в различных отраслях промышленности и на транспорте. Кроме того, согласно обвинению, она была связана с "Торгпромом" ("Торгово-промышленным комитетом"), объединением бывших русских промышленников в Париже и французским генеральным штабом и подготавливала иностранную интервенцию в СССР и свержение советской власти» (Википедия). Всего по делу было арестовано более 2000 человек, восемь предстали на открытом процессе 25 ноября – 7 декабря; пятеро из них были приговорены к расстрелу (замененному на 10 лет заключения). Пересказывать содержание обвинений и ход дела подробнее здесь не стоит (это хорошо описано в «Очерках истории МГТУ» Волчкевича, – см.).
От первых арестов весной 1930-го года и до публичного псевдо-судебного процесса в конце года, надо думать, никто из специалистов бывшего МВТУ, ВММУ в особенности, не мог чувствовать себя хотя бы в относительной безопасности, не говоря уж о тех естественных чувствах, которые они должны были испытывать по отношению к коллегам. Все восемь подсудимых в открытом процессе – выпускники ИМТУ. В числе главных обвиняемых – проф. ИМТУ Н.Ф. Чарновский и бывший (1920–1922 гг.) ректор МВТУ И.А. Калинников, преподававшие еще во время учебы в ИМТУ студента Цибарта. А в качестве главы «Промпартии» – профессор ВММУ, бывш. МВТУ, и директор созданного им Всесоюзного теплотехнического института им. Гриневецкого и Кирша (с 1930 г. им. Дзержинского) Л.К. Рамзин.
Во время начавшихся уже арестов по делу – проф. Л.К. Рамзин заведует специальностью «теплосиловые станции» в ВММУ. В архиве ВММУ–МММИ сохранилось касающееся его деловое распоряжение Цибарта от 17 мая 1930-го года. Заметно, как высоко в советской иерархии стоял в то время Рамзин: с институтским учебным планом он не считался, вследствие чего Цибарту приходится продлевать занятия, страдают также курсы профессоров Смирнова, Бриллинга, Предтеченского и других, но ни о каких взысканиях не может быть и речи. – «1) Ввиду того, что в настоящее время 9 триместру (III к.) специальности «теплосиловые станции» необходимо проработать по переходному учеб. плану для окончания триместра 430 учеб. час. фактически же до 1/ VI может быть проработано лишь 312 часов, то для покрытия проработки остающихся 118 учеб. часов разрешить спец. «теплосиловые станции» продлить занятия во втуз"е 9 триместра до 20/VI-с.г. Производственное обучение указанного триместра провести с 20/VI по I/VIII. / Отпуск с 1/VIII по 20/IX-с.г.
2) Отметить, что со стороны специальности «теплосиловые станции» не было достаточного контроля за проведением учебных занятий 9-го триместра вследствие чего ряд курсов (проф. ЛП Смирнова, НР Брилинга, АА Предтеченского и т.д.) не будут проработаны в отведенное для них время.
3) Зав. спец. тепл. станции проф. ЛК Рамзину исходя из 1 пункта данного приказа представить учебно-производственному отделу ВММУ план использования дополнительного учебного времени 9 триместра. / ДИРЕКТОР ЦИБАРТ»
(ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 1, л. 33).
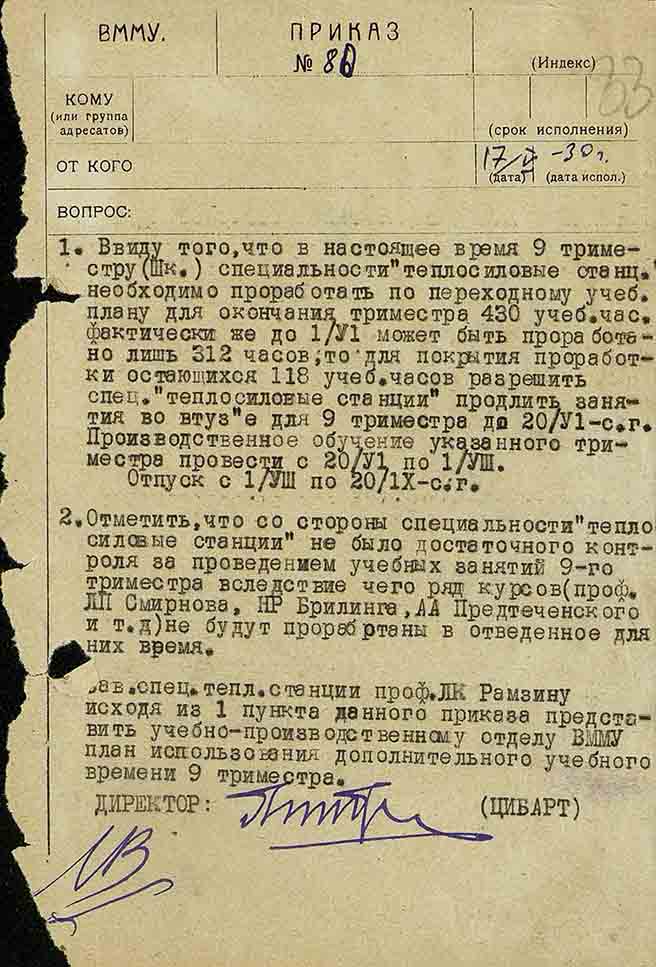
...По всей стране организуются бурные многотысячные митинги с требованиями «уничтожить вредителей». Разумеется, митингует и бывший МВТУ – созданные на его базе втузы... На первой странице «Правды» (26 ноября 1930 г.) находим такое упоминание МВТУ, в одной из статей о митингах 25 ноября, под названием – закавыченной знаменитой цитатой – «Когда враг не сдается, его уничтожают». – «... Рамзин. Мало кому так знакомо и так противно это имя, как студентам б. МВТУ. "Эта гадина смела нас учить", – говорят студенты. "Эту гадину мы считали товарищем", – заявляют профессора. ... Он просчитался, господин Рамзин. Готовя себе кресло премьера, он попал на скамью подсудимых. Его бывшие ученики требуют применения к нему высшей меры наказания. Знавшие его профессора, присоединяя свои голоса к голосам студентов, добавляют: – Мы не хотим больше помнить эту фамилию. / Две тысячи студентов и профессоров б. МВТУ вышли вчера на улицу, требуя одного: "расстрелять"»...
Имен студентов и профессоров, впрочем, не приводится. Кстати, не следует думать, что под «профессорами» в этой статье имелись в виду действительные профессора, ученые, работавшие еще в ИМТУ или где-либо до революции. Новые советские профессора не имели и соответствующей ученой степени – в то время это звание было лишь номинальным (см. рубрики «"Профессорско-преподавательский состав": ученые "старые" и "молодые"» и «События, победы и бедствия 1934–1935-х гг.»).
27 ноября 1930 г. в институтском «Ударнике» (бывш. «Пролетарий на учебе») помещается статья «Расстрелять» – и рядом заметка с осуждением преподавателей, воздержавшихся от голосования за расстрел.
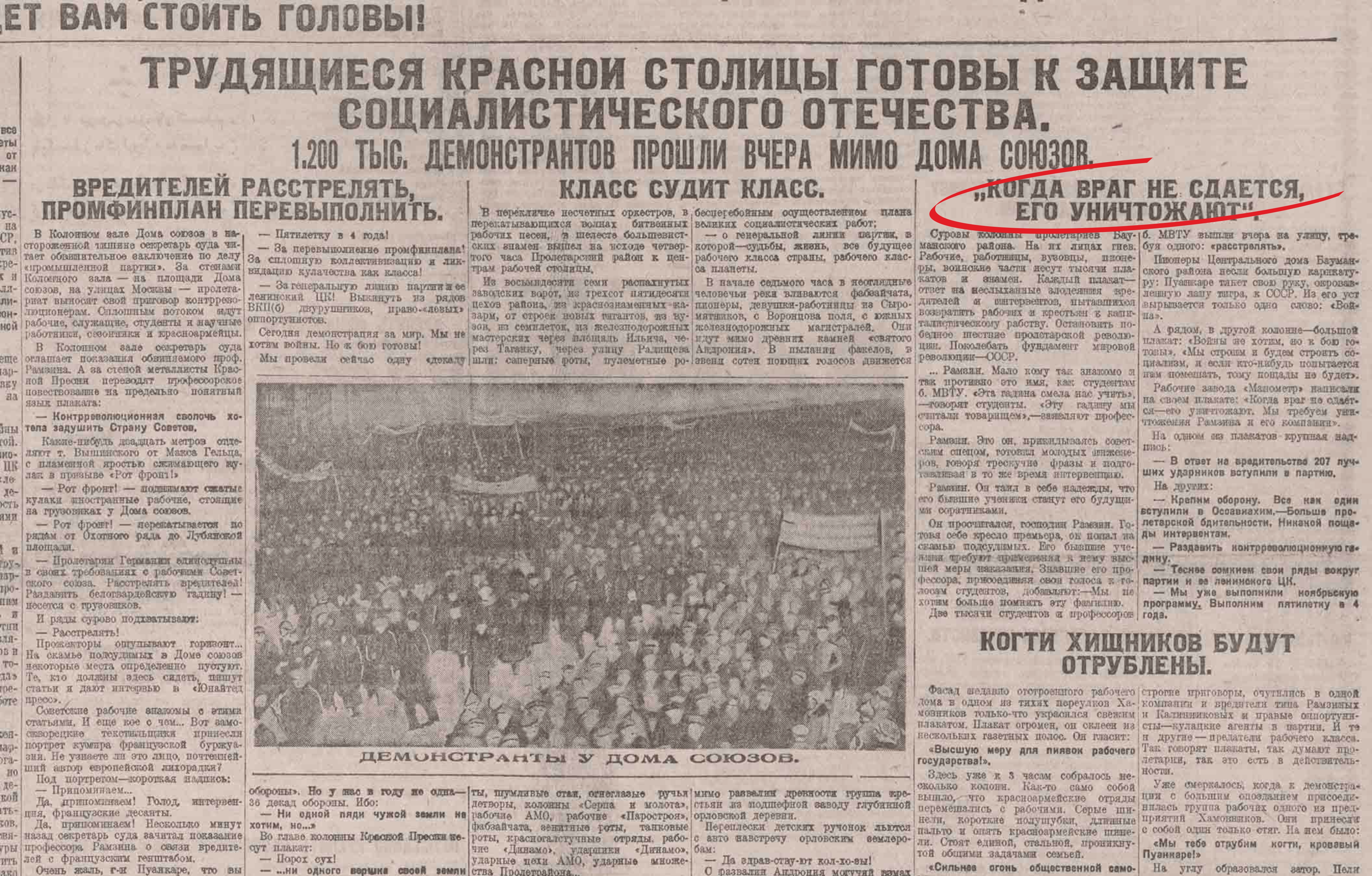
"Правда" 26 ноября 1930 г. Фрагмент первой страницы
В первом номере за 1931-й год журнала «За промышленные кадры» МММИ удостаивается такой похвалы: «Там, где не размагничивается классовая заботливость, там не отыгрываются на "объективных причинах" – недостатке бумаги, средств и т. д. Вот Московский механико-машиностроительный институт им. Баумана. В исторические дни процесса контрреволюционной "промпартии" родилась первая бригада "Наш ответ Рамзину". Бригада вместе с профессором Тихомировым подготовила выпуск задачника по математике, занялась печатанием материалов по прикладной механике и составлением ежедекадника "В помощь активным методам преподавания". Пример бауманцев достоин подражания».
Увы, столь миролюбивыми акциями дело не исчерпывается. «Наличие случаев спецеедства и травли нужных нам специалистов», периодически осуждавшееся партией еще недавно (см. напр. протоколы заседаний Бюро МК ВКП/б/ в январе – феврале 1930 г.) не обошло и Бауманский; партячейка ВММУ начинает, как это назовут позже в Бауманском, «линию на выживание из института старой профессуры».
29 августа 1930 г. Бюро ячейки ВКП(б) ВММУ (Цибарт в это время находится в отпуске) выносит в т.ч. следующую резолюцию: «В силу наличия классово-враждебных элементов во втузе, главным образом, среди профессорско-преподавательского состава (арест органами ОГПУ проф. Рамзина и др. и классовой борьбы) ни в коем случае не ослаблять мобилизованность и бдительности всей парторганизации и отдельных ее членов, ведя решительную борьбу с отдельными антисоветскими вылазками и попытками дискредитации реформы втуза» (ЦГАМ П-158, оп. 1а, д. 3, л. 41).
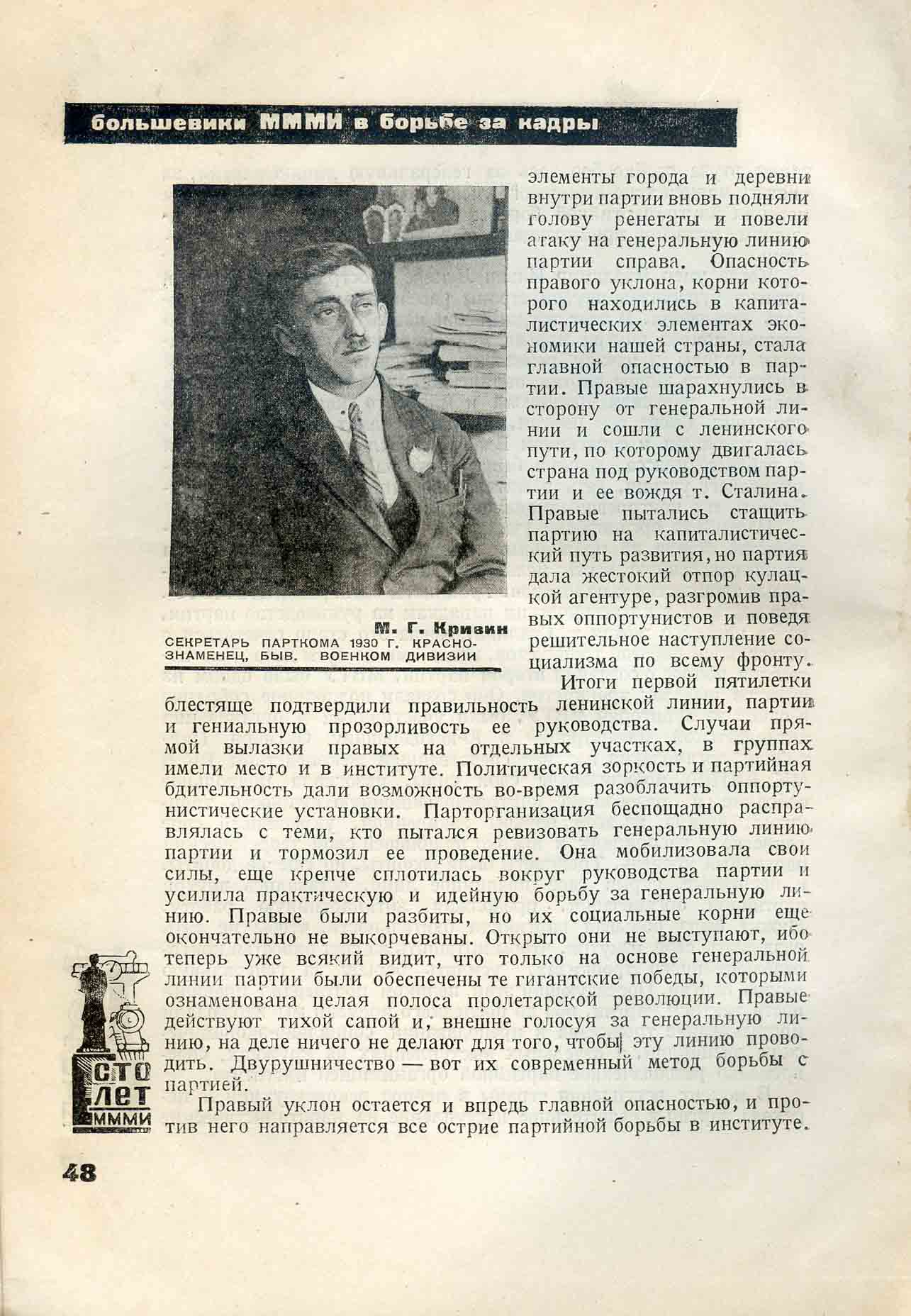
Через две недели после завершения процесса, на 1-й Партконференции МММИ им. Баумана (21/XII.1930) основной доклад делает парторг ВММУ/МММИ – член партии с 1917 г., бывший военком дивизии (см. Юбилейный сборник), парттысячник, досрочно окончивший институт (см. ЗПК 1935 № 19-20) и, по выражению прославленного в будущем партийца-младшекурсника П.М. Зернова, «алмазный большевик» – М.Г. Кривин. Текста доклада в архиве нет – видимо он изъят после того, как в свое время Кривин окажется «врагом народа», – но о его содержании можно судить по стенограмме прений и резолюции. «... Не было достаточно на конференции в прениях освещены главнейшие задачи, – пеняет товарищам Марк Григорьевич. – Очередным звеном, за которое мы должны ухватиться – это вопросы – выкорчевывания вредительства». «Заслушав и обсудив доклад тов. Кривина», конференция выносит резолюцию, и тема вредительства, конечно, в ней ярко отражена. «Конференция одобряя работу бюро ячейки по мобилизации студенчества вокруг процесса "Промпартии" и проведенную на этой основе работу по расслоению профес.-преподавательского состава, а также и мероприятия по разоблачению руководителей "Промпартии" (быв. профес. МВТУ) предлагает парторганизации и впредь не ослаблять большевистскую настороженность решительно ведя борьбу со всеми прямыми и скрытыми антисоветскими проявлениями и нейтральностью со стороны части профес.-преподавательского состава...» «...Из процесса "Промпартии" вытекает как непосредственная задача – работа по разоблачению и выкорчевыванию из всех звеньев учебной жизни элементов вредительства заверстанных вредителями в учебные планы, программы, в оборудование...» «Процесс "Промпартии" показал также, что без идеологического пересмотра всего содержания технических наук, без внедрения в них методов диалектического материализма, подготовка идеологически законченных кадров для социалистической промышленности не только затрудняется, но и дает возможность профессорам типа Чарновского и Ко использовать кафедру в явно "контр.-революц." и идеалистических целях. / Идеологическое перевооружение профессорско-преподавательского состава на Марксистско-Ленинской основе, а главное подготовка кадров для кадров (аспиранты) из коммунистов и пролетариев, расширение их состава и организация большевистскими темпами их подготовки – должно являться одной из основных забот Парткома, Дирекции и СССР.» «Я [Кривин] считаю, что-бы ни одного студента не было без общественной партийной работы.» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 1, лл. 16, 21, 25.)
Однако директор МММИ явно недостаточно «ухватился» за «выкорчевывание вредительства» в среде профессоров бывшего МВТУ–ИМТУ, за натравливание на них политически сознательных студентов, как и за поиск в программах технических дисциплин «заверстанного» в них вредительства и идеализма. Не проявил Цибарт должной активности и в других разбойных начинаниях партии 1929–1930 гг., флагманом которых в МММИ был алмазный большевик Кривин. Неизвестно, как осмыслял свою позицию сам А.А. (в его печатных и дневниковых текстах об этом ничего нет), но факт тот, что, к великой его чести, Цибарт становится объектом преследования Кривина и его сторонников. В 1931-м году (впрочем еще и раньше) команда Кривина активно добивается снятия Цибарта с поста директора МММИ. «1931 год. 27 февраля. Пришла гроза. Наметили перебросить на Магнитку. 27 марта. Засед. актива с участием [представителей райкома] Трофимова и Комарова. Цейтлин, Журавлев, Кривин, Кулаков, Требелев, Наумов, Каплун, Эдельштейн, Шлямберг, Манин – за мое снятие. Все били. Чудо» (Дневник). – «Чудо»: А.А. и не мыслит себя оппозицией...
Когда (в 1933-м году) эта «линия партии» уйдет в прошлое, о ней на парткоме МММИ вспомнят так: «Тов. тов. Маслин, Рабинович, Шаумян и друг. говорили о том, что в Ин-те в 1930-31 гг. была группа во главе с Кривиным и Эдельштейном, которая проводила антипартийную линию на выживание из Ин-та старой профессуры, на раскол студенчества на два лагеря. / В эту группу входили: Дыскин /троцкист/, Шлямберг /бундовец/, Этлин, Журавлев, Юдин, Зернов, Злотников и друг.» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 44, л. 121).
(Сталинизм не был бы сталинизмом, заметим в скобках, если бы и лучшие люди из новой поросли не забывали отмечать, что такой-то их оппонент – «троцкист», а такой-то – «бундовец»...)
Здесь надо уточнить, кого именно в то время имели в виду под «старой профессурой». Точнее всего очертить этот круг можно так: все серьезные преподаватели, оказавшиеся во втузе не в результате его «пролетаризации», а получившие образование и работавшие в училище, других втузах или профессиональных организациях еще до 1917-го года. (Подробнее об этом см. в рубрике «"Профессорско-преподавательский состав": ученые "старые" и "молодые"».)
Эпизоды борьбы партии с ценнейшим «капиталом» училища, его лучшими преподавателями (связанные с Кривиным, Эдельштейном и Шлямбергом) сохранил архив парторганизации Бауманского. Фамилии подвергавшихся преследованию преподавателей, как они напечатаны в стенограммах заседаний парткома – [Арсений Николаевич] Ведерников, Сосновский, Баранов, [Ион Павлович] Ветчинкин, Кан, Шенц, Ненберг [Ненсберг? Нейсберг?], Лев, [Алексей Сергеевич] Бриткин, [Георгий Михайлович] Головин, Алмоев «и др.». В первых двух эпизодах, относящихся к 1931-му году, стенограмм прений на заседаниях парткома в делах нет, только ход заседаний и резолюции (и мы не имеем в распоряжении прямых высказываний Цибарта), однако дирекцию, т.е. Цибарта, в резолюции парткома под председательством Кривина прямо и неоднократно обвиняют в оппортунизме («наиболее опасном уклоне»). Как видно, команде Кривина во что бы то ни стало надо было обнаружить в МММИ вредителей, а заодно и оппортунистов... Третий эпизод, с Эдельштейном, Шлямбергом и др., где в материалах сохранилось и выступление Цибарта, зафиксирован уже в «пореформенном» 1933-м году (о нем см. в рубрике «Первый год реформ в Бауманском...»).
|
На Бюро парткома МММИ 26 февраля 1931-го года (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 7, л. 19) разбирают «вылазку классового врага» – преподавателей, принявших зачеты у каких-то слабых, по оценке парткома, групп. Видимо, поскольку в слабых группах концентрировались наиболее агрессивные и подозрительные «закаленные пролетарии», а рассчитывать на их реальные успехи в учебе все равно не приходилось, преподаватели и посчитали за лучшее выставить им удовлетворительные оценки. Поступать иначе было и опасно – тут можно вспомнить описанный выше случай с доцентом МММИ В.В. Уваровым, выставившим группе неуды и не лишившимся работы лишь благодаря заступничеству старосты группы, парттысячника В.А. Малышева. Однако такая практика уже была замечена и осуждена партийной общественностью в 1930-м году («механическое штампование зачетов квалифицировать, как академическое вредительство», – ЗПК 1930 № 2–3). Под этим иезуитским предлогом партийные активисты под водительством Кривина начинают против «вредителей»-преподавателей кампанию. Цибарт же, хоть и не называется по имени, – «оппортунист», ему, как «представителю администрации», грозят какой-то партийной ответственностью... «Протокол заседания Бюро парткома 26/II-1931 г. Во втором эпизоде отражена борьба «Секции научных работников» Бауманского (в этой секции большинство работников было членами ВКП/б/) «с классово-чуждыми и реакционными проявлениями в среде научных работников /дело преподавателей Ведерникова, Сосновского, Баранова, Ветчинкина, Кана и др./» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 7, л. 85. Дата от руки 30/VII-1931 г. «К засед. Бюро парткома 27/VII-1931 г.»). «РЕЗОЛЮЦИЯ. Чем конкретно завершилась для этих преподавателей «решительная борьба» с ними научных работников из СНР – нам проследить слишком трудно. (Уже после ухода Кривина из МММИ, 6 сентября 1931 г., врио директора МММИ Воскресенский, секретарь парткома Журавлев и предс. профкома Миронцев ходатайствуют перед Сектором кадров ВСНХ СССР о возврате в Бауманский И.П. Ветчинкина – преподаватели Ненсберг и Алмоев нашли работу в другом месте. Эпизод с участием Эдельштейна (из списка проводивших «линию на выживание» в нем фигурирует еще Дыскин), завершившийся уходом проф. Головина – подробно изложен в рубрике «Первый год реформ в Бауманском...».
К этим эпизодам можно также добавить дело институтского преподавателя станкостроения В. Крицмана, члена ВКП(б) с 1917 года. (В этот раз дело для «оппортуниста» каким-то образом обошлось: в 1933 г. Виктор Натанович Крицман – зам. нач. Главмашпрома НКТП. Последняя его должность – нач. «Гипроавио» НК оборонной промышленности СССР. Расстрелян в 1938 г., примерно через месяц после самого́ М.Г. Кривина /см. сайт «Мемориал»*/.) |
«Линия» Кривина превратилась из сугубо партийной в антипартийную 23 июня 1931-го года.
В этот день открытая война со старыми специалистами-инженерами снимается с партийной повестки. Если в феврале 1931 г. Сталин еще делает из затеянных им «Шахтинского дела» и «процесса Промпартии» тот вывод, что «надо отбросить старый лозунг, отживший лозунг о невмешательстве в технику, и стать самим специалистами, знатоками дела, стать самим полными хозяевами хозяйственного дела» («дело это, конечно, не легкое, но вполне преодолимое. Наука, технический опыт, знания – все это дело наживное. Сегодня нет их, а завтра будут» и т.д.), – то к лету одумывается и вождь. В своей речи на совещании хозяйственников (23 июня 1931 г.) Сталин объявляет, что «само поведение активных вредителей на известном судебном процессе в Москве должно было развенчать и действительно развенчало идею вредительства», а потому «даже определенные вчерашние вредители, значительная часть вчерашних вредителей начинает работать на ряде заводов и фабрик заодно с рабочим классом, – этот факт с несомненностью говорит о том, что поворот среди старой технической интеллигенции уже начался». Никто не должен подумать, спохватывается вождь, что на этом охота ОГПУ на людей вообще закончится: «...это не значит, конечно, что у нас нет больше вредителей. Нет, не значит. Вредители есть и будут, пока есть у нас классы...». А «уничтожение классов, – как учил он же на XVII-й партконференции, – достигается не путем потухания классовой борьбы, а путем ее усиления». Но все-таки «изменить отношение к инженерно-техническим силам старой школы, проявлять к ним побольше внимания и заботы, смелее привлекать их к работе – такова задача». Проще говоря, террор – сам по себе, использование специалистов – само по себе. Эта речь Сталина (как, понятно, и все другие) прорабатывалась на партактиве МММИ и взята институтом на вооружение (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 5, л. 43, приказ Цибарта): «...основные принципиальные установки, которыми надлежит руководствоваться при составлении очередного плана работ в летнем тр<имест>ре 31 года следующие: а) речь тов. Сталина на совещании хозяйственников от 5/VII-31 г. [дата опубликования?] "Новая обстановка – новые задачи хозяйственного строительства"...».
Казалось бы, все, что нужно для «привлечения к работе» творческих людей – это не мешать им работать, – но именно это и составляло по тем временам труднейшую и опаснейшую задачу для администрации.
Неизвестно, произошло ли следующее в результате победы «линии» Цибарта или по другим причинам, но, к счастью для Цибарта и МММИ, 30 июня 1931-го года Кривин уже не парторг – он уходит из МММИ (в Комиссию Советского контроля при СНК СССР). 30-го января нового, 1932-го года из уст Молотова на XVII-й конференции ВКП(б) снова прозвучат отрезвляющие слова – ленинская цитата: «Коммунист, не доказавший своего умения объединять и скромно направлять работу специалистов, входя в суть дела, изучая его детально, такой коммунист часто вреден. Таких коммунистов у нас много, и я бы их отдал дюжинами за одного добросовестно изучающего свое дело и знающего буржуазного спеца». А с 19 сентября 1932-го года позиции кривинской «дюжины коммунистов» в МММИ подрываются еще и тем, что все другие партийные установки, вкупе с травлей специалистов – сокращение сроков обучения, бригадный метод обучения, узкая специализация, непрерывная работа студентов на предприятиях, «общественная работа» вместо учебы и т.п. – осуждаются и отменяются самой властью. Кривин, Зернов и другие возобновят открытую войну с Цибартом лишь в 1937-м году (но об этом в своем месте).
...Вряд ли А.А. препятствовал «спецеедской» линии Кривина именно как линии партии – скорее, он заслужил опасное обвинение в «оппортунизме» только потому, что, в отличие от парттысячника Кривина и его сторонников, не мог не ценить профессионалов. В 1933-м году, когда линия партии по отношению к ученым развернулась едва ли не на 180 градусов, на партчистке Бауманского он удостаивается такой похвалы: «Тов. ШЕВЯКОВ: тов. ЦИБАРТУ пришлось перестраивать ВТУЗ в период вскрытия вредительства. Тов. Цибарту пришлось вести классовую борьбу с враждебными директивам направлениями среди части профессорско-преподавательского состава и части студенчества. И тов. ЦИБАРТ хорошо провел работу по осуществлению парт. директив, тесно увязывая свою работу как директора с парторганизацией» (ЦГАМ ф. П-84, оп. 1а, ед. хр. 208, л. 1об). Слова эти явно были адресованы кривинским сторонникам в институте – теперь, в соответствии с актуальной версией генеральной линии, об «оппортунизме» Цибарта в 1931-м году им придется забыть. Цибарт «вел классовую борьбу» правильно и в полном согласии с парторганизацией. Последнее скорее реабилитирует парторганизацию.
В Юбилейном сборнике МММИ 1933 года можно найти такие строки директора Цибарта: «"Ректор" МВТУ Калинников, профессор-металлург Чарновский, теплотехник Рамзин – все они в разных формах, под разными масками вели в училище одну и ту же работу – дать неполноценного специалиста, изолировать его от связи с производством, а профессорские кадры сплотить под флагом автономии втуза и противопоставить их советскому правительству» и т.д. ...
Однако судить по подобного рода цитатам (впрочем не столь и агрессивным) о подлинной роли их автора в тех ужасных событиях, как и о его собственном отношении к упоминаемым ученым, мог бы только совершенно неискушенный в советско-сталинских реалиях человек. Будем милосердны и не станем приводить здесь цитат других авторов – профессоров ИМТУ–МВТУ–МММИ... Настоящий посыл всех подобных высказываний в адрес репрессированных ученых, безусловно, следующий: «с "вредителями" покончено – их больше в институте нет»... Станем же судить по плодам. Основной профессорский состав ИМТУ был в МММИ сохранен, и главная заслуга в этом принадлежала – не могла не принадлежать – директору МММИ А.А. Цибарту.
Место А.А. Цибарта в истории нынешнего Технического университета определяется тем, что в результате его деятельности втуз-наследник разгромленного ИМТУ–МВТУ не только максимально сохранил свой профессиональный уровень – что, учитывая также все прочие губительные акции ВКП(б) 1928–1932 гг., такие как травля старых профессоров и т.п., было настоящим подвигом, – но и вскоре от своего основания был признан лучшим в стране, сохранил и укрепил свое лидерство после спасительных реформ Кржижановского 19 сентября 1932 года, и остается авторитетнейшим в стране спустя век. Само именование «Бауманский», родившееся с подачи Цибарта, не случайно сумело пережить советскую эпоху. МГТУ имени Баумана – это тот самый, родившися на развалинах ИМТУ–МВТУ, «цибартовский» МММИ.
Феномен Цибарта не в том, что директор втуза практически никак не проявился в профессиональной области, а в том, каким образом «красный директор», назначенный по инициативе беспощадного ликвидатора МВТУ Мостовенко, сумел сохранить остаток Училища как лучший отечественный втуз.
Меж тем миссия Цибарта в Училище как «представителя ЦК партии» (о чем ему напомнили еще в 1930-м году) дает почву самым поверхностным суждениям. Даже И.Л. Волчкевич, при его весьма положительных оценках роли Цибарта в судьбе заведения, роняет пренебрежительное замечание: «ни малейшим авторитетом среди профессоров директор никогда не пользовался» (см. Сословие...). Замечание это попадает, что называется, «пальцем в небо». Каким именно авторитетом? научным? административным?.. – До 1936-го года вопрос о собственно научном авторитете спускаемых «сверху» директоров вообще не стоял, многие из них не имели и достаточного образования. Работа Цибарта в МММИ (с 1936-го года) в качестве ассистента-преподавателя физики и математики – конечно, еще не достаточный авторитет как ученого, хоть и выгодно смотрится на тогдашнем общем фоне. Однако вуз (как показывает пример директора ИМТУ, «реакционнейшего чиновника» И.В. Аристова) может процветать и при руководителе – «чистом» администраторе. Также и в этом аспекте Волчкевичу следовало бы проявить больше понимания ситуации. Ведь, что до признания профессорами достоинств Цибарта как администратора, то, от его вступления в должность декана мехфака и вплоть до начала «оттепели» с 19 сентября 1932-го года, а это без малого три года, любые решения администрации могли быть с профессиональной точки зрения либо плохими, либо очень плохими! Причем плохими оставались и лучшие из возможных. Но только такие решения и могли спасти вуз.
Тот факт, что действия Цибарта всегда были именно лучшими из возможных, как до, так и после 19 сентября 1932-го года, и оказались спасительными – убедительно доказало время.
* * *
...Уверенности, что назначен во втуз надолго, у А.А. нет. С самого начала своей работы в нем, уже в 1930-м году он просит провидение («Природу») хотя бы о нескольких годах. А желание остаться именно здесь великое: в числе прочего, просыпается надежда на возможность заняться собственной научной работой, – что удастся осуществить лишь отчасти.
Заглядывая в финал, можно подсчитать, что А.А. Цибарт руководил коллективом, от своего назначения деканом механического факультета МВТУ 29 января 1930-го до ареста 14 декабря 1937 года фактически полных восемь лет. Так получилось, что изо всех ректоров втуза за полвека с 1914-го по 1964-й год А.А. Цибарт руководил долее всех. Одно это обстоятельство привлекает внимание к его персоне. И сколь бы сомнительным ни выглядело назначение партдеятеля руководителем прославленного учебного заведения (что было в порядке вещей) – в пользу директорства Цибарта говорит, как минимум, тот факт, что после него, в период с 1938 по 1941 год в МММИ сменилось пять директоров, и специальная комиссия (см. Волчкевич) была вынуждена просить Главное управление учебными заведениями НКТП о назначении ректора – т.е. с устранением Цибарта работа института была явно дезорганизована. Именно Цибарт вывел заведение из состояния административной катастрофы (разделения), как затем и последствий «пролетаризации», и справился с этими задачами, объективно говоря, блестяще. В юбилейном издании 2005-го года (см. Федоров, Павлихин) период директорства Цибарта описывается в рубрике «Становление МММИ им. Н.Э. Баумана как ведущего политехнического вуза СССР». При Цибарте Бауманский получит свой первый орден, звание лучшего втуза Советского Союза, проведет первые научные конференции...
Слова авторов Юбилейного сборника МВТУ – МММИ «анализируя рост и работу МММИ с 1930 г., нельзя не отметить активной роли директора МММИ – тов. Цибарта, который своей деятельностью содействовал росту и развитию МММИ», «быстрые темпы и высокое качество работы вновь созданных лабораторий были обеспечены неослабным и постоянным вниманием и помощью со стороны нашей партийной организации и дирекции в лице т. Цибарта» были только объективными. «Не являясь известным ученым, А.А. Цибарт обладал незаурядными организаторскими способностями, хорошо ориентировался в основных проблемах высшей школы и представлял себе ее перспективы» (см. Анцупова, Павлихин). В «Очерках по истории МВТУ» И.Л. Волчкевича 1930–1937-е годы характеризуются как «период бурного роста и развития» института, а относительно «социалистического директора» и «человека без высшего образования» (как его называет автор) А.А. Цибарта в частности говорится: «тем не менее, заведению <МВТУ – МММИ> в очередной раз повезло с директором. Адольф Августович Цибарт отличался незаурядной энергией, прекрасными организаторскими способностями и безусловно был большим патриотом своего вуза, пусть даже изменившего название. За шесть [неточность: почти восемь] лет его руководства произошло не только резкое увеличение количества выпускавшихся инженеров, но и постоянно велась борьба за качество образования, что отличает этот период от предыдущего, когда главной целью признавалась пролетаризация».
Что до адекватности нового директора своему месту. Тут важно вжиться в тогдашнюю ситуацию, «историческое мышление» необходимо. Характерно, как между собой, и в тогдашнем профессорско-преподавательском и в партийном обиходе, именовали директора вуза: «хозяин», – нечто большее, чем начальник, но меньшее, чем руководитель; действительно, руководителем вуза можно было бы называть только признанного специалиста. А занимать подобную должность звучало в партийных органах как «сидеть» – быть «государевым» (ВКП/б/) наместником. – Не имел завершенного технического образования (если оно вообще было техническим, а не медицинским – см. Волчкевич, Сословие...) и уж тем более инженерной практики предшественник Цибарта на должности директора заведения, посланный в МВТУ с миссией его ликвидации старый большевик П.Н. Мостовенко. Не был сколько-нибудь заметным профессионалом в своей области также ни один из назначенных Мостовенко «красных деканов» МВТУ, директоров новых училищ, во всяком случае в литературе никаких сведений о них в этом качестве нет. (Считал себя, впрочем, специалистом 30-летний директор ВХТУ Я.Л. Авиновицкий – окончивший до революции педагогические курсы и в 1922-м году химические курсы усовершенствования командного состава, комиссаром которых в то время сам и являлся, а через год 2 курса экономического факультета Института им. К. Маркса. Серьезного химического образования он не имел, но имел партийные заслуги как военачальник РККА; косвенно его масштаб как большевика можно оценить по тому, что в 1938-м году он был расстрелян.) Случай Цибарта в этом смысле типичен, а может быть (если считать высшее техническое образование А.А. законченным) и относится к лучшей половине всех случаев.
Так, к концу 1933-го года Главное управление учебных заведений НКТП приводит следующие подсчеты («За промышленные кадры» 1933 №11, стр. 7): «Среди 118 директоров втузов мы имеем около 70% товарищей, вошедших в партию до 1921 г. [Т.е. беспартийных не было вовсе.] Около 50% директоров являются кадровыми рабочими. Однако не так спокойно обстоит дело, когда мы пересматриваем общую и специальную подготовку их. Работников, имеющих специальное высшее образование (притом не всегда совпадающее со специальностью данного учебного заведения), мы имеем всего лишь 67 чел.; значительная часть высшего образования не имеет вообще». И в 1934-м году (1934, № 2): «Среди директоров наших втузов 96,4% членов партии, в том числе 70% вступивших в партию до 1921 г. / Специальное образование имеют 62% директоров, 20% директоров не имеют высшего образования вообще»...
Можно также оценить адекватность Цибарта своей должности и по такому косвенному фактору: по подсчетам того же источника, в Московском энергетическом институте за три последних, концу 1933-го, года сменились 6 директоров, в Московском авиационном – 9, и это было обычной картиной для втузов; также на тот момент не было «ни одного человека, который был бы директором данного втуза свыше 5 лет». О том, что после 8 лет работы и ареста Цибарта в 1937-м году за три последующие года в МММИ сменятся аж пять директоров, мы уже говорили.
Крупный специалист в должности крупного руководителя в своей области – это как будто идеал. На практике, как слишком хорошо известно, такое совместительство не остается без ущерба либо для собственной профессиональной деятельности руководителя, либо для его деятельности административной. Как видно, модель управления творческим заведением, при которой его руководитель является достаточно квалифицированным и, так сказать, преданным профессионалом, но посвящает себя почти исключительно администрированию, оказалась в данном случае высоко эффективной.
Идеал совмещения в одном лице профессионала и администратора воплощали в ИМТУ, в частности, его последние директора А.П. Гавриленко и В.И. Гриневецкий. А есть и пример «чистого» администратора, фактически чиновника, значение которого в истории достижений ИМТУ также оказалось замечательно велико́, – это И.В. Аристов. И.Л. Волчкевич в своих «Очерках истории МГТУ» посвящает эпохе Аристова несколько страниц. Но вот что непременно следует добавить к этой аналогии администраторства Аристова и Цибарта. Если первый руководил Училищем в нормальных рабочих условиях (насколько они вообще бывают нормальными), то Цибарт и принял заведение в момент его катастрофы, и вел его, вплоть до своего ареста, в обстановке практически непрерывного смертельного шторма. |
«В 1930 г. в МВТУ осталось менее половины работавших до этого профессоров и преподавателей. Возникла опасность, что, потеряв значительную часть ученых, МММИ надолго остановится в своем развитии. Но этого не случилось. МММИ, призванный готовить инженерно-технические кадры для советского машиностроения, стал одним из крупнейших втузов страны и в короткое время занял ведущее место среди них» (см.: МВТУ им. Баумана 125 лет; также Нистратов и др.). Председатель Комитета по высшей технической школе ЦИК СССР Г.М. Кржижановский «не раз говорил, что "Бауманский втуз, все те 16 втузов, которые мы считаем опорными... это единственная опора для нашего движения вперед"» (цит. по кн.: МВТУ им. Н.Э. Баумана. 1830–1980). Официально признанные успехи недавнего «осколка МВТУ» (по выражению самого А.А.) были впечатляющими, о главных их них речь пойдет далее. Для нас же самое важное состоит в том, что возможности для творчества в МММИ времен А.А. Цибарта, а значит и его взаимоотношения с потенциальными «классовыми врагами» – дореволюционным профессорско-преподавательским составом – действительно должны были быть максимально (по тем условиям) благоприятными, ведь только это и могло стать настоящим фундаментом успеха. Именно Цибарт, как мы видели (см. рубрику о деле Промпартии) противостоял в начале существования Бауманского партийному курсу на изгнание старых профессоров ИМТУ из института. «МММИ в это время от других вузов отличался высококвалифицированными кадрами, хорошей постановкой педагогического процесса, широтой и глубиной проводимой научно-исследовательской работы. Здесь было удобно централизовывать методическую документацию, использовать лучшие силы педагогического состава для обобщения передового опыта и распространения его на другие учебные заведения» (см.: МВТУ им. Н.Э. Баумана. 1830–1980). В обширной литературе по биографиям ученых, работавшим в институте, историям институтских кафедр и пр. нет, кажется, ни одного свидетельства о том, чтобы кто-либо из «высококвалифицированных кадров» (в частности старых профессоров) подвергался в этот период по инициативе директора (не парткома) каким-либо притеснениям на политической почве. Изначальное благоговение А.А. перед «лучшим втузом» и наукой сыграло, очевидно, определяющую роль в его администрировании. Оно же и заводило А.А. в некое глухое противостояние партийным активистам в институте, закончившееся для него трагически.
* * *
Здесь нужно оговориться, что освещение таких тем, как создание факультетов и специальностей, появление научных трудов преподавателей, вообще всей профессиональной стороны дела не входит в задачи настоящего очерка, да и не в компетенции автора. Сжатое и емкое изложение профессиональной истории ВММУ/МММИ во время директорства Цибарта (без упоминания его имени и весьма небрежное в других отношениях) можно найти, например, в книге В.И. Прокофьева «Московское высшее техническое училище. 125 лет», или процитированном выше коллективном труде «Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана. 1830–1980», изданном к 150-летнему юбилею вуза (то и другое см. на этом сайте), в книгах Л.И. и И.Л. Волчкевичей и др. Набор и подача приводимых здесь сведений определяется в основном интересом персонально к А.А. и носит по отношению к научно-инженерной истории втуза скорее случайный, отрывочный характер. Особо важны для нас его собственные свидетельства. Сам А.А. Цибарт рассказывал о жизни института, о преобразованиях в нем и организации учебы, в частности, в докладе на 6 пленуме ЦК ВЛКСМ, изданном в брошюре «Овладеть наукой»; в юбилейном сборнике «Сто лет МММИ им. Баумана»; статьях в журналах «За промышленные кадры», «Фронт науки и техники», «Советское студенчество», в газете «Известия» и др. Разумеется, все планы и достижения института представлены в них как воплощения очередных указаний партии, в главном так оно и было, но реальная жизнь и кое-где черты личности директора в них проглядываются. – Эта деятельность нашла свое отражение в Бюллетенях Всесоюзного комитета по высшему техническому образованию при ЦИК СССР, газетах «Техника», «За индустриализацию», «За коммунистическое просвещение» и др., брошюре «Лучший втуз Советского союза» (написанной явно не без участия самого Цибарта), газете МММИ «Ударник» и других институтских изданиях, и др. Эти источники, как хорошо знакомые Цибарту, вместе с его статьями, письмами, деловыми распоряжениями, дневниками и выступлениями на партсобраниях ВММУ/МММИ им. Баумана и яляются здесь основными. – Особое значение для передачи колорита времени и разъяснения происходившего имеют протоколы заседаний парткома ВММУ/МММИ, а также ведомственные журналы (вроде «За промышленные кадры»), много более откровенные, чем широкая печать.
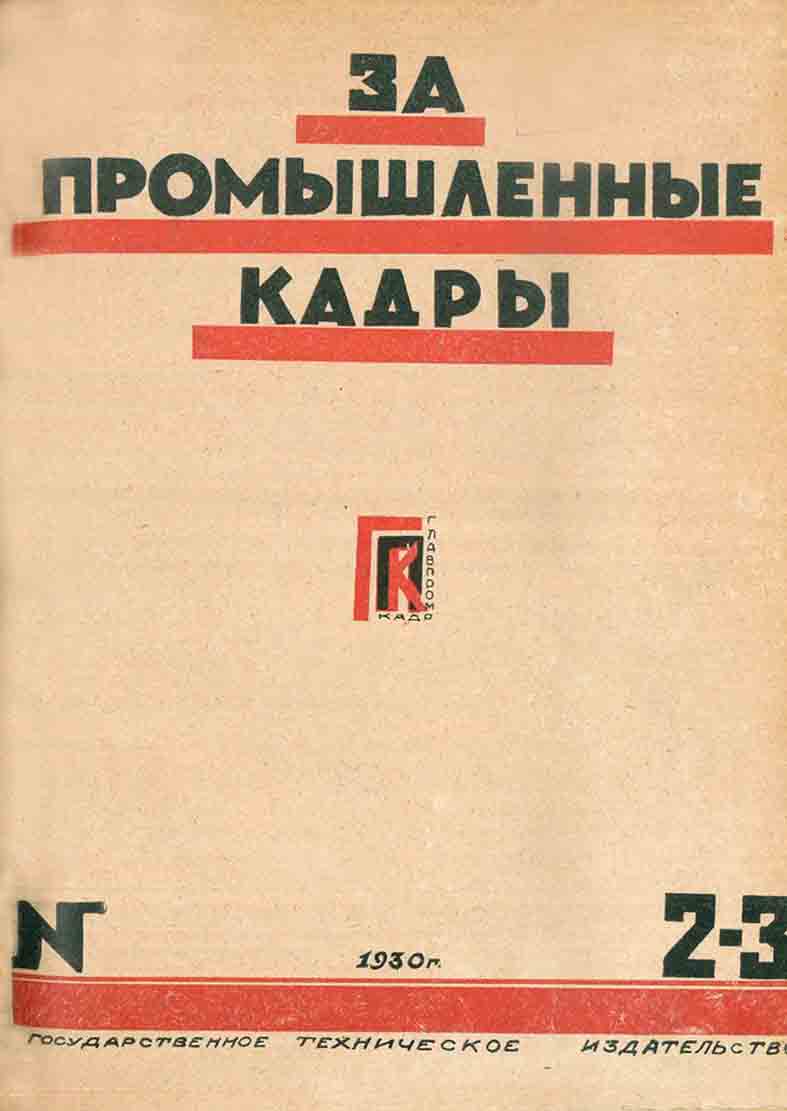
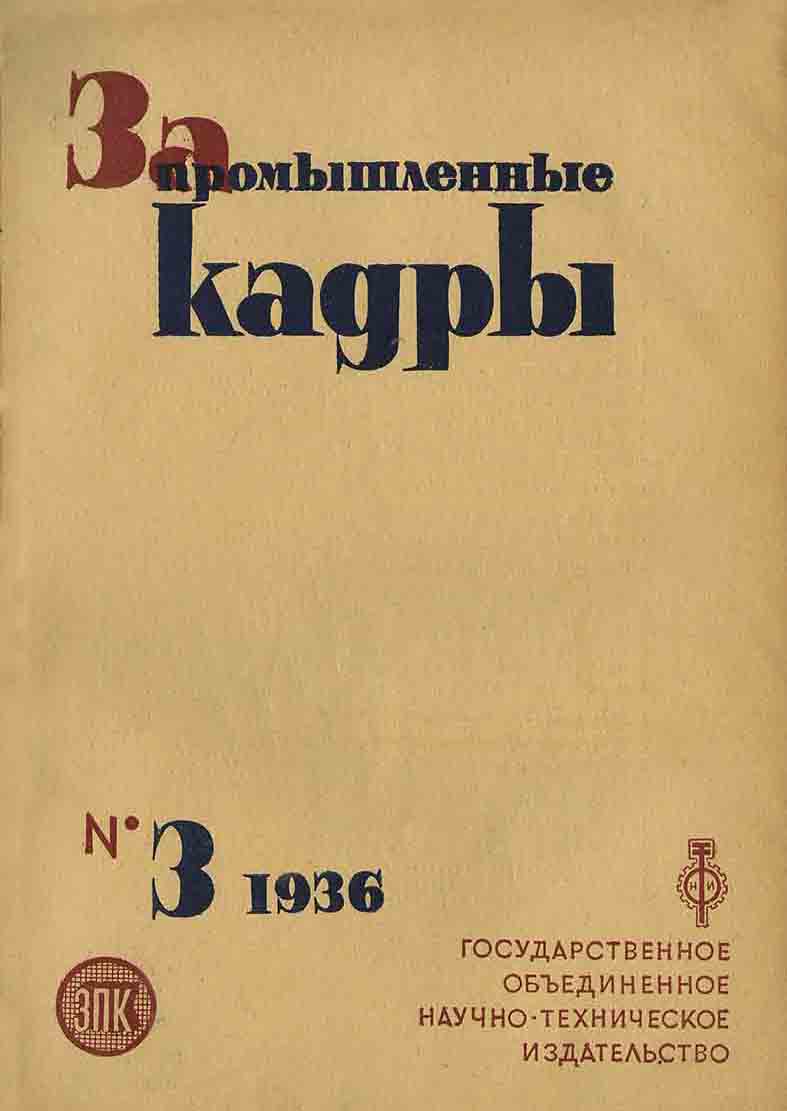
«Эти реформы проводятся с целью облегчения и ускорения прохождения студентом курса втуза
и скорейшего обеспечения промышленности
достаточным количеством новых и притом классово своих инженерно-технических сил»
М. Акимов. МВТУ после Октября. В книге «100 лет МММИ им. Баумана»
«...Реакционная часть профессуры остерегается вслух высказывать свое "кредо".
Она, по выражению "Пролетария на учебе" (органа пяти втузов, возникших на базе МВТУ), "ушла в подполье"
и уже оттуда ведет тихую сапу против реформы высшей школы»
В. Гохенберг. Журнал «За промышленные кадры» 1930 № 1 (октябрь)
«Среди членов нашей организации имеется болезненное явление,
когда спрашиваешь почему ты так пассивен к вопросу парт-жизни,
так он говорит я боюсь, как бы не остаться в правой или в левой оппозиции ...
Имея такие настроения очень вредные для организации надо будет по ним ударить»
Тов. Пчелкин. Партактив ячейки ВКП(б) ВММУ 5 июля 30 г.
Заданный курс: что Цибарт принял в наследство
Итак. Уже в период 1930–1932 гг. резко увеличивается число выпускаемых институтом специалистов (в 1930-м г. в нем обучалось 1300, в 1932-м – 4600 студентов, включая вечерников; см.: Лещинер, Цибарт). Это замечательное достижение (если забыть о том, каким образом надлежало тогда подбирать контингент новых студентов). Однако почти до конца 1932 года институт еще вынужден идти, согласно директивам ВКП(б), по пути революционного сумасбродства.
И.Л. Волчкевич (в очерке «Н.Э. Бауман») пишет: «В соответствии с директивами необходимо было существенно уменьшить сроки обучения, при этом половину времени – отвести на непрерывную производственную практику. Основным "врагом" дела построения нового вуза были объявлены лекции и экзамены (формально уже запрещенные раньше), основной формой обучения, наряду с производственной практикой, объявили групповую проработку материала. ... Вместо семестровой системы организации занятий вводилась триместровая. Главной целью этого мероприятия было сокращение сроков обучения: кроме общего уменьшения числа предметов преподаватели должны были укладывать свои курсы в меньшие календарные сроки. ... Начало существования нового Училища не было мирным. Профессора и преподаватели, втайне полагавшие, что "эта вакханалия должна пройти" и "нам надо ждать", пытались вести преподавание по прежним методикам, а партийная организация была мобилизована на борьбу с ними...» «Сокращение же теоретического обучения не было собственной инициативой или прихотью администрации ВММУ: такова была цель реформы высшего образования, призванной готовить узкого специалиста для конкретной исполнительской деятельности». Трудно сказать, в какой мере старые профессора связывали эту губительную линию партии с ролью Цибарта в управлении втузом (да и началась эта линия вовсе не с него, как может показаться из текста цитаты), но из сохранившихся в архиве ФСБ свидетельств видно, что «сознательная» партийная общественность втуза осталась его деятельностью весьма недовольна. Об этом важном нюансе речь еще пойдет дальше.
Даже и в этот исключительно тяжелый для училища период, в нем «постоянно велась борьба за качество образования, что отличает этот период от предыдущего, когда главной целью признавалась пролетаризация» (см. Волчкевич, Соцсоревнование).
Нам здесь, конечно, хотелось бы быть щепетильнее в отношении роли Цибарта в описанных горе-преобразованиях. Все они вводились не в ВММУ, учрежденном только 20 марта 1930-го года на базе мехфака МВТУ, а еще в само́м бывшем МВТУ, с 1929-го года и раньше. «После передачи училища [из ведения Наркомпроса] в ведение ВСНХ в 1929 г. вводится специализация с 1 курса, почти целиком отменяются лекции, вводится семинарско-групповой метод занятий, отменяются дипломные работы, вводится с 1 курса НПП, устанавливается соотношение теории практики 1:1, твердые сроки пребывания во втузе (4 года), и обязательность посещения студентами всех занятий» (В. Николаев. К столетию головного машиностроительного втуза. / За промышленные кадры 1933 № 10).
Документов канцелярии МВТУ за последнее время его существования, в которых можно было бы найти прямые указы руководства МВТУ на этот счет, видимо не сохранилось (их нет в ЦГАМ). Но начиная с февраля 1930 года – Цибарт назначен деканом механического факультета МВТУ 29-го января – некоторые распоряжения руководства МВТУ попадают в частично сохранившийся архив канцелярии деканата (и затем ВММУ–МММИ). Это:
|
– Специализация с первого курса в ущерб фундаментальным теоретическим дисциплинам. Новые программы готовились в МВТУ с боем. Во время, когда Цибарт был только деканом факультета, зам. директора МВТУ Злотников пеняет на недостаточную активность преподавателей в этом направлении: «не всеми программами выдержаны и отражены основные установки перестройки ВТУЗ"а (производственное обучение, специализация и т. д.)» (ЦГАМ Ф. Р-1992, оп. 4, д. 1, л. 37); на ректорском совещании «единодушно осуждено безразличное отношение проф.-преподавательского состава к выработке и проработке новых учебных планов и программы» (см. Пролетарий на учебе). Профессор МММИ Мазинг относит реформу МВТУ (упоминая в этой связи также производственное обучение и специализацию «с уничтожением прежней энциклопедичности») к 1928/1929 годам (более полную цитату см. ниже). – «Непрерывная производственная практика», по существу обычная работа студентов на «промфинплан предприятий» в учебное время. Еще июльским пленумом 1928 года предусмотрено было «поставить производственную практику сроком не менее 10 месяцев», сделать ее непрерывной и подчинить предприятиям, а ноябрьским пленумом 1929-го и постановлением ЦИК и СНК от 13 января 1930 года (Цибарт, напомним, появился в МВТУ 29 января) требуемые сроки «непрерывного производственного обучения» доведены до 40-50% учебного времени. МВТУ с этим не тянуло: о производственном обучении «в связи с перестройкой втуза» говорится и в цитированном приказе зам. директора МВТУ Злотникова. В резолюции партконференции МВТУ 11-го марта 1930-го года провозглашалось: «Производственное обучение уничтожившее длительный отрыв пролетарского студенчества от производства должно быть теснейшим образом увязано с центральной политической задачей партии осуществлением пятилетки в четыре года. Пролетарское студенчество, работающее на заводах несет наравне со всеми рабочими предприятия полную ответственность за выполнение промфинплана. Активная борьба за промфинплан должна быть превращена в стержень всей вневтузовской общественной работы студенчества» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 1, л. 6). Задача хоть в какой-то степени увязать эту борьбу за промфинплан с учебными программами ляжет в ВММУ на плечи Цибарта (об этом см. далее)... – Абсурдный «семинарско-групповой» метод обучения или иначе «активные методы преподавания» со «сведением лекций к минимуму» и запретом индивидуальных экзаменов. (Сей метод, разумеется, насаждался ВКП/б/ во всех вузах, в частности в МГУ.) В МВТУ борются даже с зачетами. 7 февраля 1930-го года другой зам. (и.о.) ректора МВТУ, хозяйственник Цвилинг в своем приказе по училищу пишет: «Проводимая на основе директив партии и правительства перестройка МВТУ тесно связана с активизацией методов преподавания. Осуществляемые в этом направлении мероприятия требуют соответствующего изменения способов оценки успеваемости. ... В соответствии с этим: 1. Действовавшая до настоящего времени система зачетов, являющихся по существу индивидуальным [слово индивидуальным зачеркнуто двойной красной линией, видимо как слишком откровенное] экзаменом, со всеми вытекающими отсюда недостатками – отменяется и проведение зачетов по старой системе, за исключением случаев предусмотренных ниже – воспрещается...» (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 1, л. 4). – Отмена дипломного проектирования (см. напр. Акимов). В своем приказе от 8 февраля 1930 г. (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 1, л. 5) Цвилинг еще продолжает искоренять «синтетические» (видимо, подобие дипломных) работы. А также, чуть позже (см. Пролетарий на учебе 1.03.1930), на ректорском совещании признается необязательным представление печатных научных работ для зачисления в аспирантуру. – Разумеется, это безумная «пролетаризация» и ее апофеоз, начавшееся с 1929-го года массовое внедрение на учебу (псевдоучебу) во втуз, без прохождения и рабфака, невежественных и агрессивных парт- и профтысячников. – Такой страшный удар по образованию во втузе, как сокращение срока обучения с 5 до 4-х лет. Он был нанесен теми же ноябрьским 1929 г. пленумом и постановлением ЦИК и СНК от 13 января 1930 года. На программы трех- или максимум четырехгодичного обучения всем втузам надлежало перейти не позднее начала 1930/1931 учебного года, и работа МВТУ в этом направлении не могла не вестись; существовал некий «переходный учебный план». В приказе от 5 февраля 1930-го года Цвилинг требует от декана Цибарта ускорить прохождение предметов на факультете (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 1, л. 2): «Отмечаю следующие недопустимые явления в деле выполнения учебного плана 4-го курса Механического ф-та по специальностям «Холодная обработка» и «Точная механика». / 1. Ряд курсов, которые должны быть закончены, согласно переходного учебного плана в декабре 29 г. и январе 30 г. до сих пор не закончены проработкой...». О «необходимости ускорения выпуска студентов» говорится и в приказе от 8 февраля. Кстати – триместры вместо семестров, отвечающие сокращенному сроку обучения, в МВТУ уже существуют. В заключительном слове последней партконференции МВТУ 11 марта 1930-го года новым втузам дается напутствие: «М.В.Т.У. выпускало инженеров через 9-10 лет из своих стен. Мы будем уверены, что наши новые ВТУЗ"ы будут в кратчайший срок выпускать инженеров общественников с хорошей подготовкой» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 1, л. 4). Хотя Цибарт еще и 21 декабря 1930-го года говорит лишь о «подготовке к переходу на сокращенный срок обучения» (л. 25), эта уверенность могла зиждиться лишь на уже проделанной в этом направлении работе. Собственного приказа директора ВММУ о сокращении срока обучения не было, во всяком случае, в архиве канцелярии втуза таковое не сохранилось. |
К этому можно еще добавить, что связанная с переходом на деление по специализациям отмена традиционного деления втуза на факультеты, с которым также боролась ВКП(б) («основной ячейкой большинства ВТУЗ'ов еще по старому остается расплывчатый факультет, который своим построением отражает нашу былую экономическую отсталость. Он меньше всего приурочен к системе и организации нашей социалистической промышленности» /Петровский, В борьбе.../) – совпала с самоликвидацией МВТУ, превращением его факультетов в самостоятельные втузы. Так что Цибарту в ВММУ, бывшем мехфаке МВТУ, по крайней мере не пришлось ничего ради этого разрушать.
Не пришлось Цибарту и участвовать в таком, может быть незначительным в тех масштабах, преступлении, как изгнание из училища «классово чуждых» студентов. «Говоря о борьбе за пролетарский втуз, необходимо отметить чистку студенчества, проведенную в 1929 г. для проверки социального лица студентов и содействовавшую очистке рядов студенчества от пролезших во втуз и скрывавших свое истинное лицо белых офицеров, детей попов и белых генералов, детей кулаков и лишенцев» (Юбилейный сборник, Акимов).
И даже пресловутые «соцсоревнование» и «ударничество» с их борьбой в т.ч. за досрочное окончание вуза и пр., намертво слившиеся с образом ВММУ–МММИ – явление вполне одиозное, мешающее нормальной систематической учебе – начались на механическом факультете МВТУ еще в декабре 1929-го года, за месяц до появления в нем Цибарта.
Итак, все эти злосчастные реформы и инициативы Цибарт получил в наследство от прежнего МВТУ. Относить их к эпохе ВММУ/МММИ – грубая ошибка. Но следовать им надлежало, разумеется, со всеми советскими энтузиазмом и помпой.
Лабораторный метод избегания учебы и попытки его смягчения
«Эти реформы, – откровенно говорит один из партийных активистов нового заведения, – проводятся с целью облегчения и ускорения прохождения студентом курса втуза и скорейшего обеспечения промышленности достаточным количеством новых и притом классово своих инженерно-технических сил» (Юбилейный сборник, Акимов; курсив наш). То есть уровень выпускника понижался властью сознательно. Если за курсом на «пролетаризацию», в результате которой «классово своих» студентов в вузах должно было стать не менее 70% (а в год прихода А.А. Цибарта в МВТУ их было в училище 88%), и оставалась справедливая сама по себе цель – открыть доступ рабоче-крестьянской молодежи к образованию, – то решалась она самым нелепым, и особенно ввиду задачи индустриализации, способом: за счет снижения качества самого́ образования. (Кроме того, если быть точным, пролетаризация означала не открытие доступа «классово своим», а буквальное принуждение их к образованию, включая, ввиду завышенности планов пролетаризации, и тех из них, кто не имел ни возможности, т.е. достаточной довузовской подготовки, ни даже желания учиться в вузе.) В результате к 1932-му году, если вспомнить только свидетельства тогдашних профессоров заведения, студенты в основном оказались «неспособны выполнить сложные проектирования» (см. Лещинер, Цибарт). Под деликатным выражением «сложные проектирования» имелся в виду вновь ставший обязательным с 19 сентября 1932 г. дипломный проект...
Как мы понимаем замысел ВКП(б), в серьезных знаниях «красный специалист» не нуждался – достаточно было некой, хоть и довольно продолжительной, ознакомительной экскурсии по втузу.
Пребывать и верховодить в институте идеологически правильный лже-студент мог почти исключительно за счет «активных методов преподавания», или – хоть и усовершенствованного Цибартом их варианта – «бригадного метода».
«С особенной решительностью профессура оспаривает бригадную систему … [они говорят, что] в бригадах работают активно "только вожаки"...» (ЗПК 1931 № 4). Но даже и «вожаки», «бригадиры», ответственные за всю группу и отчитывающиеся в полученных знаниях фактически за всех, не имели возможности учиться полноценно: как замечает в 1934-м году известный ученый-химик А.М. Беркенгейм, профессор бывш. МВТУ, «где уж тут было способному бригадиру самому углублять свои знания?» (ВТШ 1934 № 1).
Впрочем, в частности по поводу «бригадной системы» авторы книги о ректорах МВТУ (Анцупова, Павлихин) замечают: «этот метод применялся несколько лет, однако [несмотря] на кажущуюся несуразность, он не повлиял отрицательно на высокий в целом уровень подготовки в училище». Мы можем понять это так, что при способности и желании со стороны студента, и в контакте с первоклассными преподавателями, получить качественное образование можно при любом методе.
Любопытная деталь: «лабораторный метод» обучения (как часть «активных методов преподавания») применялся во всех вузах до появления Цибарта в МВТУ, но создание института собственно бригадиров, назначаемых из числа студентов, было инициативой Цибарта (см. Протокол заседания Бюро ячейки ВКП/б/ ВММУ от 6 мая 1930 г.) – и в той ситуации это было полезное нововведение. Трансформация метода проводилась им под предлогом борьбы за предписанное ВКП(б) «единоначалие» (отсутствие требуемого Сталиным единоначалия в МВТУ критикует на ноябрьском пленуме 1929 г. Каганович, приказ Главтуза ВСНХ о единоначалии в учебных заведениях вышел 12 февраля 1930 г.) – в студенческих группах появлялись единицы, на которых преподавателям и администрации можно было опираться. Да, «где уж тут было способному бригадиру самому углублять свои знания?», но, может быть, бесконтрольность прочих студентов составляла в целом худшее, чем это, зло. А преподаватели получали возможность теснее работать с теми студентами, кто был в состоянии учиться.
«...В [студенческих] группах мы своего представителя не имеем, через которого мы [администрация] могли-бы проводить все свои работы и спросить с него работу. Чтобы он был ответственным за исполнение учебы в группе. / Этот вопрос нами был поднят в соответствующих организациях и там мы получили согласие создать институт бригадиров в виде опыта...», – говорит Цибарт 6 мая 1930-го года. Опыт Бауманского удается и распространяется затем на все втузы (в некоторых из них «бригадиры» именуются старостами), а метод в дальнейшем именуется в основном «бригадным». И хотя «лабораторный» или «семинарско-групповой» звучит академичнее, чем «бригадный», – на самом деле эта доработка метода означала, может быть, спасение учебы от полной ее профанации. На первый план выходили те студенты, «вожаки» или «бригадиры», которые учились реально.
|
«4. СЛУШАЛИ: – Об организации института бригадиров, в связи с единоначалием /Цибарт/ (ЦГАМ Ф. П-158, оп. 1а, д. 3, лл. 12, 12об. Протокол заседания Бюро ячейки ВКП/б/ ВММУ от 6 мая 1930 г.) |
В октябре 1930 г., в статье «За четкую организацию учебной работы. Опыт ВММУ» (полный текст см. на сайте) Цибарт констатирует: «введение института бригадиров, как низшего звена в системе управления втузов (по вопросам информации и организации работы академической группы), себя вполне оправдало» (ЗПК 1930 № 2–3).
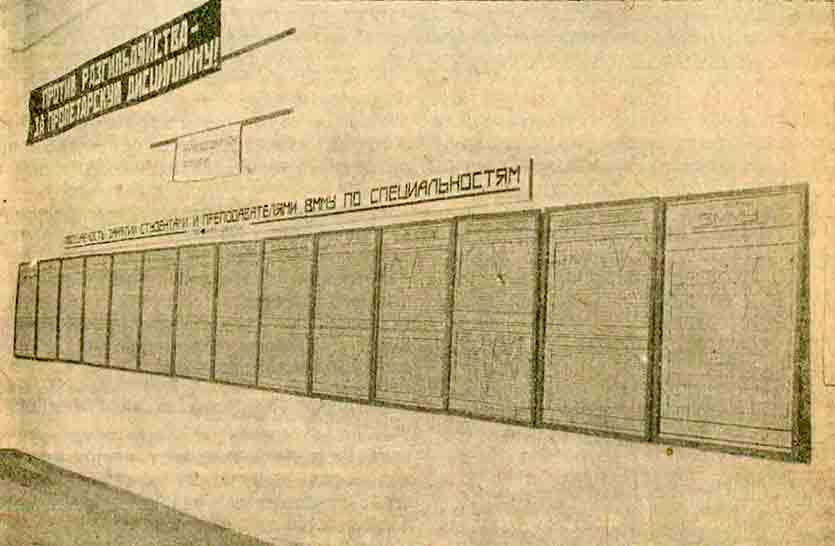
В этой статье Цибарта детально описывается реализация «бригадного метода» в ВММУ.
«Бригадир назначается заведывающим [так в тексте] специальностью из числа нормально успевающих студентов группы»; в его обязанности входило «1) помощь заведующему специальностью в доведении учебно-производственного плана и программ до группы; 2) наблюдение за выполнением группой и каждым студентом в отдельности учебно-производственного плана и программ специальности (по количественным и качественным показателям); 3) наблюдение за ходом занятий и за качеством преподавания по отдельным дисциплинам (степень активизации, методика преподавания, усвояемость предмета и прочее) <...>». (Обращает на себя внимание: студент-бригадир контролировал и качество преподавания.) – Какие-то лекции в ВММУ все-таки были, и самый общий учет преподавателем успеваемости каждого студента в отдельности тоже: «учет успеваемости студентов по предметам, где имеются лекции и упражнения или только упражнения, проводится на основании: 1) ответов студентов при беседе в процессе ведения занятий, 2) конспектов, составляемых студентом на основании проведенных занятий и проработанной литературы, 3) самостоятельного решения задач, ведения вычислений в аудиториях, 4) отчетов о домашних работах, 5) ответов студентов в заключительных беседах и коллективной (групповой по 3–5 чел.) проработке по главам и отделам курса ... Проверка успеваемости при этом ведется по группам, для чего вся аудитория делится на несколько частей, и в помощь лектору привлекаются для этой работы ассистенты (преподаватели)». «По окончании триместра или всего курса преподаватель делает общую оценку знаний каждого из слушателей, фиксируя в записной книжке, в графе "сведения об успеваемости за триместр", против фамилии каждого студента буквой "у" – усвоение курса, а буквой "н" – неусвоение, причем в случае необходимости на обороте делает дополнительные замечания» (только и всего, вместо балльной системы).
Т.е. экзаменов и (сдаваемых, а не проставляемых) зачетов не было. Их и не могло быть.
Очевидно, что практика, при которой преподаватель составлял представление о знаниях студента лишь в процессе общения с группой, причем зная, что абсолютное большинство студентов относится к числу «классово своих» и потому неприкасаемых, оставляла последним возможность едва имитировать учебу. Но в том-то и состоял замысел партии. Лучшее, что дирекция могла сделать в такой ситуации – это постараться гарантировать хотя бы присутствие студентов, да и профессоров на занятиях («активные методы преподавания», видимо, участия преподавателей особо не требовали). Постановка в ВММУ контроля трудового режима тех и других – специально разработанные и отпечатанные типографским способом бланки, и пр. – освещается в статье Цибарта утомительно подробно и в первую очередь, что производит даже несколько тягостное впечатление, однако никакого формализма дирекции в том не было.
Примечателен комментарий в журнале к статье Цибарта: «Некоторая часть студенчества и хвостистски-настроенных преподавателей склонна была ставить зачет на основании одной лишь посещаемости занятий, вовсе не интересуясь тем, какова же эффективная сторона этой посещаемости. На борьбу с этим пришлось мобилизовать общественное мнение студенчества и профессуры, а механическое штампование зачетов квалифицировать, как академическое вредительство». И в сноске: «Интересный опыт в этом направлении проделало Высшее механико-машиностроительное училище (ВММУ). См. в этом номере статью директора ВММУ т. Цибарта». Меж тем и в ВММУ эта «эффективная сторона посещаемости», как мы только что убедились, всерьез учитываться не могла.
Вообще, сколько ни вчитываться в эти и им подобные тексты, никаких конкретных механизмов, какими «коллективные» знания должны были проникать в индивидуальные головы учащихся, обнаружить в них невозможно.
В мае 1931-го года проводится «Производственное совещание втузов по радио», «радиоперекличка втузов» (ЗПК 1931 № 5); не первый год продолжается бой за метод. «Мы ведем упорную борьбу за активные методы преподавания, но несмотря на то, что на словах в редкой школе, в редком вузе вы не найдете человека, который не клялся бы в верности этому активному методу, в редком в вузе мы найдем действительную активизацию преподавания. Признания активных методов на словах, протаскивание старой реакционной системы на деле – вот, что мы видим сплошь и рядом. Нужно сорвать маску с лекционной системы, как бы и чем бы она ни прикрывалась», – говорит нач. Сектора кадров ВСНХ тов. Подгорный. В своей речи Цибарт этот вопрос не затрагивает, но его зам. по учебной части высказывается. «Нет четкости и единства методов также и в Московском механико-машиностроительном институте. – Лекции мы отменили, говорит т. Воскресенский, – декретировали семинары, а на деле часто "кто в лес, кто по дрова". Часть преподавателей превращает семинары в групповые лекции, часть – в английский парламент с разговорами и ничегонеделанием. Было бы однако неправильным представлять, что у нас сплошное неблагополучие. Бригадно-семинарский метод работы постепенно прививается. Нами введена новая система организации учебной работы, в основе которой лежит принцип концентрации времени. По этой системе смотр занятий проводится через день, пять раз в декаду. Учебный день состоит из 8 академических часов с перерывом на обед и физкультурного часа. Один день отводится для работы в лаборатории, один день целиком для графических работ и один для самостоятельной работы студентов. Учет успеваемости производим каждые 25 дней». «Тревожная игра в "свет и тени" происходит и в МММИ (Московский механико-машиностроительный институт). Имея ряд завоеваний в деле внедрения активных методов обучения, в деле повышения качества подготовки специалистов, МММИ имеет "на 2000 студентов 1000 хвостов", заявляет зычный голос громкоговорителя.» «С сожалением простились слушатели с МММИ. Новый втуз – новые светотени»...
Меж тем у самых высоких лиц в руководстве (трудно сказать, у кого именно) некоторое отрезвление в отношении пролетаризации втузов наступает; в июне 1931-го уже набранная пятая «парттысяча» (приказ Сектора кадров ВСНХ см. выше) разворачивается восвояси. Минимизировать вред от присутствия уже набранных не-учащихся «пролетариев на учебе» решают на поле «бригадного метода». Способ – изоляция их от реальных студентов. Вместо т.н. смешанных бригад, состоящих из «сильных, средних и слабых», продвигаются бригады из студентов «равноценных в академическом смысле»: не-учащиеся хотя бы не должны мешать учащимся. Безусловно, это находится в явном противоречии с ортодоксально партийной точкой зрения, и сопротивление новая линия встречает, по тем временам, необычайное.
|
В номере ЗПК за июль-август 1931 г., в статье В. Львова «Ударничество или уравниловка / о "сильных и слабых"» (сс. 42-44) описывается эта борьба. Киевский машиностроительный институт говорил: «Установка на комплектование бригад по принципу одинаково успевающих есть по сути установка на американский индивидуализм (Дальтон-план) – отголосок частнособственнической идеологии капиталистического общества. Лабораторный план предполагает обязательное распределение студентов по бригадам на основе принципа: помощь сильных слабым». А в одном из ленинградских втузов «пугали при этом: "в противном случае мы менее подготовленную часть студенчества, но наиболее пролетарскую по своему составу (набор индустриализации, проф- и парттысячники) поставим в худшие условия по сравнению с более подготовленными"». Также «вот что постановило Центральное бюро пролетстуда при ЦК союза рабочих транспортного машиностроения: "Изучив имеющиеся формы ударного движения, ЦБ считает, что основной формой ударного движения за качество всей учебы должна являться ударная бригада в учебной группе, комплектующейся на добровольном принципе с включением в таковую: хорошо, средне и слабоуспевающих, ибо другая установка – сильных с сильными, слабых с слабыми – ведет к изоляции малоподготовленной рабочей части и идет вразрез с подтягиванием национальных меньшинств до общего уровня». Больше того – сам ГУС (Государственный ученый совет) осудил ГЭМИКШ за отдельное комплектование слабых, средних и сильных: «такое разделение противоречит основному принципу коммунистического коллективного воспитания, принципу соцсоревнования, общественного буксира и принципу необходимости взаимопомощи со стороны более сильных и подготовленных академически более слабым...». - Но автору статьи уже ведомо, какой линии суждено победить. «Часто слабые занимаются только списыванием, берут уже разжеванное.» Все названные инстанции объявляются им «приверженцами уравниловки». «Их лозунги вяжутся скорее с толстовством, чем с коммунистической организацией труда.» «Организация бригад из студентов одинаково успевающих, стимулируя самостоятельную активную работу слабых бригад, переводит помощь сильных слабым на более высокую ступень – буксир бригадой бригады.» |
МММИ принимает верную сторону.
1 октября 1931-го года пленум парткома МММИ констатирует, «что в практике формирования и работы академических бригад в настоящее время имеются элементы своеобразной уравниловки и обезлички, что ведет к понижению качества подготовляемых специалистов». В том же месяце готов проект «Положения об учебно-производственных бригадах и о методах бригадной работы студенчества Института» (ЦГАМ, ф. Р-1992, оп. 4, д. 5, лл. 103–110), который должен был вступить в силу с января 1932-го года. Постановлением III производственной конференции МММИ им. Баумана (л. 102) было решено: «считать своевременной намечаемую перестройку бригадной работы, – на основе перекомплектования бригад по принципу подбора равноуспевающих, с учетом добровольности, группируя академически равноценных студентов, могущих обеспечить одинаковые темпы освоения учебно-производственных материалов, одинаковые темпы и качество успеваемости – как полностью соответствующую поставленной задаче ликвидации уравниловки и обезлички в учебно-производственной работе Института». «Уравниловка и обезличка» состояли в том, как это впоследствии констатировала сама ВКП(б), что в случае смешанных бригад из «неравноценных» студентов сильным приходилось опускаться до слабых. Спасение реально учащихся студентов от фиктивных путем выделения последних в особые группы меняло отношение к «закаленным пролетариям» во втузе, скрываемое становилось явным. Хотя новый проект и предварялся классическими цитатами о массе «ненужных, лишних, мертвых знаний, которыми забивали голову в старой школе», наверняка приятными слуху политически выдержанных псевдо-учащихся, – они не могли этого не чувствовать.
Достаточно заглянуть в учебник сопромата, издававшийся МММИ в 1930-31-х годах (видимо, сокращенный курс), чтобы понять, что случайно набранные 30-40-летние рабочие-партийцы, с незаконченным средним или вовсе «почти полуграмотные», отношения к реальной учебе во втузе иметь не могли.
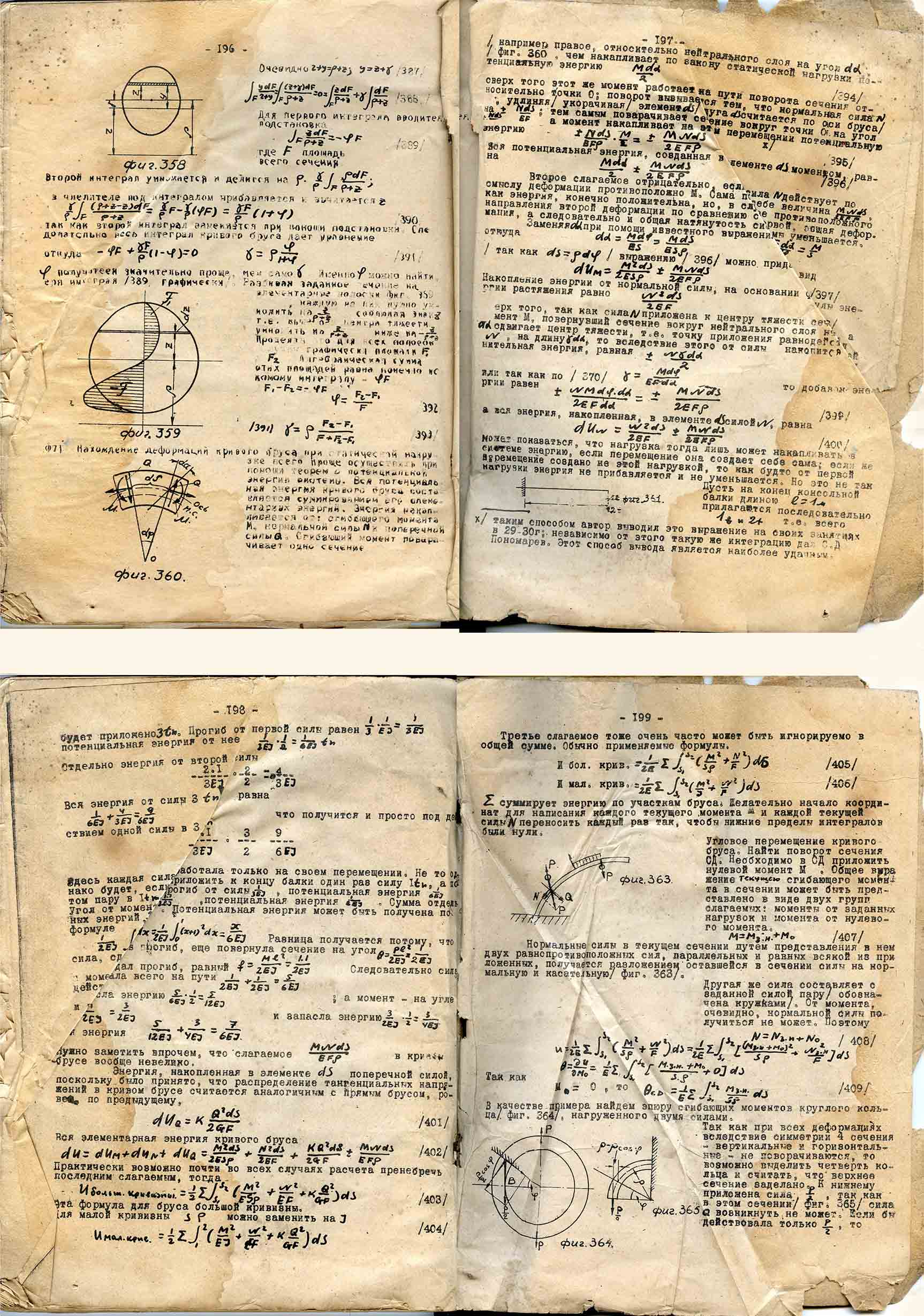
Страницы из учебника
Проф. Е.Н. Тихомиров. Курс сопротивления материалов. Издание 2-е (литографированное)
МММИ им. Н.Э. Баумана. НТО. 1931
В проекте Положения имеются и такие пункты: «5. Только коллективная проработка всего объема учебно-производственного материала является совершенно недопустимой формой работы бригады – вся коллективная работа организуется лишь на основе глубокой предварительной индивидуальной работы членов бригады. Основная задача бригадных занятий подлинно коллективный разбор узловых вопросов, предварительно разрабатываемых в индивидуальном порядке. 6. Совершенно недопустимо коллективное решение задач, коллективное выполнение графических работ, расчетов и практических упражнений, которые должны выполняться индивидуально и бригадно подвергаться только разбору и оценке»... Эти благие пожелания, в исполнении коих вряд ли можно было удостовериться, лишь указывают на фактическое положение дел.
13 января 1932 г. парторганизация МММИ еще констатирует, «что коммунисты и аппарат в целом не мобилизовались и не включились по-боевому на введение лабораторно-бригадной системы занятий в Ин-те на основе решений пленума парткома», что необходимо в т.ч. «дифференцировать задания по каждой группе» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 11, л. 30)...
«Метод» был в принципе осужден (сначала касаемо лишь средней и начальной школ) постановлением ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 года. 19 сентября 1932-го постановлением ЦИК СССР будет покончено и с ним, в любых модификациях, и с прочими наиболее дикими установками «реконструкции» высшей технической школы, – но это уж другая история.
«Непрерывное производственное обучение» в ВММУ/МММИ
Далее. При резко сокращенных программах и «лабораторно-бригадном методе» избегания учебы, половину учебного времени («с коэффициентом 1:1») отнимала «НПП» – непрерывная производственная практика, или, как ее предпочитали «красивее» называть, «НПО», – «непрерывное производственное обучение».
По меньшей мере одна попытка сделать эту практику если не действительно обучающей, то хотя бы минимально осмысленной, ВММУ была предпринята. В резолюции заседания партактива ВММУ 4 апреля 1930 г. (ЦГАМ Ф. П-158, оп. 1а, д. 3, л. 8) имеется такой пункт: «Постановка перед Главтузом вопроса о разрешении проводить намеченные по учебному плану 2-х часовые теоретические занятия в рабочее время, дабы дать возможность студенчеству вплотную подойти к общественной жизни предприятия». Но, как мы видели, вскоре втузы получат убедительное предостережение: никаких лекций на предприятиях (ЗПК 1931 № 7-8, с. 43).
Это «производственное обучение» понималось «реакционной профессурой» как «ставка на мастеровщину» (ЗПК 1931 № 6, с. 1), но на самом деле, как видим, не было и того: если тут вообще можно говорить о каких-либо рациональных целях, то все они заключались исключительно в помощи заводам – выполнении их планов и латании дыр. «Начало нового учебного года, совпадающее с началом 3-го года пятилетки, открывает грандиозные возможности сочетания улучшения учебы с непосредственной борьбой за промфинплан» (ЗПК 1930 № 2, с. 28); «ВОМТ [Всесоюзное объединение тяжелого машиностроения] включает НПО в промфинплан предприятий», отмечая при этом «сугубо политическую недооценку предприятиями роли студенчества в деле борьбы предприятий за выполнение и перевыполнение промфинплана, в борьбе за ликвидацию производственных прорывов» (ЗПК 1931 № 4, с. 48)... И при этом (как скажут через 3 года): «Обычно же работа студентов на заводе сводилась либо к грубой механической работе, либо к тому, что они околачивались на заводе без настоящего дела. Втузы мало могли влиять на постановку производственной практики на заводах уже потому, что студенты занимали места, оплачиваемые заводом, и последний требовал от них работы, нужной для выполнения промфинплана» (ВТШ 1934 № 1, Беркенгейм). Собственно на учебу (хотя бы присутствие при ней) будущего «красного специалиста» оставалось всего лишь два года.
Кстати об отъеме учебного времени: кроме НПП-НПО, в расписания втузов вошла еще и военная подготовка – в т.ч. регулярные лагерные сборы. Бывало так, что в одном и том же триместре в расписаниях МММИ умещались и НПО, занимавшая месяц и 20 дней, и сборы, по 20 дней. К технике эти сборы имели слишком мало отношения. Как и в случае с НПО, Цибарту оставалось лишь отдавать формальные, или скорее отчаянные, распоряжения об «увязке военных дисциплин с академическими».
Впрочем, само военное дело в МВТУ и затем в ВММУ/МММИ было поставлено, видимо, прекрасно. В разное время военруками Бауманского были крупные «военспецы», т.е. перешедшие на сторону РККА офицеры русской армии – бывшие полковники П.М. фон Зигель (судьба после 1933 г. неизвестна) и Е.Е. Шишковский (расстрелян в 1938 г.), преподавал бывший генерал-майор М.В. Фастыковский (расстрелян в 1938 г.). С их удивительными биографиями читатель может ознакомиться в интернете. Мы здесь на этой теме не останавливаемся, т.к. работа военной кафедры от воли директора втуза никак не зависела – во всяком случае в сохранившихся текстах А.А. фамилий военруков не встречается. |
Добавим, что до 1933 года «институт совершенно не имел учебных мастерских, если не считать полуразрушенных литейной и кузнечной» (см. Лучший втуз...), так что действительно обучающая «академическая» практика в первые три года существования МММИ была и невозможна.
...Ну а «...реакционная часть профессуры остерегается вслух высказывать свое "кредо". Она, по выражению "Пролетария на учебе" (органа пяти втузов, возникших на базе МВТУ), "ушла в подполье" и уже оттуда ведет тихую сапу против реформы высшей школы. Партийные организации ВММУ и ВЭУ единодушно признали, что налицо резкое понижение качества учебы и что произошло это в связи со скрытым сопротивлением выполнению учпланов и программ, затягиванием сверх срока проработки предметов, стремлением расширить курс сверх программ, стремлением поставить учебные органы перед фактом необходимости сокращения времени производственного обучения за счет увеличения сроков занятий в училище» (ЗПК 1930 № 1 /октябрь/, с. 47).
Именно так: «резкое понижение качества учебы» произошло не в связи с действиями реформаторов, а в связи с «затягиванием сверх срока проработки предметов, стремлением расширить курс сверх программ»!
Этот нелепый вывод, увы – почти дословная цитата из протокола заседания Бюро ячейки ВКП(б) ВММУ от 18/V-30 (предс. Резчиков; Цибарт присутствует). «Постановили: … в связи со скрытым сопротивлением выполнения учпланов и программ /затягивания сверх срока проработки предметов, стремление расширить курс сверх программы, понижение качества учебы, стремление поставить учебные органы перед фактом необходимости сокращения времени производственного обучения за счет увеличения сроков занятий во ВТУЗ"е и т. д./ и попытками дискредитации и срыва производимой реорганизации Втуза со стороны реакционной части профессорско-преподавательского состава имеющего свое влияние на отсталые слои студенчества, обратить внимание спецячеек на необходимость неослабной повседневной бдительности и мобилизованности парторганизации, выявляя и решительно борясь со всякого рода попытками сопротивления, дискредитации и срыва проводимой реорганизации ВТУЗ"а, а также с демобилизационными настроениями среди отдельных членов парторганизации» (ЦГАМ Ф. П-158, оп. 1а, д. 3, лл. 15, 15об). Член парткома Эдельштейн отмечает было некоторые успехи в этом направлении: «...Надо отметить среди профессорского состава перелом в сторону нормальной работы пример проф. Саверин, который с утра до вечера работает среди студентов 4 курса стараясь, чтобы выпуск 4 курса был во время, а отсюда вывод, надо вести какую-то работу по расслоению професс. состава» (28 мая 1930 г. – ЦГАМ ... л. 17). Однако и в этих его словах разглядели оппортунизм: «Актив решительно осуждает попытки отдельных товарищей /группа: Грунин [?], Эдельштейн, Бауман и др./ замазать и снять лозунг классовой борьбы по отношению к реакционной части профессорско-преподавательского состава и отдельным прослойкам враждебно-настроенного студенчества в деле реконструкции Втуз"а» (л. 19). Эдельштейн делает по этому поводу ответное заявление, в результате постановили его фамилию из этой резолюции снять (л. 26)... За месяц до этого заседания, 15 апреля 1930 г. на партактиве ВММУ выносилась и такая резолюция: «Производственное совещание подчеркивает, что осуществление этих задач [по реформе втуза] возможно лишь в случае: а/ дальнейшего решительного наступления на сопротивляющиеся и пассивные к перестройке ВММУ элементы проф. преподав. состава, аппаратов и классово-чуждых слоев студенчества, б/ активизация близких к советской общественности профессоров и преподавателей, в/ активное участие широких масс пролетарского студенчества в работе по подготовке кадров и д/ использование методов сорев. и ударничества как мощных рычагов под"ема активности масс на дело перестройки Втуза» (ЦГАМ Ф. П-158, оп. 1а, д. 3, л. 8). |
Насколько мало непрерывная производственная практика в качестве «системы производственного обучения» отвечала интересам как обучения, так и производства, видно из того, как хаотично «сближение с производством» воплощалось в жизнь. «Прикрепление втузов к предприятиям в значительном большинстве случаев организовано неправильно. К отдельным небольшим заводам /“Борец”/ прикреплено свыше десятка учебных заведений, а целый ряд втузов был прикреплен ко множеству предприятий, например, Московский механико-машиностроительный институт [им. Баумана] – к 48 предприятиям», – констатирует Постановление Комиссии исполнения при СНК СССР от 28 мая 1931 года. Цибарт и директора других втузов «не обеспечили программно-методическим руководством прохождение производственной практики студентов»... Совнаркому остается лишь бороться с «элементами формализма и неорганизованности».
Понятно, что указанные Комиссией недостатки были МММИ в самое скорое время устранены: за ним осталось лишь 11 промышленных предприятий, а нужные методические пособия (насколько таковые вообще могли примирить учебу и работу на производстве) разрабатываются. «Постановление правительства от 3.V.31 г. дополненное и уточненное инструкцией НКТ СССР от 2-V-31 г. за № 115 о новом порядке оплаты студенчества за время прохождения НПО ставит перед Ин-том задачу перестройки НПО, на базе сочетания учебных и производственных интересов, в направлении действительной увязки теоретического и производственного обучения и действительной работы студенчества на НПО по выполнению промфинплана предприятий – баз производственного обучения. / Проводимая в этом направлении специальностями Ин-та работа все еще недостаточна...» (из приказа Цибарта по МММИ от 28 мая 1931 г.; ЦГАМ, ф. Р-1992, оп. 4, д. 5, л. 27). А работа велась еще с 1930-го года: задумывались «четкие директивные программы производственного обучения», где имелись бы «точное указание рабочего места, цеха, должности студента» на все четыре курса, и которые при этом каким-то образом предусматривали бы «максимальное об'единение теоретического и производственного обучения», «сочетание программных требований к студенту с возможностью непосредственной работы на промфинплан предприятий» (ЦГАМ, ф. Р-1992, оп. 4, д. 2, л. 47), и т.д. Эту задачу институтские партийцы и дирекция пытались возложить на тех же «классово чуждых» теоретиков-профессоров. 15 октября 1930 г. на Бюро ячейки ВКП(б) ВММУ Цибарт говорит: «... В основном кто должен составлять программы [производственного обучения]? Конечно не помощники зав. специальностей, а они должны возглавлять дело так, чтобы профессура в этом деле участвовала, заставить ее составлять программы, как она это производит по теоретическому обучению. Были нездоровые выступления, но они говорят о не мобилизованности наших партийцев вокруг такой серьезной работы. Мы имеем прорыв [тогда в смысле: провал] по производственному обучению. Конкретно в дальнейшем, что должны сделать. Произвести коренной перелом в мозгах профессуры, заставить их работать. Вокруг этого вопроса должна быть также мобилизована секция научных работников. Добиться чтобы произв. программы были в согласованности с заводами и чтобы программы отвечали выполнению промфимплана» (ЦГАМ Ф-158, оп. 1а, д. 3, л. 72)...
Реальность оставалась далекой от планов ВКП(б), усилия втузов ни к чему не приводили, да и заводы, что самое обескураживающее, заинтересованности в практикантах тоже не проявляли. «К стыду заводов надо указать, что такая заводская практика иногда сводилась для студентов к мытью полов и колке дров; или же студент или студентка заполняли какую-нибудь дробилку в цехе» (ВТШ 1934 № 1, Беркенгейм). Студенты, по выражению Петровского «запрудившие» заводы, сталкиваясь там с «очень скептическим отношением хозяйственников» к себе и сознавая бессмысленность этого рода «обучения», видимо, под любыми предлогами отлынивали. «Наблюдаются случаи формального отношения студентов, находящихся на производств. обучении к выполнению рабочих программ»; им приходилось напоминать, например, что «как наличие академической задолженности по теоретическому курсу, так и наличие производственного стажа не служит основанием к освобождению от производственного обучения» (ЦГАМ, ф. Р-1992, оп. 4, д. 1, л. 52). Случаются и форменные безобразия: в МММИ однажды целая группа покинула практику на 20 дней раньше срока; в другой раз «группа студентов того же МММИ проходила практику на заводе "Красное Сормово". Трудовую дисциплину она нарушила самым безобразным образом, сильно подорвав в глазах рабочих авторитет пролетарского студенчества. Во время работы студенты уходили спать, бросали работу за час или полтора до перерыва, к имуществу завода относились как рвачи, устраивали драки и наконец вовсе дезертировали с завода. А между тем среди 19 практикантов было 14 членов партии и 2 комсомольца. Все 19, разумеется, исключены из втуза» (ЗПК 1931 № 7-8)...
Не имея возможности отменить НПО, его непрерывно совершенствуют. Приказ Цибарта от 1 марта 1932 года (ЦГАМ, ф. Р-1992, оп. 4, д. 6, л. 82): «Во исполнение постановления Комиссии исполнения при СНК Союза ССР от 28/У-1931 г. в двухмесячный срок разработать по каждой специальности единую программу непрерывного производственного обучения для всех курсов ВТУЗ'ов, предусмотрев в программах различные сроки и содержание производственного обучения студентов в зависимости от их квалификации и производственного стажа...».
Задача сделать НПП полезной была явно неразрешима или решима лишь на бумаге.
Техпроп, техпроп...
Но как бы ни относились профессора к «сближению преподавания и производства», сколь бы нелепой ни была идея «непрерывного производственного обучения», – это воля партии. И здесь тоже институт демонстрирует замечательные достижения. Хорошо поставлено дело со студенческими отчетами по практике; лучшие из них, в частности некоторые проекты по конструкторской практике, публикуются в институтском издательстве. Вообще, всю возможную пользу от пребывания студентов на производстве, в отношении их профессиональной квалификации, МММИ старается извлекать. Например, «студенты МММИ от имени 20 тыс. рабочих Горьковского автозавода получили красное знамя» в т.ч. «за составление инструкций для наладчиков 98 типов новейших импортных станков, впервые появившихся в СССР, за налаживание сложнейших зуборезных станов и проектирование аварийных режущих инструментов» (см. Лучший втуз...) – это уже не рутинная работа у станка. – Есть и другие, специфически-советские успехи на этом поприще: еще в 1931 г. при институте создается специальный сектор технической пропаганды (постановление ЦК ВКП/б/ «О постановке производственно-технической пропаганды» вышло 25 мая 1931 г.). «Техпропаганда – гордость института» (см. Лучший втуз...). Кабинет техпропаганды – в помещении Кабинета ударника (т.е. ударника соцсоревнования). Студенты организуют на машиностроительных заводах десятки технических кружков, получают грамоты и благодарности заводов. «Комсомольская правда» занесла МММИ на Красную доску за образцовую работу по техпропаганде на заводах, газета «Правда» – занесла институт им. Баумана на всесоюзную Красную доску им. XVII съезда партии.
|
(С заместителем Орджоникидзе по Сектору научно-исследовательских работ и технической пропаганды /НИС Техпроп/ НКТП, сыном Инессы Арманд А.А. Армандом у Цибарта сложились, видимо, вполне доверительные отношения. В 1937-м году, в числе тех, к кому можно было бы обратиться за помощью в условиях начавшейся против него травли, А.А. упоминает в своем дневнике и Арманда.) |
«Боевая работа института по техпропаганде отмечена приказом, подписанным начальником Центротехпропа и НИС [Научно-исследовательского сектора] Наркомтяжпрома СССР – Н.И. Бухариным» (см. на сайте: Юбилейный сборник, МММИ в борьбе за первую пятилетку / Техническая пропаганда на заводах)... (Опальный Бухарин, выведенный в 1929-м г. из состава политбюро ЦК из-за противления коллективизации, не удостаивается в статье сборника даже положенного «тов.» или «т.» перед имярек.)
|
«Техническая пропаганда на заводах Есть еще одна форма активного участия студенчества в борьбе за выполнение промфинплана. Речь идет о технической пропаганде.
Техническая пропаганда, твердо вставшая на ноги за последние годы первой пятилетки, оказалась для многих предприятий нелегким делом. Прошло время, когда можно было пускать пыль в глаза пустой "пропагандой технической пропаганды". Приказ т. Орджоникидзе о введении техминимума, прямое указание сентябрьского пленума ЦК об организации производственного инструктажа, освоение новых производств, новых технологических процессов – задачи такой сложности, от которых не отбояришься декларациями. Заводские техпропы держали серьезный экзамен на умение работать. Очень многие из них без помощи со стороны не могли справиться с теми требованиями, которые были им предъявлены, и можно с полной уверенностью сказать, что многие заводы и не справились бы в нужные сроки с тем же техминимумом, если бы Институт им. Баумана и его сектор техпропаганды не оказались на высоте положения. Работа техпропа института непосредственно примыкает к работе студентов, проходящих практику. |
Излишнее обучение: сокращение сроков. Лидер в этом деле – не МММИ
«Реакционные и консервативные элементы», утверждавшие до 1929-го года, что «"июльский пленум [1928 г.] не дал директив" о сокращении сроков обучения», что «нельзя осуществить взятых темпов при одновременной постановке вопроса о сокращении сроков обучения и повышении уровня теоретической и технической подготовки, – это, мол, вступает в конфликт с ограниченными возможностями человека», что «5–6 лет являются минимальными» и т.д. – были, разумеется, правы, но предсказуемо потерпели поражение. (См. об этом в рубрике «Здравствуйте, инженеры царства теней!».) Ибо на самом деле существующий к тому времени во втузах «уровень теоретической и технической подготовки» партией был признан излишним.
Как и во всех втузах, срок обучения должен быть сокращен ниже минимального – в МВТУ–ВММУ с 5 до 4-х лет (в большинстве втузов – до трех). Хотя уже в 1932-м году эта директива была отменена, до начала 1933-го года уже выпускали из втузов раньше 5 лет («кривая выпусков заметно снизилась в 1933 г. в связи с переходом на удлиненные [т.е. прежние] сроки обучения. Кривая несколько выровнялась в 1934 г., чтобы дать доподлинный взлет в 1935 г.» /Петровский, Втузы.../). Соответствующие четырехгодичному сроку учебные программы дорабатываются в ВММУ еще в мае 1930-го, но начата эта работа в МВТУ. – Пострадать должны, в первую очередь, важнейшие теоретические и общетехнические предметы («балласт»...). Специализация с 1-го курса, понятно, должна осуществляться в т.ч. за счет этих предметов.
Несмотря на то, что еще в мае в приказах Цибарта фигурируют и «триместровая система», предусматривавшая всего 12 триместров, т.е. 4 курса, – переход на четырехгодичный срок обучения в Бауманском в 1930-м году осуществлен не был. То есть, это надо понимать так, не были готовы соответствующие этому сроку учебные планы.
Лидерами в этом переходе были МЭИ и Иваново-Вознесенский политехнический институт. В свой договор о социалистическом соревновании между собой эти два втуза внесли пункт о сокращении срока обучения до 4-х лет, включая в это время и военные дисциплины, а затем МЭИ «делает вызов» Бауманскому. Это – предложение, от которого, что называется, «невозможно было отказаться».
Вызов МЭИ Бауманскому был оглашен М.Г. Кривиным 28 ноября 1930-го года на заседании Бюро ячейки ВКП(б) МММИ. Прений по докладу Кривина, в которых принял участие и Цибарт, протокол заседания, к сожалению, не зафиксировал.
«СЛУШАЛИ 2. О соцдоговоре с МЭИ и Иваново-Вознесенским Политех.
т. Кривин.
В связи с тем, что МЭИ по договору с Иваново-Вознесенск внесло пункт о сокращении срока обучения до 4-х [лет] увязав в этот срок военные дисциплины и делает нам также вызов.
В прениях выступили: Злотников, Цыбарт, Смуров, Симонов, Коновалов, Якунин, Лобов, Кривин. [Самих прений в протоколе нет]
ПОСТАНОВИЛИ: 1) вызов МЭИ и Иваново-Вознесен. Ин-та в части сокращения срока обучения до 4-х лет и объявление втуза со II трим. [т.е. с 1 января 1931 г.] ударным [нрзб – вписано от руки] принять.
2) Для мобилизации всего студенчества созвать партсобр. На 2/XII-с.г.»
(ЦГАМ Ф. П-158, оп. 1а, д. 3, л. 99)
И 8 декабря (заседание Бюро ячейки ВКП(б) МММИ; присутствовали в т.ч. Кривин, Злотников, Резчиков и Цибарт):
.«О договоре с МЭИ»: «СЛУШАЛИ 1. О договоре с МЭИ т. Кривин
Информирует Бюро об имеющихся изменениях в договоре с МЭИ, в части сокращения срока обучения и об"явления к 1/1-1931 г. втуза – ударным.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению» (там же, л. 101).
Лишь о подготовке к переходу на четырехлетний срок обучения, а не о совершившемся переходе, говорят и 21 декабря 1930 г. на заседании 1-й Партконференции МММИ им. Баумана: «4. Дальнейшая работа по реконструкции ВТУЗ"а и подготовка к переходу на сокращенные сроки обучения немыслима без коренного улучшения работы всего учебного производственного аппарата института» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 1, л. 25).
Никаких факультетов. Специализация с 1-го курса
Переход от факультетской системы к специальностям – это, так сказать, переориентация обучения с «головы» на «руки». Формально ломать факультетскую систему в ВММУ не понадобилось – ее на этом бывшем факультете еще и не было, а были именно специальности. «Втуз с самого начала отказался от организации факультетов, считая их лишним промежуточным звеном» (между директивами ВКП(б) и их исполнением?). В это время «наряду со специальностями имеются общевузовские кафедры по общим дисциплинам, однако за ними оставлено только методическое руководство и подбор преподавателей. За содержание и качество учебы кафедры отвечают перед специальностями» (Цибарт. За четкую организацию...). Понятно, что кафедры поддерживали теоретический уровень учебы, то, что в партийной среде именовалось тогда «схоластикой», и Цибарту приходится как бы извиняться за их существование. – Всем этим мыслилось придать «бо́льшую целеустремленность в содержание учебы». Конечно, перекройкам подвергались сами специальности, вводимые теперь начиная с 1-курса, – «исходя из тех заданий, которые дает Главпромкадры [Главное управление по подготовке промышленных кадров ВСНХ СССР]» (апрель 1930-го года; ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 1, л. 52). «Правильное распределение и концентрацию специальностей во вновь организуемых втузах» надо было, согласно приказу Рухимовича и Петровского, закончить уже к 1 мая.
«Правильное распределение специальностей» для ВММУ заключалось в следующем. На I-й партконференции ВММУ 21 декабря 1930 г. Цибарт отчитывается: «После реорганизации ВТУЗ"ов нас прикрепили к Маш. об"единению [ВОМТ]. Это мероприятие было направлено к уничтожению. [так в тексте] ... Но до настоящего времени этот вопрос еще не разрешен и наш Институт до сих пор отраслевым ВТУЗ"ом назвать нельзя. Машинооб"единение сейчас ставит вопрос о пересмотре существующих у нас специальностей, имея тенденцию закрыть некоторые специальности, которые им не нужны. Наш ВТУЗ должен быть технологическим ВТУЗ"ом с оставлением некоторых машиностроительных специальностей, мы теперь взяли установку, что технолог должен быть только технологом, а в области машиностроения мы будем выпускать в основном конструкторов...» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 1, л. 15). |
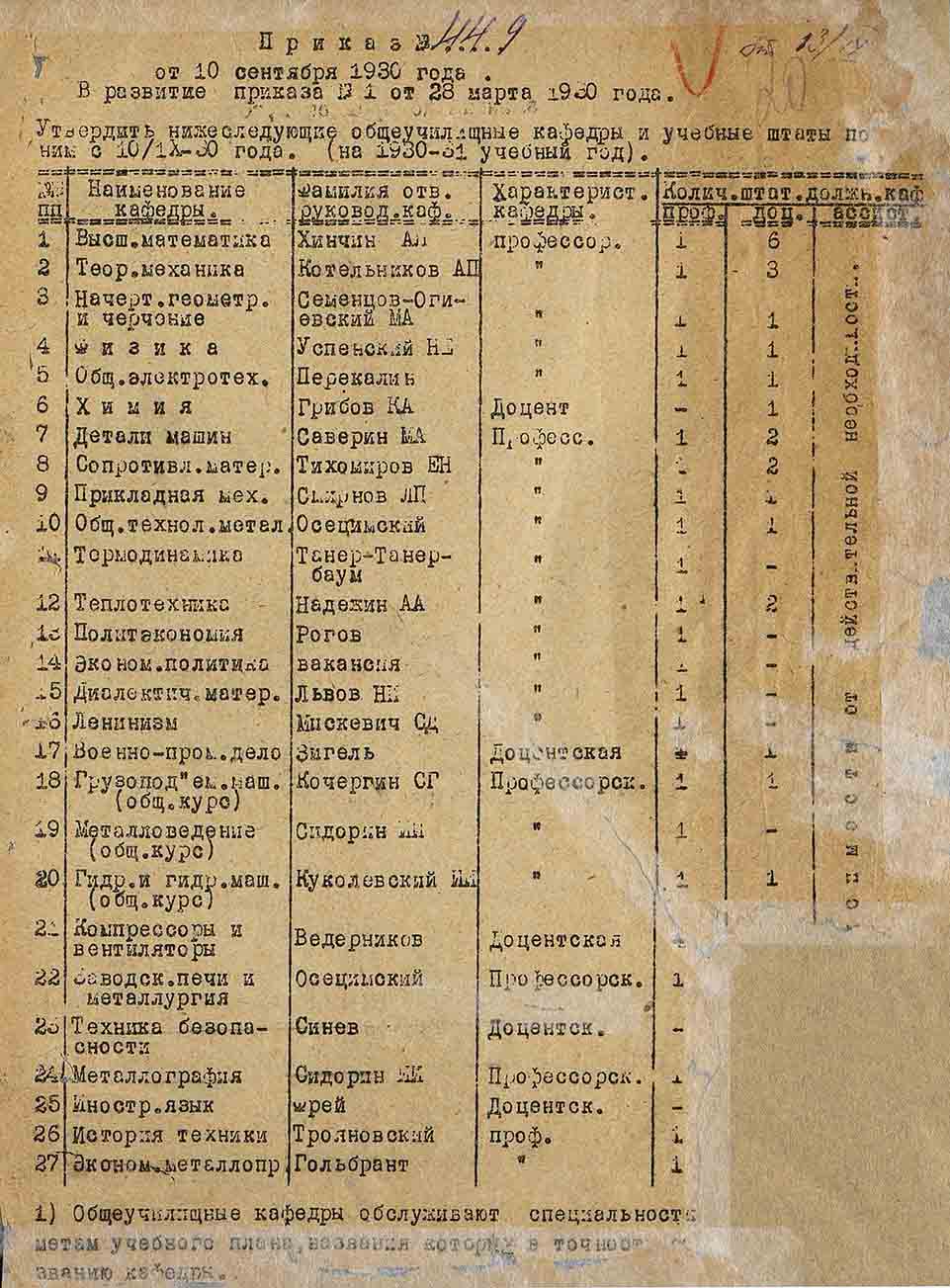
ВММУ. Общеучилищные кафедры (1930/31 учебный год). Руководители кафедр
Основной метод реформы – соцсоревнование
Массу времени и сил, как нетрудно себе представить, отбирает «соцсоревнование» (до конца 1932-го года еще внутривтузовское, если не считать соревнования с МЭИ), в которое «втягиваются» не только студенты, но и профессора... Впрочем, как констатируют 20-го апреля 1930-го года на партсобрании ВММУ (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 1, л. 42), именно «соцсоревнование и ударничество явились основным методом реформы втуза»... (Соревнованию в этом очерке посвящена отдельная рубрика.)
Ночные бдения парткома. Борьба со старыми профессорами и «правым оппортунизмом» Цибарта
«В МММИ, вспоминая прошлое, рассказывают о том, что заседания парткома, начинавшиеся в 6 часов вечера, кончались в 2–3 часа ночи и, как правило, не раньше 12 час. ночи» (ЗПК 1933 № 10). Парторганизация ВММУ в это время принимает участие в т.ч. в организованной всесоюзной травле вдовы Ленина. «Собрание считает совершенно неправильным и искажающим фактическое положение вещей, выступление тов. Крупской на Бауманской парт. конференции в котором она говорит о нашей неподготовленности к взятым темпам коллективизации, а ошибки отдельных перегибщиков и отдельных организаций возлагает на партию в целом.» Кстати, на первом году существования втуза Цибарт долгое время отсутствует: после марта 1930-го он послан в совхоз Сев. Дроково Тульской губернии в связи с организацией МТС, где пробыл до 11 июня – видимо, исправляет преступления «отдельных перегибщиков»; его замещает Злотников, бывший и.о. ректора МВТУ. В 1930-м и 1931-м гг. институтская ячейка ВКП(б) под руководством М.Г. Кривина, как мы рассказывали, реагирует на процесс «Промпартии».
Не забывает ячейка, конечно, и своих задач в деле реформы образования во втузе – борется с «правым уклоном» и «левыми загибами». Разоблачать уклонистов надо было не дожидаясь указаний сверху, и это вступало в некоторое противоречие с само́й немыслимостью отклонений от генеральной линии: «Пчелкин: Среди членов н/организации имеется болезненное явление, когда спрашиваешь почему ты так пассивен к вопросу парт-жизни, так он говорит я боюсь, как бы не остаться в правой или в левой оппозиции, и отсюда его пассивность как к разрешению вопросов так и к голосованию. Имея такие настроения очень вредные для организации надо будет по ним ударить» (партактив ячейки ВКП/б/ ВММУ 5 июля 30 г.). Но в целом все-таки ориентиры известны. Так, на собрании партактива 12 сентября разъясняют, что «правый уклон» – это «назад к старой школе (зачеты, сокращение сроков производственного обучения, универсализм, недооценка роли трудовой дисциплины», тогда как «левые загибы – недооценка значения теоретической учебы в огульных обвинениях всего профессорско-преподавательского состава...»; причем более «вредным» признается «правый уклон». (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 1, лл. 40, 53, 56.) Заниматься надо было «решительной борьбой на два фронта в особенности с правыми, борьбой с "леваками", с примиренцами ко всяким уклонам...» (21 декабря 1930 г., 1-я партконференция МММИ; ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 1, л. 21).
Свою «решительную борьбу на два фронта» партия высоко оценила. На январском объединенном пленуме 1933 г. ЦК и ЦКК ВКП(б) было отмечено (эта цитата приводится в Юбилейном сборнике МММИ): «Победоносного завершения пятилетки в 4 года партия достигла в борьбе за неуклонное и последовательное проведение генеральной линии, в борьбе с правым оппортунизмом, как главной опасностью, в борьбе с "левацкими" перегибами и с контрреволюционным троцкизмом, путем беспощадного разгрома всякого рода антипартийных группировок, путем решительного разоблачения агентов классового врага с партбилетом в кармане из числа буржуазных перерожденцев».
«Борьба с правым оппортунизмом, как главной опасностью» – это борьба с важнейшим достоянием вуза, – его научным потенциалом, лучшими специалистами. О фактическом противодействии Цибарта этой активности в институте, конфликте директора с тогдашним секретарем парткома М.Г. Кривиным, в ходе которого Цибарт заслужил политическое обвинение в «оппортунизме», см. выше в рубрике «Дело Промпартии». Сдерживающим предупреждениям ГУУЗа и соответствующей «большевистской критике» за излишне инициативную травлю профессоров подвергается другая часть бывшего МВТУ, – МЭИ. Во всяком случае «сверху» МММИ в «левацких загибах» не замечен.
Однако потери, чреватые невозможностью будущего возрождения Училища, институт все-таки нес. В результате бессмысленности работы на созданных реформаторами условиях, а также и адресной «классовой борьбы по отношению к реакционной части профессорско-преподавательского состава», «решительного наступления на сопротивляющиеся и пассивные к перестройке ВММУ элементы проф. преподав. состава» и пр., и пр., – из ВММУ/МММИ, как и из прежнего МВТУ времени ректора Мостовенко, продолжают уходить лучшие преподаватели. «Бриткин в прошлом [1932] году со слезами нам говорил, что его выгнали из его императорского технического училища...»; «Наш Институт свой научный багаж, который у него был до 30 г., разбазарил. Сплошь да рядом приходится иметь дело с заводами ... и нам там говорят – "у вас все новые профессора, которые нам неизвестны. Головин у вас был – вы его с"ели, того с"ели, другого с"ели"»; «...Нужно восстановить этот научный багаж, который имел старое МВТУ. Мы этот багаж растеряли...» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 16, лл. 40–82об).
Сравнительно подробное изложение заседания бюро ячейки ВКП(б) МММИ 3 февраля 1933-го года, где были произнесены в т.ч. и эти слова, – в разделе «Поворот на 180 градусов...».
Аспирантура для административных должностей. И однако...
В результате особенно жесткого для будущих «научных кадров» партийно-классового ценза, «среднестатистический» аспирант того времени годился, в основном, для партийно-административных должностей, но не для научной работы. И однако эта же среда дала и известнейших советских ученых, в ней же к 1933-му году созрел настоящий бунт против «линии на выживание старой профессуры». – Это особая тема, которой в настоящем очерке посвящена рубрика «Партийно-пролетарская аспирантура».
Работа в любых условиях. События и успехи
Работать, однако, надо в любых условиях.
Это и ежедневная напряженная «текучка» – проблемы вроде дефицита бумаги («учитывая громадную потребность студентов в чертежной бумаге ... немедленно приступить к разборке дипломных и курсовых проектов»); это вопросы «по упорядочению хранения бумаг», «технике работы архивариуса» и распорядительному делопроизводству; это составление расписаний, прием экстернов, улучшение работы общежитий, распределение по кафедрам студентов-выдвиженцев; это приемы в институт и устройство «нулевых групп» для совершенно неподготовленных к вузу студентов, принятых по процентной норме в русле «пролетаризации»; это и такие дела, как проект издания справочника «МММИ и его специальности», и др. ... Перечислим, в хронологическом порядке, отдельные события и директорские распоряжения первых двух лет существования втуза, показавшиеся нам важными или чем-то примечательными.
13 марта 1930 г. – проект приказа Цибарта по ВММУ «О введении предмета физической культуры в учебный план высшего механико-машиностроительного училища» («на основании постановления Правительства от 19/VII-1929 г. и директив ЦК ВКП/б/»). – Физические упражнения, говорится в обосновании приказа, «не только не являются фактором, влияющим на утомляемость студента, а наоборот, устраняющим утомляемость, появляющуюся в процессе академических занятий». «Все занятия проводятся на открытом воздухе, на физкультурной площадке при Училище (около р. Яузы)», по два часа в неделю «после академических часов». Документ интересен еще тем, что, если верить вписанным от руки грифу ВММУ и дате, появился еще за неделю до официального создания ВММУ. – Приказ № 798 от 18/XII-1930 г. «о введении в уч. план занятий по физкультуре на 1-м и 2-м годах обучения» (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 2, лл. 1, 92).
8 апреля 1930 г. утверждено нач. Главтуза ВСНХ СССР Петровским «Временное положение об экстернате при Высших технических учебных заведениях ВСНХ СССР» (экстернат существал и в МВТУ, и в ВММУ). Согласно новому Положению, на учебу принимались лица, уже имеющие незаконченное высшее или среднее (но со стажем) образование, а также и без специального образования, но проработавшие инженерами не менее трех лет. 7 мая 30 года – приказ Цибарта «о работе по приему экстернов» (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 1, л. 16). Из него кое-что узнаем об экстернате в ВММУ. «1. Работу по приему экстернов, определения порядка прохождения ими экстерната и наблюдение за их работой (в соответствии с "временным положением об экстернате при втузе ВСНХ СССР от 7/IV-30 г.") – возложить на т. Сивачева. 2. Прием экстернов приурочить ко времени работы приемной комиссии. 3. Поручить инж. Сивачеву к 10 мая представить на рассмотрение т. Злотникова контингент экстернов могущих быть принятыми по отдельным специальностям, а также количество числящихся в настоящее время во ВММУ экстернов. 4. Непосредственное руководство и контроль за работой лиц зачисленных в экстернат возлагается на зав. специальностями. Директор: Цибарт»
7 мая 1930 г. – Приказ «О майском приеме» («целевом» или «внеочередном», предписанном ВСНХ). «Начало занятий установить 11 мая» (ЦГАМ Ф. 1992, оп. 4, д. 1, л. 14). – 29 июня 1930 г. на Бюро ячейки ВКП(б) ВММУ Цибарт отчитывается о проведенном наборе, и приводимая им статистика весьма выразительна; также важно упоминание о низком уровне подготовки принимавшихся и учреждении во втузе «нулевых групп» для их предварительного доучивания. – Всего было принято в тот набор 429 человек, из них рабочих 73,9%, детей рабочих – 11%, остальные служащие. Из подавших заявления 335 рабочих было принято 308 человек, детей рабочих – из 118 принято 44, служащих – из 111 принято 19. Членов партии и ВЛКСМ среди принятых 69,8% (чл. ВКП/б/ – 179 человек, ВЛКСМ – 102). «По подготовке: рабфак – 132 чел., техникумы – 19 чел., остальные курсы по подготовке во ВТУЗ"ы, причем качество подготовляемых слабое, нами для этой цели организован для слабо подготовленных триместр, для того, чтобы они подогнали математику и физику. … В счет парттысячи приема не было, в счет профтысячи принято 69 чел. из них 4 женщины» (ЦГАМ /ОХД ОПИМ/ ф. П-158, оп. 1а, д. 3, л. 28). Итак, в мае 1930 г. в училище было дополнительно принято множество негодных учащихся: ср. цифру в 787 чел. последующего планового сентябрьского набора, и 429 чел. майского.
Дирекция МММИ, как обычно во время приемов, получает множество заявок на зачисление подходящих в классовом отношении товарищей без экзаменов от рабфаков, разного рода курсов, других организаций. Вот для примера одно из таких писем: «Ячейка ВКП(б), завком и администрация Палаты мер и весов РСФСР ходатайствует о зачислении т.т. ГРИГОРЬЕВА, МИХЕЕВА, КУЗИНА и ВАСИЛЬЕВОЙ в институт по разверстке МСНХ (на 7 чел.). / Непринятие почему либо вышепоименованных товарищей ставит под угрозу подготовку пролетарских кадров, т.к. досрочное из"ятие из учреждения 15-ти чуждых рабочему классу специалистов требует срочного пополнения пролетарскими специалистами, каковыми и являются посланные к В/товарищи.- / Секретарь яч. ВКП(б) (Савельев) / Председатель завкома (Митарев) / Начальник Палаты (Орловский)» (ЦГАМ ф. 1992, предоставлено И. Ивановым).
В нарушение хронологии – об упомянутом сентябрьском наборе. Все тот же «значительный процент рабочей и партийной прослойки», и то же «неблагополучие в постановке довузовской подготовки». – 6 октября 1930 г. – заседание Бюро ячейки ВКП(б) ВММУ. Из заключительного слова Цибарта: «работу в части приема 780 чел. считать правильной, мы это количество обслужим и уже обслужили...». В резолюции заседания говорится: «1. отметить как положительные достижения дирекции: а) увеличение плановых контингентов приема, установленных ОНК в соответствии с внутренними возможностями Училища до 787 человек. б) Значительный процент рабочей и партийной прослойки … в) Снабжение всех учебных групп нового набора учебными планами и программами первого триместра. г) Проведенную среди студентов сентябрьского приема самопроверку по довузовской подготовке, что дало возможность путем перевода неподготовленных в нулевые группы, обеспечить однородность подготовки студентов в основных группах.» «Отмечая, что большой процент перевода студентов в 0 группы (102 – 13%) сигнализирует неблагополучие в постановке довузовской подготовки в ряде учебных заведений (провин. курсы по подготовке во втуз, отд<ельные> рабфаки и т. д.) считать необходимым а) поставить перед соответствующими организациями вопрос о привлечении к ответственности тех учебных заведений, которые передали в вуз"ы явно неподготовленных слушателей, даже не прошедших полностью программу довузовской подготовки, б) поставить перед Г.П.К. [главпромкадры] вопрос о перенесении опыта проведения самопроверки на остальные втуз"ы» (ЦГАМ /ОХД ОПИМ/ ф. П-158, оп. 1а, д. 3, лл. 62об, 64). В соответствии с этим решением ячейки, Цибарт обращается с письмом «о недостаточной подготовленности в академическом отношении октябрьского [сентябрьского] приема 1930 г.» в Сектор кадров ВСНХ СССР. Удивительно как то, что сами партийцы ВММУ обескуражены уровнем принимаемых, так и то, что Сектор кадров дает письму Цибарта ход (об этом см. далее, реакция Сектора кадров от 20 декабря 1930 г.) – в то время как снижение уровня образования было слишком явно предопределено «генеральной линией» ВКП(б).
6 июля 1930 г. – Передача Металлографической и лаборатории Технического анализа из ВХТУ в Высшее Механико-машиностроительное Училище (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 1, л. 79).
10 сентября 1930 года ВММУ передаются студенты бывшего факультета обработки металлов ВХУТЕИНа.
13 сентября 1930 г. – Приказ по ВММУ («врид директора» Злотников): «На основании распоряжения Машинооб'единения Тульский государственный рабочий факультет перешел в ведение В.М.М.У. Зав. Рабфаком тов. ЛЕБЕДЕВ. Рабфак находится в городе Туле – Красноармейская улица...» (12 августа 1931 года этот рабфак "исключается из числа прикрепленных к МММИ рабфаков" – прикрепляется к Тульскому механическому учебному комбинату "в ведение Оружоб'единения"» (ЦАГМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 2, л. 21). (Дальнейшие отношения втуза с прикрепленными к нему техникумами мы в очерке не отмечаем.)
19 сентября 1930 года (Цибарта в училище нет, за него Злотников) ячейка ВКП(б) ВММУ исправляет свою крупную «политическую ошибку». Еще 3 сентября 1930 г. вышло обращение ЦК ВКП(б) «Ко всем партийным, профсоюзным и комсомольским организациям», под шапкой: «Все силы партии, все силы рабочего класса на выполнение промфинплана, на обеспечение программы третьего года пятилетки!». Втузы в обращении не упоминались, но от сознательной общественности требовалась «самоорганизация», и в бюллетене штаба Бауманского райкома «Боевая тревога» от 15 сентября ВММУ обвинили «в медлительности реализации обращения ЦК, в саботаже принятия вызова инж.-экон. ин-та им. Рыкова на лучшую реализацию обращения ЦК и в оппортунистическом руководстве организацией»; где-то даже прозвучало, что «в училище попахивает рамзиновщиной». В прениях на партсобрании 19 сентября активен, в частности, младшекурсник и бывший рабфаковец П.М. Зернов: «Значение обращения ЦК и не реализация не нашли быстрого отражения в руководстве бюро ячейки. В этом подлинно оппортунистическая ошибка. Развернутые штабы как наш, так и районный работают плохо. Ошибка бюро не случайна, в прошлом имели не менее важные политические ошибки, это рапорт XVI с"езда, в части выполнения Ноябрьского решения ЦК и др. С учебными планами дело все время тревожное. Решение парторганизаций дирекцией не выполняется. Темпы работы бюро недостаточны»... В резолюции собрания констатируют, что «под руководством райкома партии им было проведено ряд мер по самомобилизации студенческих масс и по исправлению вышеуказанных ошибок. 1) Парт. проф. организация Училища об"явив себя самомобилизованной ... уже выделила в распоряжение Районного штаба свыше 100 человек квалифицированных рабочих из студентов, для помощи предприятиям района в выполнении ими промфинпланов. Выделенные т.т. уже работают на производстве, в сверхурочное время выполняя вместе с тем свою учебную работу...» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 1, л. 45об).
1 октября 1930 г., приказ Цибарта: схема «непрерывного учебного года» «должна войти в жизнь с 1-го января 1931 года» (ЦГАМ Ф. Р-1992, оп. 4, д. 2, л. 41). Это – исполнение директивы ноябрьского пленума 1929 г.; видимо, оно было слишком трудно осуществимо, да и бесполезно (с 1933-го года учебный год выстроен уже нормально, практически таким, как в настоящее время). Как и в других втузах, «учеба была переведена на непрерывный год и непрерывную неделю. Приемы во втузы были приурочены не к учебному году, а к триместрам» (Петровский, Втузы...). В будущем Всесоюзном комитете по высшему техническому образованию об этой реформе расскажут так: «Затевалась например такая реформа, как беспрерывный учебный год (затея Всехимпрома), сводившаяся к трем приемам студентов в год, а следовательно к многократному чтению одних и тех же курсов лекций в год, что превращало профессора в граммофон» (Высшая техническая школа 1934 № 1).
9 октября 1930 года – приказ по ВСНХ СССР № 2112. «...Дополнить персональный состав Совета по кадрам промышленности при Главпромкадре следующими товарищами»: «...от ВММУ – т. Цибарт А.А.» (ЗПК 1930 № 2-3).
31 октября 1930 года – приказ Цибарта по ВММУ № 678: документ о рождении Бауманского. 28 октября 1930-го года приказом ВСНХ СССР, по ходатайству ВММУ, училище переименовывается в МММИ (Московский механико-машиностроительный институт) им. Н.Э. Баумана. «...Принять надлежащие меры к широкому осведомлению парт. и общественных организаций [МММИ] к проведению в жизнь приказа № 2222 по ВСНХ СССР.» (Этой теме посвящена своя рубрика, см. выше.)
Того же числа, 31 октября 1930 года, через два дня после переименования ВММУ в МММИ им. Н.Э. Баумана, на крыльце перед актовым залом устанавливается памятник Бауману (ЦГАМ Ф. П-158, оп. 1а, д. 3, лл. 21, 47об); торжественное открытие памятника попадает в кинохронику (см. Губайдулин).

Центральный вход в МММИ им. Баумана, зима 1930/1931 г.
Фото с сайта ГОСКАТАЛОГ.РФ
(На фасаде виден фрагмент названия втуза "Высшее механико-машиностроительное училище ВСНХ СССР", как называлось МВТУ с 20 марта по 28 октября 1930 г., когда было переименовано в МММИ им. Н.Э. Баумана (с 5 января 1932 г. НКТП ССССР). Но памятник Бауману уже установлен (31 октября 1930 г.)
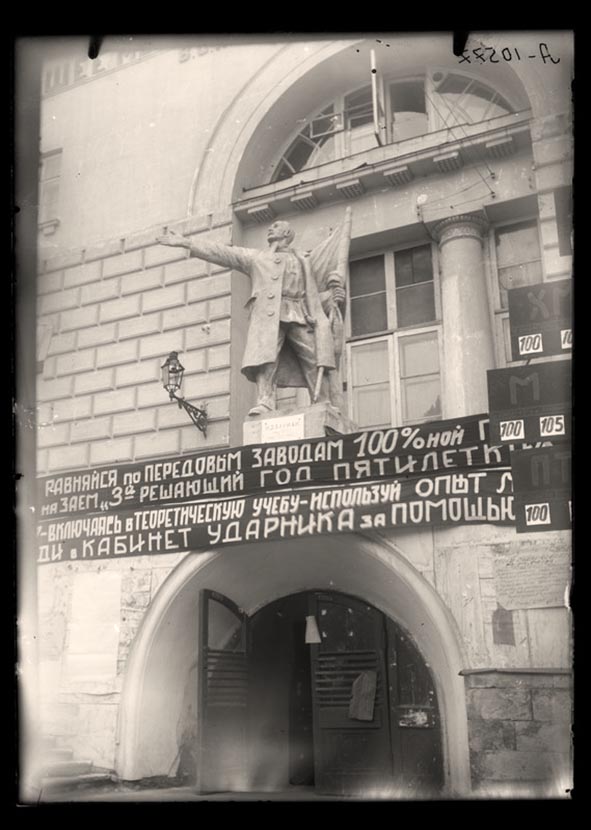
Центральный вход в МММИ им. Баумана, 1931 г.
Фото с сайта ГОСКАТАЛОГ.РФ
(К датировке снимка: облигации займа "3-й решающий год пятилетки" – см. на плакате – выпущены только в июне 1931 г.)
5 ноября 1930 года: при МММИ открываются «Курсы красных директоров». (Этой занимательной теме – занимательной, поскольку «красные директора» крупнейших предприятий, отряженные на эти курсы, почти поголовно не имели даже среднего образования – здесь посвящена отдельная рубрика.)
10 ноября 1930 года: организуется технико-экономическое отделение. «Предлагаю ТЭО к 15/XI по утвержденным ВОМТ учебным планам, организовать на VII и IV триместрах за счет имеющихся групп, группы по специальности "рационализация производства"…» (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 2, л. 62). – 21 декабря 1930 года: «Технико-экономическое отделение, в основном, определило свое лицо, профиль выпускаемого специалиста и заняло вполне определенное место в учебной системе МММИ...» (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 2, л. 97). – Видимо, эта структурная единица, предписанная Всесоюзным объединением тяжелого машиностроения, была не совсем органична: в уставе МММИ им. Баумана 1933-го года (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 7) она уже не упоминается.
7 декабря 1930 года. «1. Для проработки всех вопросов связанных с приемом специальности "Химическое машиностроение" в учебную систему МММИ организовать комиссию в составе: / Зам. Директора И-та т. Воробьева М.И. (Председатель комиссии) / представителей кафедры "Химия" проф. Герке Ф.К. / Доцента Грибова К.А. / Представителя планово-контр. сектора тов. БРИККЕР / Учебно-производственного отдела тов. БРЖЕЗИЦКОГО и представителя ВОМТа…» (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 2, л. 84). – Волюнтаристское разделение втузов, как видим, привело лишь к дублированию специальностей.
20 декабря 1930 года. Весьма любопытный момент в истории «реконструкции»: Цибарт делает все, что может, для спасения образования, и в ВСНХ с его подачи принимают решение, идущее прямо вразрез с политикой ВКП(б). – Из письма Сектора кадров ВСНХ СССР начальникам отдела кадров объединений: «Прилагая при сем копию письма директора Высшего механико-машиностроительного училища тов. Цибарт о недостаточной подготовленности в академическом отношении октябрьского приема 1930 г., Сектор кадров ВСНХ СССР предлагает вам: 1. Предложить подведомственным вашему объединению втузам, техникумам, рабфакам и предприятиям, при которых организованы курсы по подготовке во втузы, обратить самое серьезное внимание на качество подготовки учащихся на этих курсах. Для чего: а) организовать на курсах с участием представителей от втузов проверочные испытания по математике и физике для оканчивающих курсы и выдавать удостоверения об окончании курсов только тем лицам, которые успешно проработали программу курсов...»; «3. Довести до сведения заведующих курсами, а через них и до преподавательского состава самих курсов, что в случае обнаружения лиц, неподготовленных к учебе во втузе и выпущенных курсами, будет возбуждено судебное преследование не только против заведующего курсами, но и соответствующих преподавателей...»
27 декабря 1930 г. – Цибарт все-таки пытается проводить какой-то отбор среди поступавших в МММИ «по академическому признаку», но эти его попытки пресекаются:
«МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ.
27/XII-1930 года. № 167/0181/864.
Дирекции МММИ. Копия: Тульскому Рабфаку.
В МОБПролетстуда поступили сведения, что Вами проводятся испытания т.е. экзамены академических знаний у лиц, окончивших Рабфаки. Поскольку вводимая Вами система экзаменов противоречит постановлению Союзного правительства от 19/II-24 г., настоящим МОБПролетстуда в категорической форме настаивает на прекращении этой системы, сделав соответствующие распоряжения Вашим Проверочным Комиссиям.
Председатель МОСПС МОСПС: /подпись - СЕДОВ/»
16 марта 1931 года. Одно интересное, хоть, на наш взгляд, и спорное начинание: организация в МММИ «психогигиенического кабинета». Авторство идеи, как и дальнейшая судьба этого кабинета в Бауманском нам неизвестны, кроме только факта, что в структуре МММИ 1933 г. подразделения с таким названием не числится. Меж тем в некоторых других втузах, в дальнейшем, такие отделы существуют (см. напр.: Высшая техническая школа 1935 № 4, проф. Д.И. Азбукин, Работа психогигиенического отдела МИИТ: «Он возник на основе учета накопленного уже опыта психогигиенической и психотехнической работы при вузах и втузах. Кроме нашего советского опыта, отдел положил в основу своей деятельности также опыт психогигиенической работы в зарубежной высшей школе», и др.). – Итак, «Задача кабинета – профилактика невропсихического здоровья и рациональная организация учебной и бытовой жизни студентов, рабочих, сотрудников и научных работников МММИ с точки зрения психогигиенической. Функции кабинета: 1. Выработка нормативных психогигиенических показателей для приема, текущей учебно-производственной работы студентов и определения пригодности их по специальностям; выработка нормативных психогигиенических показателей для научных кадров и преподавательского состава. 2. Выявление и установление закономерностей в психогигиенической жизни Ин-та, в целях наиболее продуктивного использования и организации учебной работы, как теоретической, так и на непрерывном производственном обучении. 3. Отбор по спискам Приемной Комиссии кандидатов в студенты МММИ, путем психогигиенического обследования для установления а) невропсихической полноценности кандидата в студенты, б) сопротивляемости, в) приспособляемости, г) умственной работоспособности, д) одаренности, е) устойчивости внимания, ж) об"ема внимания, з) комбинаторных способностей, и) технической наблюдательности, к) точности воспринятия, л) конструктивного воображения, м) технической сообразительности, н) характериологических особенностей, необходимых для индивидуального подхода ...» (Приказ директора № 165, приложение. ЦГАМ, ф. Р-1992, оп. 4, д. 5, л. 2.)
22 апреля 1931 года. Очередная причуда невежественного партийного чиновничества, которой надо подчиниться или сделать вид, что подчиняешься. «...Решением ЦК РКИ [Рабоче-крестьянской инспекции] перед МММИ поставлена задача, повысить качество учебной работы студенчества на базе проработки и выполнения конкретных заданий промышленности. В первую очередь эта задача должна быть решена в отношении академических проектов, графических работ и лабораторных занятий. В осуществление этого 14-го марта с.г. мною были даны конкретные указания заведующим специальностями...» (ЦГАМ, ф. Р-1992, оп. 4, д. 5, л. 21). – Можно представить себе, как студенты, обучавшиеся по «бригадной системе» и т.п., выполняют задания промышленности! Это удивительное решение РКИ было явно невыполнимым, но РКИ не сдавалась: «Постановление ЦКК НК РКИ [Центральной контрольной комиссии и Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции] о реальном проектировании состоялось 18 мая 1931 г. Постановление категорически требовало, чтобы академическая работа студентов втузов и техникумов была использована для выполнения заданий промышленности и транспорта и чтобы все студенты третьего и четвертого курсов были переведены на работу по промышленным заданиям» (ЗПК 1932 № 7-8 с. 58). В дальнейшем еще какое-то время сообщается об успехах в этом направлении...
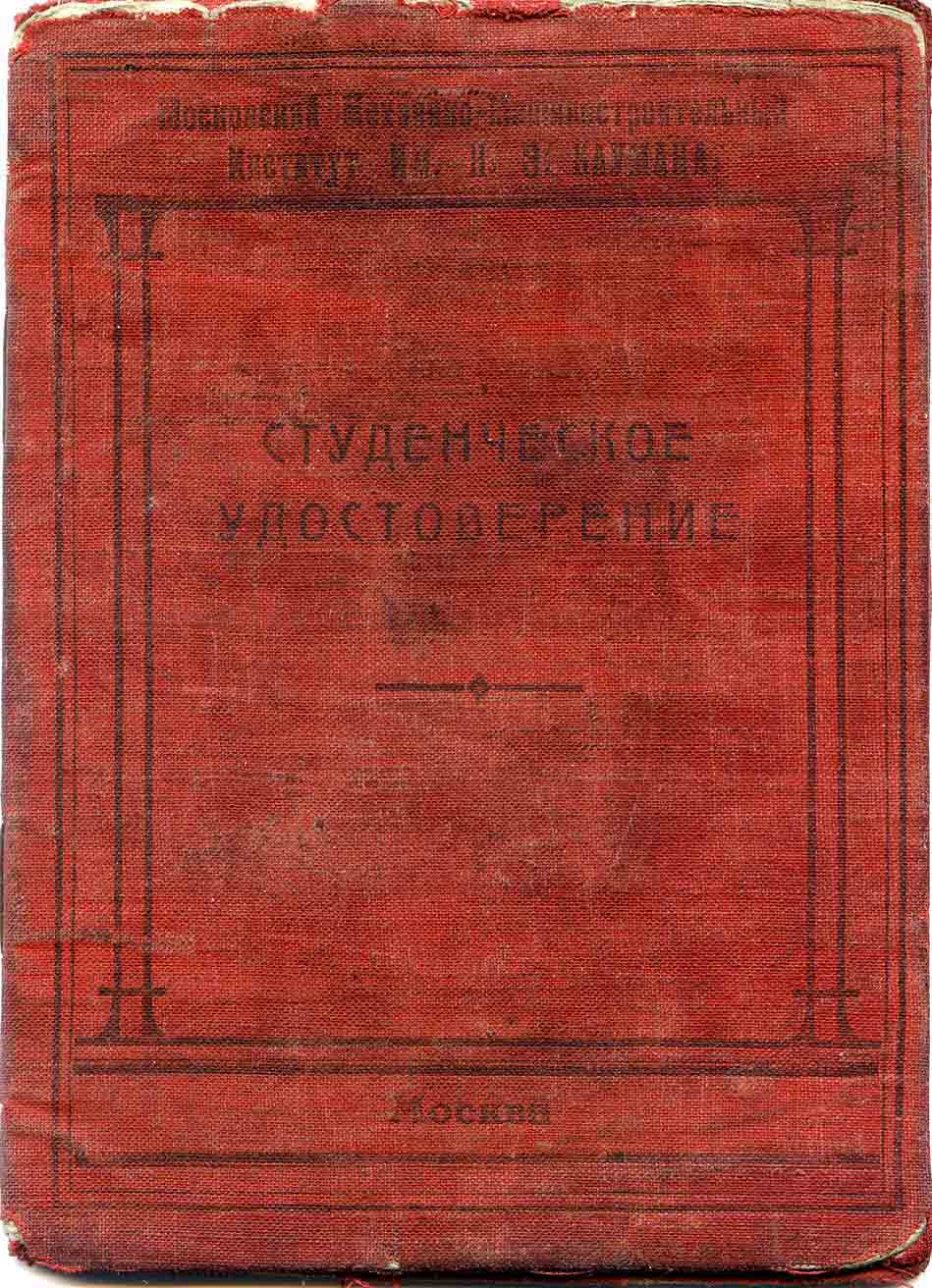
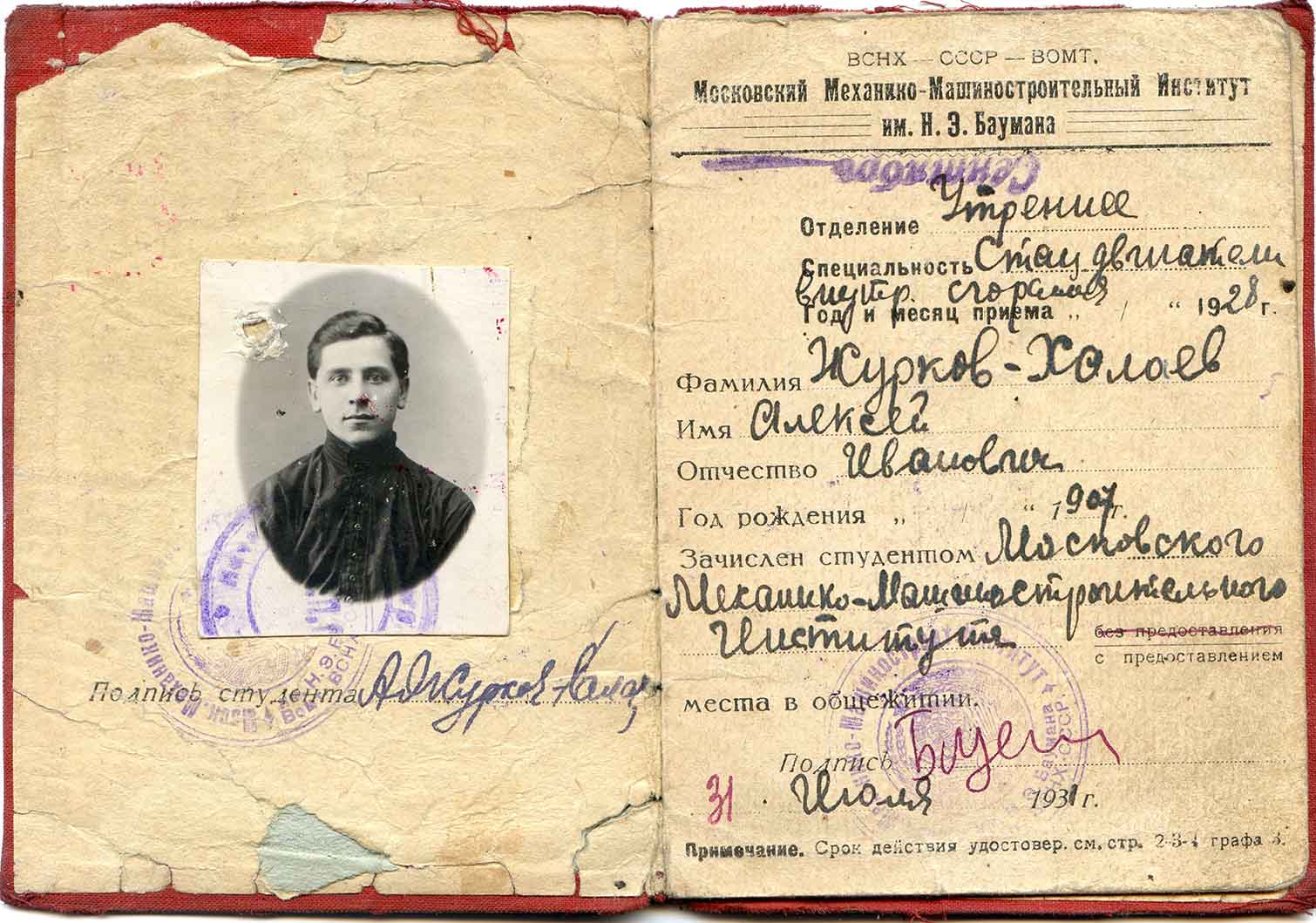
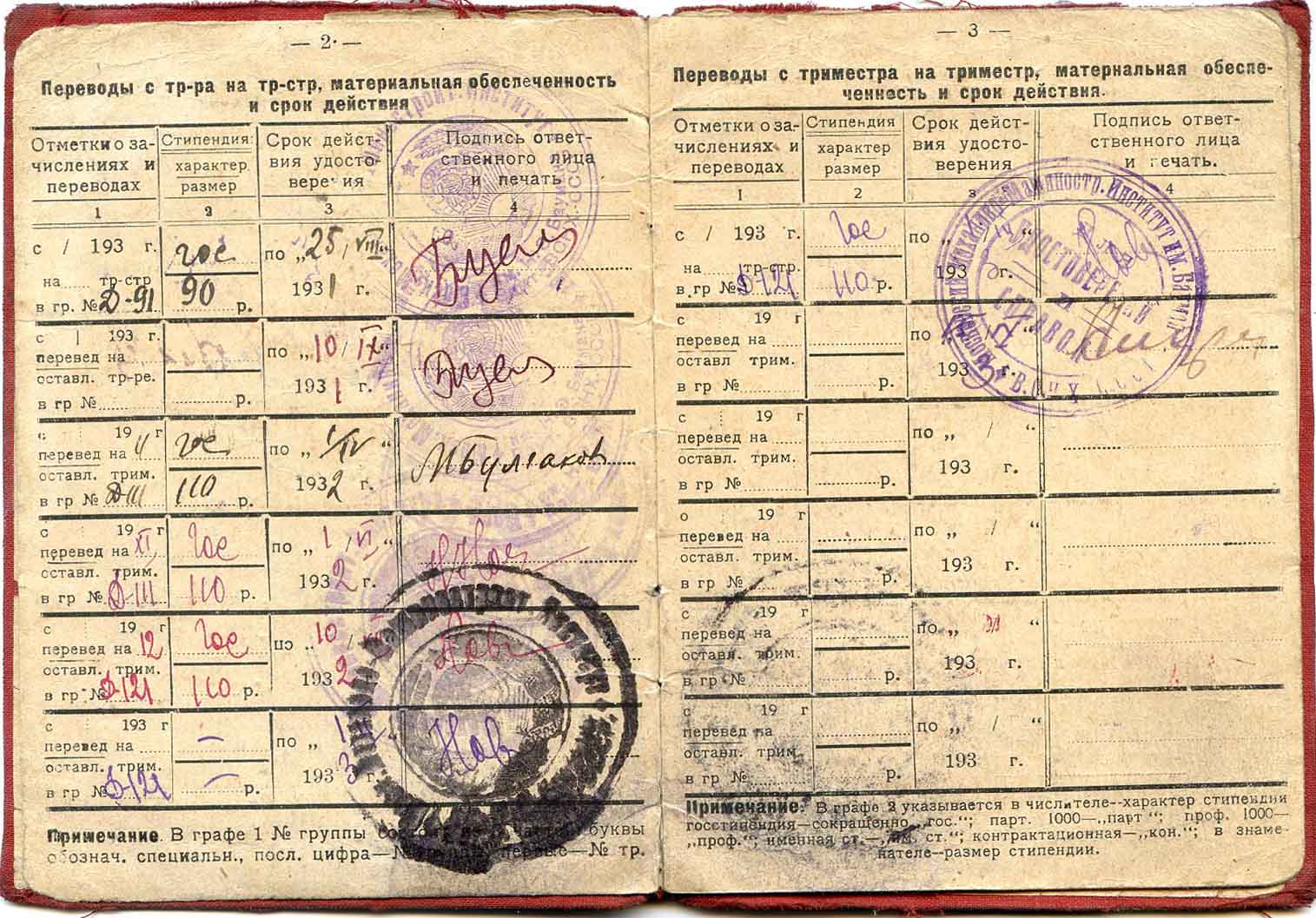
Студенческое удостоверение МММИ им. Н.Э. Баумана, 1931 г.
(размер в закрытом виде 134Х94 мм)
27–28 мая 1931 г. – Самостоятельность отделений и хозрасчет в МММИ (видимо, имеются в виду лаборатории, объединенные в скором будущем в Научно-исследовательский комбинат). – Об этом ленинградский профессор Н.В. Красноперов в своем докладе 27–28 мая упоминает следующее: «...Опыт учебной работы текущего учебного года показывает необходимость углубления самостоятельности отделений [Ленинградского машиностроительного] Института, как учебно-производственных единиц. Это углубление предполагается осуществить с одной стороны при помощи перевода их на хозрасчет, ... с другой же, путем создания при отделениях Советов отделений по образцу уже введенных в Московском Механико-Машиностроительном Институте им. Н.Э. Баумана. ... В состав совета входят представители: преподавательского состава, аспирантуры, партийных и профессиональных студенческих организаций, базовых заводов Отделения, заинтересованных в работе Отделения Научно-исследовательских и прочих учреждений и заинтересованных в работе Отделения союзов. Председателем Совета является заведующий Отделением» (См.: Красноперов...).
30 октября 1931 года. Приказ № 801. – Любопытное явление в истории советской экономики: негосударственные займы. – «В борьбе за индустриализацию страны; в борьбе за подготовку кадров и овладение техникой все большие массы студенчества втягиваются в социалистическое соревнование и ударничество. / Для стимулирования этого движения большое значение имеет премирование ударников-студентов, профессоров и преподавателей, отличившихся на фронте борьбы за учебу, на фронте борьбы за высококвалифицированного инженера. / Поощряя усилия ударников – студентов, профессоров и преподавателей в соответствии с решением 2-й партконференции Ин-та, / приказываю: выпустить в 1931–32 году "заем за качество учебы им. Сталина". Цель займа – премировать отличившихся на фронте учебы» (ЦГАМ, ф. Р-1992, оп. 4, д. 5, л. 91). – Второй заем выпускается в 1933-м году, в связи со 100-летием втуза; институтские общественники стремятся к «100-процентному охвату [сотрудников и студентов] подпиской» (см. Лучший втуз...).
27 декабря 1931 года. – Все же, на общем фоне, институт остается передовым в профессиональном плане. Одно из свидетельств тому – шефство над Уральским машиностроительным институтом. «В соответствии с договором о шефстве над Уральским Механико-Машиностроительным Ин-том и исходя из конкретных обязательств принятых МММИ в деле оказания реальной практической помощи УММИ приказываю:/ 1. Командировать в УММИ аспирантов Ин-та инж. Ларина и Грудова на срок с 1-го января по 1 апреля 1932 г. для руководства курсами "Теория резания" и "Станки"…» (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 5, л. 141). Позже, в ноябре 1932-го года Цибарт упоминает об этом шефстве: «Наш институт взял шефство над Уральским машиностроительным институтом, и это шефство он осуществляет не на словах, а на деле. К октябрьским торжествам мы послали наших товарищей на Урал для помощи в деле перестройки Уральского машиностроительного института, послали в начале года ряд преподавателей, чтобы вести там несколько курсов, по которым на Урале нет преподавателей, взялись подготовить в нашем вузе часть аспирантуры с Урала на базе наших лабораторий, силами нашей профессуры и в дальнейшем предполагаем выделить преподавателей и учебные пособия для своего подшефного Уральского машиностроительного института» (Лещинер, Цибарт).
8 января 1932 года в МММИ учреждается Бюро реального проектирования для профессуры и аспирантуры (к этому мы вернемся в следующей рубрике).
9 января 1932 года. Штрих к картине эпохи. Лишается должности и отстранен от педагогической деятельности преподаватель: «Констатируя, что при проработке письма тов. Сталина в редакцию журнала "Пролетарская революция" [№ 6, 1930, "О некоторых вопросах истории большевизма"] руководитель кафедры "Ленинизм" тов. МИСЬКЕВИЧ пытался протащить контр-революционный троцкизм в вопросы оценки позиции большевиков в период между февральской революцией и апрельской конференцией 1917 г. и в ряде других вопросов, приказываю…» (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 6, л. 8). Это не инициатива А.А., а общее решение партийцев института. «...Бюро ПК отмечает: грубейшие политические извращения, допущенные докладчиком тов. МИСЬКЕВИЧЕМ на собрании партячеек ЛД и ТЭП. / В своих ответах на заданные вопросы тов. МИСЬКЕВИЧЕМ была дана клеветническая установка о несвоевременности реагирования ЦК нашей партии на прорыв, имевший место на историческом фронте, в силу занятости ЦК международными и хозяйственными вопросами. Далее тов. МИСЬКЕВИЧ допустил явное извращение, не разграничив позиции партии т. СТАЛИНА от оппортунистической позиции т. КАМЕНЕВА в период времени – февральско-мартовской революции 1917 года, не сказав о последовательной позиции большевиков в частности – т. СТАЛИНА – как по общим вопросам революционной теории, организационных принципов и тактики . . . . особенно по вопросу перерастания буржуазно демократической революции в социалистическую. / Такое истолкование позиции большевиков и т. Сталина льет воду на мельницу контрреволюционного троцкизма, пытающегося фальсификаторским путем обосновать теорию перевооружения большевизма...» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 7, лл. 186, 167. 25 декабря 1931 г.).
20 февраля 1932 года. «Придавая актуальнейшее значение для учебно-производственной работы Ин-та, развернувшейся в газете "Техника" дискуссии "о социалистической теории машин" и, считая совершенно необходимым активное участие в ней научно-педагогических сил Ин-та, приказываю: …» (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 6, л. 58). Эта теория в СССР активно развивается: «Пронизать науку о машине марксистско-ленинской методологией» (название статьи в журнале «За промышленные кадры» /1932 № 9/; есть в статье и такая рубрика: «Машина капиталистическая и машина социалистическая»).
В 1932-м году в МММИ возвращается специальность «Текстильное машиностроение». «В соответствии с распоряжением по Сектору Кадров ВСНХ РСФСР от 17/IX-1931 г. за № 149/30 о передаче специальности "Текстильное машиностроение" из Московского текстильного И-та в систему Московского механико-машиностроительного И-та им. Н.Э. Баумана приказываю ...» (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 6, л. 15).
* * *
5 января 1932 г. ВСНХ СССР, в ведении которого находился МММИ им. Н.Э. Баумана, был преобразован в Народные комиссариаты тяжелой, легкой и лесной промышленности, и МММИ переподчиняется НКТП СССР (нарком – тот же Орджоникидзе).
«2600 хозяйственников сдали техминимум, прошли первый год технической учебы...
Это "взрослые дети", как назвал их в своем вводном слове зам. наркома НКТП тов. Каганович.
Большевистская школа подполья, огромный организационный опыт подкреплены ныне изучением техники.
Итоги техминимума это – 70% "студентов" имели лишь низшее образование...»
(Варлам Шаламов. Победа большевистской воли. 1935)
...«В 1931 году все 100 процентов красных директоров промышленности должны быть охвачены учебой» (ЗПК 1931 № 1).
Отдельная сторона деятельности МММИ времени директорства Цибарта – обучение директоров крупнейших предприятий. Задача имела свою специфику: «...смело можно сказать, что удельный вес инженеров в директорском составе ... союзных предприятий ... вряд ли превышает 3%, что в абсолютных цифрах дает всего лишь около 50 чел. на 1500 союзных предприятий» (ЗПК 1931 № 1, с. 24).
5 ноября 1930 года ВОМТ (Государственное всесоюзное объединение тяжелого машиностроения ВСНХ СССР) передает МММИ им. Баумана «курсы красных директоров». Курсы были дневные, со сроком обучения 14 мес. включая полтора месяца (согласно же удостоверению закончившего курсы, месяц) производственной практики. Больше всего часов учебного плана отводилось на элементарную математику (310), техническую механику (192) и холодную обработку металлов (120), меньше всего – на логарифмическую линейку (18) и военное дело (10); 84 часа, столько же, сколько и физике, отдавалось русскому языку. Вопросам текущей политики и основам ленинизма посвящалось по 72 часа. Преподавались также химия (металлов), экономгеография, экономика советского хозяйствования, тепло-силовое оборудование и его эксплуатация, электротехника, сварочное дело, организация предприятия, техническое нормирование, экономика труда, калькуляция и отчетность, рационализация сборки и непрерывный поток, техно-экономическое проектирование, метод учета и планирование рационализаторских работ, новейшие достижения машиностроительной техники, горячая обработка металлов, инструментальное дело, литейное дело, металлургия и общие свойства металлов. Производственное обучение посвящалось вопросам организации производства, отчетности и калькуляции, промфинплану, учету и планированию рационализаторских работ.
Из поступивших на курсы 40 человек к финишу 8 февраля 1932-го года подошли только 30. «По своему социальному и партийному составу курсы не оставляли желать лучшего: рабочих 100%, партийцев также 100%, все с большим производственным стажем, в среднем до 15 лет каждый, многие уже имели значительный административный стаж»; увы, «...серьезным тормозом в работе был серьезный разнобой в уровне общей подготовки курсантов. Преобладающим большинством были люди с низшим образованием, несколько человек со средним и несколько человек с элементарной грамотностью»... Впрочем, сообщает автор этих цитат, «необходимо отметить высокую посещаемость занятий, дисциплинированность самих хозяйственников, которые проявили большевистское упорство и настойчивость в своей работе для осуществления лозунга т. Сталина "овладеть техникой, самим стать хозяевами"» (ЗПК 1932 № 5, сс. 57–59).
Таким образом, с командирским составом промышленности, в котором преобладающим большинством были люди с низшим образованием, осуществилась первая пятилетка индустриализации. Партия воистину не искала легких путей...
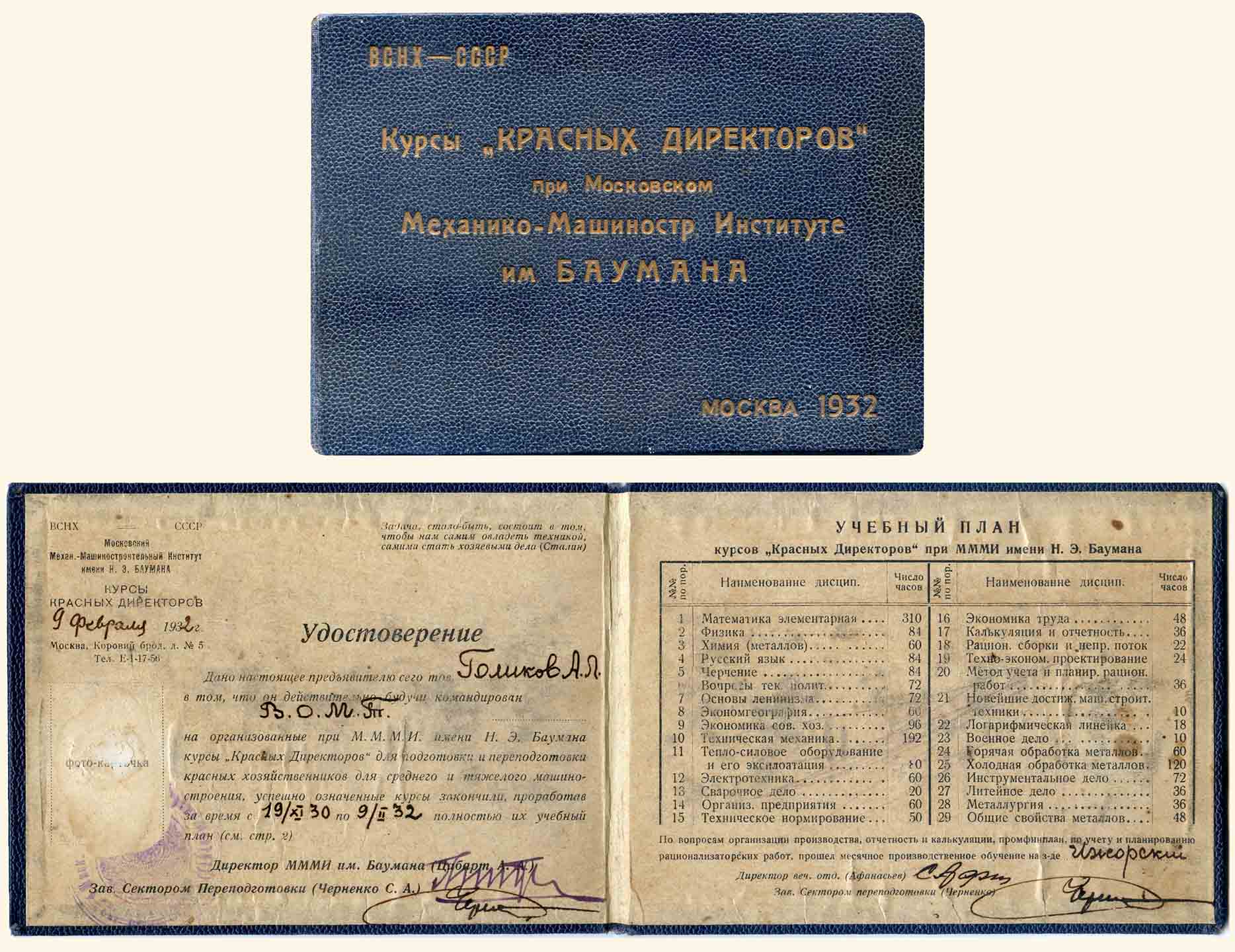
Удостоверение окончившего курсы:
«ВСНХ – СССР / Курсы "КРАСНЫХ ДИРЕКТОРОВ" / при Московском / Механико-Машиностр. Институте / им. БАУМАНА / Москва 1932»
(размер 10Х14 см)
Выпуск «красных директоров» 1932-го года был единственным. Курсы сменяет другая структура.
В конце 1931-го года в стенах МММИ им. Баумана (в корпусе его механических лабораторий) появляется т.н. «факультет особого назначения» – ФОН. Это не вполне факультет самого́ МММИ: официально ФОНы, размещаемые тогда в некоторых втузах, назывались «факультеты особого назначения для хозяйственников при Государственном электро-машиностроительном институте имени Я.Ф. Каган-Шабшая». Но у Цибарта имеется заместитель по ФОНу – ФОН одновременно и в структуре МММИ.
Проф. Я.Ф. Каган-Шабшай, известный широкой публике как коллекционер еврейской живописи – основатель, директор и фактически владелец ГЭМИКШ (Государственного электромашиностроительного института его собственного имени). Задачей его ФОНов было ускоренное обучение крупных хозяйственников без отрыва от производства. Первый ФОН, как сообщает Каган-Шабшай, возник при ГЭМИКШ «через месяц после речи Сталина на совещании хозяйственников», затем ФОНы появились при МММИ и МЭИ. Ко второй половине 1933 г. в СССР насчитывалось 17 ФОНов.
Из заметки Я.Ф. Кагана-Шабшая «Факультеты особого назначения в системе технического образования» (ЗПК 1932 №23-24) можно узнать об этой необычной структуре подробнее. «НКТП создал целую систему таких факультетов с общим Управлением факультетами особого назначения (УФОН). Согласно утвержденному НКТП Положению ФОНы являются самостоятельными высшими техническими учебными заведениями или правильнее по существу факультетами одного общего высшего технического учебного заведения, выпускающего инженеров с резко выраженной специализацией (различных отраслей и специальностей); студенческий состав ограничивается исключительно кадрами хозяйственников – командиров промышленности, а учебные занятия происходят без отрыва от работы, т.е. в неслужебное время, по специально созданным для этого учебно-методическим и учебно-организационным формам и принципам. Срок обучения принят в среднем 3-4 года, меняясь индивидуально, применительно к академическим данным каждого студента. Объем проходимых дисциплин – нормальный втузовский». «ФОНы являются не курсами, а стационарными втузами.» «Никакой предварительной академической подготовки от поступающего не требуется, ибо занятия идут применительно к индивидуальным данным студента и имеется специальное подготовительное отделение, создающее хорошую физико-математическую базу для прохождения втузовского курса. Вся система фонов, возглавляемая УФОНом, по существу уже сейчас представляет собой мощный втуз.» «ФОНы возникли и могут существовать только в условиях советской социалистической страны и являются настоящим детищем Октябрьской революции.»
Я.Ф. Каган-Шабшай был ярким, беззаветным – и первым в СССР – представителем того направления в техобразовании, которому, к счастью, был положен конец решением ЦИК 19 сентября 1932 года. Созданный им ГЭМИКШ еще до решений пленумов ЦК выпускал инженеров за 2-3 года, причем 4 дня в неделю студенты работали на заводах.
|
С удовлетворением для своего чувства объективности, заметим, что по меньшей мере один не-конъюнктурный энтузиаст идеи «поскорее выпустить на производство» имелся и среди крупных ученых. В ФОНах Каган-Шабшая эта идея доживала свой век и после 19 сентября 1932 г. – «Институт [ГЭМИКШ] не получал ни копейки от государства. В основном доходы поступали от студентов. Работая на практике, они получали зарплату наравне с рабочими. Зарплата переводилась прямо в кассу института. ... В ту же общую кассу Яков Фабианович вкладывал и свои деньги. Он был крупным специалистом в области электротехники и по совместительству работал в ГЭТе (Государственном электротехническом тресте), а также на нескольких иностранных концессиях. Почти всю свою зарплату он переводил в своё любимое дело – институт. Он был одержим идеей – создать ускоренное, истинно производственное обучение командиров промышленности. Он так объяснял свою позицию: – Сейчас в России не такой момент, чтобы тратить время на пятигодичное обучение. Готовить инженеров широкого профиля, как это делает МВТУ, которых ещё потом надо доучивать, как молоток держать, непозволительная роскошь. Нам нужны узкие специалисты, нам нужно быстро восстанавливать промышленность, пополнять поредевшие кадры технических специалистов, чтобы все они умели всё делать своими руками лучше любого рабочего! Наркомпрос, которому тогда подчинялись все ВУЗы и ВТУЗы, не раз предлагал Каган-Шабшаю взять Институт на своё иждивение. Но Яков Фабианович с негодованием отвергал эти предложения: – Чтобы я продался за чечевичную похлёбку? Дудки, не на того напали! Какие хитрые гуси (от слова ГУС – Государственный учёный совет – так называлась тогда коллегия Наркомпроса)! Они понимают, что тот, кто платит, тот заказывает музыку. За деньгами последуют их дурацкие программы: широкий профиль, лишние предметы, летние каникулы… Не надо. Руки есть, голова есть, сами заработаем. И будем гнать на производство инженеров по 40 человек каждые четыре месяца». «Мы [студенты ГЭМИКШ] быстро становились патриотами Института и системы Каган-Шабшая, которая наделала в те годы немало шума. Мы дружно презирали "гусей" из Наркомпроса и белоручек из МВТУ. Надо сказать, что, хотя через несколько лет Якову Фабиановичу свернули шею как представителю "частной инициативы", однако многое из его системы переняли для всех технических вузов под названием "трудового обучения" [НПО – непрерывного производственного обучения]». (см.: Арманд, Путь теософа в стране Советов). |
Насколько неэффективны оказались ФОНы, выяснится довольно скоро (об этом ниже). В конце 1932-го года «начальник УФОН т. Каган-Шабшай» отмечает, конечно, «крупные успехи, достигнутые факультетами особого назначения, оправдывающие эту форму подготовки руководящих кадров хозяйственников, – 130 фоновцев [по всем ФОНам] уже перешли на втузовский курс». Но, примечательно, что в само́м ГЭМИКШ дела не так хороши. Обозреватель «За промышленные кадры» Л. Гохенберг в одном номере со статьей Кагана-Шабшая цитирует секретаря партячейки ГЭМИКШ Кузовкова: «...Вместо основательной проработки материала, как этого требует закон правительства, в нашем институте применяется беглое прохождение материала, а в результате – низкое качество подготовки»; секретарю можно было бы не поверить, но «ряд заведующих кафедрами ГЭМИКШ своими выступлениями подкрепляют выводы секретаря ячейки» (их выступления приводятся)... Если судить по положению дел в ГЭМИКШ, в результативности ФОНов можно усомниться.
К маю-июню 1933 г. самостоятельное Управление ФОНами перестает существовать, «вся работа по подготовке хозяйственников индивидуальным и групповым методом на ФОН и курсах сосредоточивается в секторе ФОН ГУУЗ» (ЗПК 1933 № 5-6). Руководителем пока остается Каган-Шабшай.
29 ноября 1933 г. приказом Орджоникидзе было предложено ввести обязательное периодическое прохождение инженерно-техническими работниками курсов по повышению квалификации. Предписывается обязательная сдача «техминимума» для крупных «хозяйственников» – руководителей производства.
Через год, в апреле 1934-го в журнале ГУУЗ «За промышленные кадры» напишут: «Одним из наиболее радикальных средств, содействующих освоению хозяйственниками новой техники, являются факультеты особого назначения (фоны), охватывающие командный состав нашей промышленности. Уже сейчас на фонах системы НКТП обучается 1800 чел., в том числе 368 руководителей объединений и трестов и их заместителей, 139 начальников новостроек, 331 директор завода и 179 начальников цехов. По подсчетам фона нужно охватить еще минимум 800 хозяйственников, не имеющих законченного технического образования». Однако «опыт работы фона показал нереальность создания из всех хозяйственников обязательно дипломированных инженеров». П.Н. Мостовенко, бывший ректор МВТУ, а до декабря 1937-го года директор Высших Академических курсов командного состава хозработников при ГУУЗ, сообщает: «в июле прошлого года мы поставили перед хозяйственниками вопрос о ненужности превращения фонов в добавочные побочные втузы. Эта точка зрения у многих встретила резкий отпор. Тем не менее мы в последнее время мы и на фонах и по нашей курсовой системе перешли к тому, что мы называем повышением квалификации». «Подготовка инженеров из хозяйственников нереальна...» (ЗПК 1934 № 7). «3 мая на совещании у начальника ГУУЗа был заслушан отчетный доклад сектора повышения квалификации хозяйственников. В решениях по части доклада т. Мостовенко, касавшейся фонов, совещание констатировало, что фоны в основном перестроились для выполнения заданий по повышению квалификации руководящих хозяйственников в духе постановлений партии и правительства. Учитывая однако, что теперь на фоны в связи с постановлениями XVII партсъезда возлагаются новые задачи, совещание признало необходимым, чтобы фоны возможно более быстро развернули работу, готовясь к полному охвату всей той группы хозяйственников, обучение которых техминимуму является обязательным согласно решениям съезда» (ЗПК 1934 № 10 /май/).
ГУУЗ создает новую систему ИПКХ – институтов повышения квалификации хозяственников. «В 1925 году в Москве были открыты первые курсы красных директоров. За 10 лет было много ошибок на пути исканий правильной формы – сочетания учебы и работы командира промышленности. Сейчас эта форма найдена» (ЗПК 1935 № 14 /июль/, цитата из речи Петровского). Когда официально были ликвидированы ФОНы, и как конкретно, по выражению бывш. студента ГЭМИКШ Д. Арманда, «свернули шею» Каган-Шабшаю, у нас сведений нет. В 1935-м году нач. ГУУЗа Петровский подводит под их существованием следующий итог: «У нас был такой период в истории обучения хозяйственников, когда обучение велось неправильно, период этот известен как "фоновский" период. Своеобразие этого периода было такое: срок обучения долгий, обещания большие: "сделать инженерами". Что получилось? Удлиненные сроки с ничтожным охватом людей и колоссальная текучесть. Сколько хозяйственников окончило во всей тяжелой промышленности по "фоновской" системе. Ответ из президиума: 4 чел. Я считаю, что может быть и эти 4 не окончили. Во всяком случае я убежден, что и пальцев двух рук достаточно, чтобы покрыть количество всех окончивших в промышленности по этой системе...» (ЗПК 1935 № 17 /сентябрь/). В 1936-м году о ФОНах вспоминают так: «на фоне обучались все, кому не лень было пользоваться индивидуальным обучением; многие использовали фон для подготовки к поступлению в вузы. В 1933 г. в результате проверки состава обучающихся фона было исключено 3/4 всего состава»; «Окончательная ликвидация фонов и перевод обучения на рельсы техминимума сразу же поставили индивидуальную учебу хозяйственников на правильный путь» (ЗПК 1936 № 8 /июнь/).
В 1934-м году вместо ФОНа в МММИ им. Баумана, по тому же адресу (2-я Бауманская, 5), действует Московский механико-машиностроительный институт повышения квалификации хозяйственников НКТП (см. Прокофьев).
Институт имел факультеты общего машиностроения, станкоинструментальный и автотракторный (см. Вся Москва 1936). «Сроки учебы, вместо установленных ГУУЗ 4 мес. для инженеров и техников … фактически затянулись до 8–10 мес.» (ЗПК 1935 № 9–10 /май/). Обучение без отрыва от производства, загрузка – 40 часов в неделю. В МММИПКХ обучаются «684 хозяйственника, преимущественно работников машиностроения ... Среди обучающихся 72 начальника главков и их заместителей, управляющих трестами и их заместителей, 167 директоров заводов и их заместителей, 216 начальников цехов, 133 зав. производственными отделами главков, трестов и крупных заводов» (ЗПК 1935 № 12 /июнь/). С техническим образованием, вообще образованием у этих крупных «командиров промышленности», творцов индустриализации, дело обстояло не лучше, чем у бывшего сельского фельдшера – наркома тяжелой промышленности Орджоникидзе (о «техминимуме» для самого́ «маршала индустрии» история умалчивает). Учиться они, естественно, не могли и не хотели. «Больших трудов стоило институтам повышения квалификации хозяйственников преодолеть инертность большинства хозяйственников к учебе. Одни считали, что учиться им поздно – "года ушли" (в институтах обучается немало студентов от 50 до 60 лет); другие считали, что на учебу не хватит времени ввиду чрезмерной перегрузки производственной и партийно-общественной работой, и некоторые считали, что им вообще не к чему учиться, что они "все могут и все знают" ... Абсолютное большинство хозяйственников в далеком прошлом учились 2–3 года в начальной школе. А были и такие, которые не учились в школе совсем и постигли элементарную грамоту самоучками» (ЗПК 1935 № 14, курсив наш)... «Высшего образования» институты ПКХ, в отличие от прежних ФОНов, уже не посягают давать, речь идет лишь о «техминимуме». Требовалось, в частности, «научить хозяйственника владеть техническими справочниками и приучить пользоваться технической литературой». Но и этот минимум для большинства хозяйственников явно был непосилен. В 1935-м году директор МММИПКХ Н.И. Алексаков, статьи которого мы здесь цитируем, писал в т.ч. и следующее (№ 9–10): «До сих пор еще есть такие "анекдоты" – руководители, которые бегают от преподавателей, прикидываются больными, передают через домработниц, что их "нет дома", а один дошел до того, что под носом у преподавателя забрался в гардероб и потом краснел перед преподавателем, как мальчишка, пойманный с поличным. Гоголевская "Коляска" – на новый лад. / Можно было бы привести много случаев форменного издевательства такого типа хозяйственников над преподавателями»...
|
Из статьи «Директор сдает зачет» (ЗПК 1935 № 19-20 /октябрь/, Гр. Литинский). – |
Некоторое отношение к МММИ им. Баумана МММИПКХ, как и прежний ФОН, имеет (кроме размещения в его стенах): его директор Алексаков – член парткома МММИ; в его совет входят маститые ученые МММИ – чл.-корр. АН СССР Е.А. Чудаков, проф. Г.А. Осецимский. («Сейчас институт получил согласие от ряда крупных специалистов участвовать в совете института. Можно указать следующие имена: проф. и член-корреспондент Академии наук Чудаков, проф. Монишев, проф. Кован, проф. Осецимский и др.» – ЗПК 1935 № 12 /июнь/.)
Вообще же, в МММИПКХ по общеобразовательным предметам «все преподаватели с высшим образованием; многие с большим педагогическим стажем, в том числе 2–3-летний стаж работы со взрослыми (на фоне и всякого рода курсах)». «Профессорские силы» поначалу «привлекались недостаточно» и только для чтения лекций, – все-таки привлекались. Однако «в связи с большим приемом по техминимуму» приходится брать и «случайных, непроверенных людей»; как мы понимаем, сомнительность задачи притягивала в т.ч. и, по выражению того же автора, «рвачей и бездельников» (там же)...
Первый выпуск подготовленных таким образом руководителей производства – событие государственной важности. «Вечер 16 августа [1935-го года] в Москве был большим праздником командиров нашей промышленности. 2600 хозяйственников сдали техминимум, прошли первый год технической учебы. Сотни их собрались в Театре Революции, чтобы отметить итоги этого года. Это "взрослые дети", как назвал их в своем вводном слове зам. наркома НКТП тов. Каганович. Большевистская школа подполья, огромный организационный опыт подкреплены ныне изучением техники. Итоги техминимума это – 70% "студентов" имели лишь низшее образование, а тов. Степанов – директор завода "Серп и молот", сдавший зачеты техминимума на сплошное "отлично", предыдущий свой экзамен сдавал... 40 лет назад» (ЗПК 1935 № 14 /июль/, В. Ш. [Варлам Шаламов]).
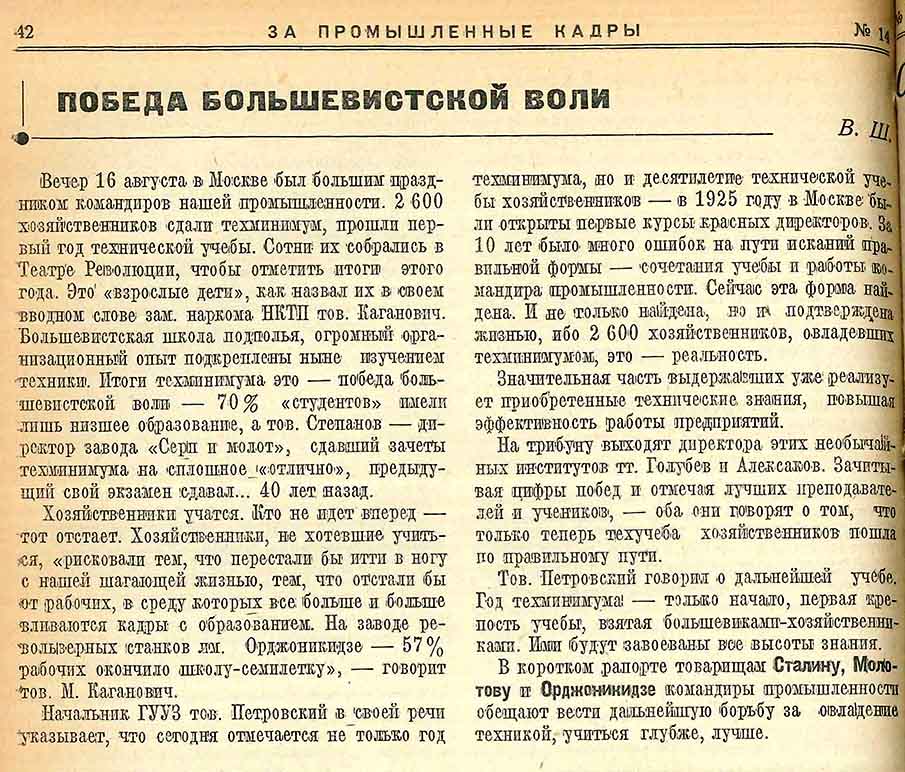
Статьи и заметки Шаламова (уже отбывшего свой первый срок в лагере, а с 1932-го года сотрудничавшего в таких изданиях, как «За ударничество», «Прожектор», «Фронт науки и техники», «За овладение техникой», «Колхозник» и др., опубликовавшего статью в сборнике «Сталинская программа технического образования рабочих», возможно, и другие подобные тексты), появляются в журнале еще с весны 1935-го года. Предугадать в этой его, явно, «литературной поденке» – будущего классика, тем более автора «Колымских рассказов» практически невозможно. При этом его очерки всегда обращают на себя внимание, как напр. статья «Заметки об отличниках» в майском № 9–10 (почему-то пропущенная в библиографии к его собранию сочинений); но эта статья только об отличниках МХТИ. Для нас досадно то, что о МММИ упоминаний почти что нет. Тут, видимо, сказалось влияние главного редактора – нач. ГУУЗа Петровского, популяризировавшего тогда МЭИ. |
В своем духе – так, что при хвалебном тоне нелепость ситуации становилась совершенно очевидной – выступал на описанном Шаламовым вечере Петровский (Выступление на Московском совещании хозяйственников, посвященном итогам техминимума хозяйственников. 16 августа 1935 г. – ЗПК 1935 № 17 /сентябрь/). – «Необходимо обратить внимание на один интересный факт: у нас обучается 6300 чел. по системе повышения квалификации хозяйственников. Из них 70% – примерно 4300 чел. – с низшим образованием. Недели две назад я принимал делегацию учебных заведений Англии. Когда мы подошли к этому разделу нашей работы, то они ничего не могли понять – "Сколько у вас инженеров"? Я говорю, что мы выпустили больше 70 тыс. чел. за последние 6 лет, т. е. в 3 раза больше, чем мы имели в 1930 г. "Как же может случиться, что при такой колоссальной армии, директора и начальники цехов не везде являются инженерами"? Я говорю, что в Америке есть такой термин self made man. Если точно перевести, это "человек, который сам себя сделал". Если взять более близкое русское слово, можно сказать "самородок". Американцы ценят этих людей больше, чем дипломников. У нас можно сказать иначе: речь идет о людях, созданных могучим рабочим классом в процессе социалистического строительства. Здесь речь идет о людях, которых выпестовала наша партия, наш великий Сталин, о людях, которые выросли и закалились непосредственно в борьбе и они выдвинулись на огромные должности. Несмотря на слабые познания, они – передовые люди, потому что школа тюрем и ссылок выработала самое главное и важное – характер и волю, умение преодолевать все препятствия. Это группа наших "студентов", действительно драгоценная, это редкой ценности кадры...»
В 1936-м году, как сообщает в своей книге В.И. Прокофьев (см.), институт повышения квалификации хозяйственников ликвидируется. Но в начале 1937-го года МММИПКХ еще упоминают: «к 1 января 1937 года им выпущено 670 чел., из них на "хорошо" и "отлично" 580, остальные на "удовлетворительно"» (ЗПК 1937 № 2 /январь/).
«Был у нас и такой опыт. ... Промышленность, однако, не принимала этих специалистов и заявила нам,
что "это не инженеры узкой квалификации, а техники, и, пожалуйста, не называйте карася поросем"»
В.Н. Яковлева, зам. наркома просвещения. Из выступления на июльском 1928 г. пленуме ЦК ВКП(б)
«Наряду с успехами… в практике проведения в жизнь решений партии и правительства
народными комиссариатами и самими втузами, вузами и техникумами были допущены извращения.
... Некоторые втузы и вузы зачастую выпускали специалистов стоящих на уровне квалификации техника, а не инженера»
Из постановления ЦИК СССР 19 сентября 1932 г.
Перемен ничто не предвещало
Советское техобразование спасает фактически чудо – ибо достаточно явных предвестников грядущих перемен, сколько можно судить по главным официальным источникам, не было. (Кроме разве что прекращения набора парттысячников в 1931-м году.) Доклад Орджоникидзе 30 января 1932 г. на XVII конференции ВКП(б) не обещал «огромному количеству» ученых и инженеров, «сидящих» в НИИ (надо понимать, такие же «сидели» и во втузах) никакого просвета и на вторую пятилетку. Понимания специфики научной деятельности нарком не проявил. Вот то, что было сказано на эту тему Орджоникидзе, и этого можно не комментировать. «Связь научно-исследовательских учреждений с практическими задачами промышленности все же крайне недостаточна, хотя в 1931 г. сделан значительный шаг вперед. Огромное количество наших ученых, техников и инженеров сидит в научно-исследовательских институтах, делает часто очень полезную работу, но надо прямо сказать, что от заводов они еще далеки. Некоторый поворот несомненно имеется, но он недостаточен. Один из профессоров, т. Юшкевич [проф. Н.Ф. Юшкевич – доктор химии, награжден орденом Ленина, зав. кафедры основной химической промышленности МХТИ им. Менделеева; в 1937 г. расстрелян], на Совете химической промышленности совершенно правильно говорил, что "пора разрушить монастырские стены наших институтов и окунуть научных работников в реальную жизнь". "Из-за монастырских стен лабораторий и институтов на заводы" – вот что должно стать лозунгом в работе научно-исследовательских институтов в СССР. Этот лозунг профессора Юшкевича встретил довольно сильные возражения со стороны некоторой части профессуры. Отдельные профессора указывали на то, что как бы вследствие этого наука не отстала. Проф. Юшкевич прав: наука должна из-за "монастырских" стен институтов пойти на заводы и фабрики. Ибо, если наука оплодотворит своей работой наши заводы и фабрики, она даст большие результаты, и сама не только не будет отставать, но еще быстрее двинется вперед»... Никак не высказывается на эту тему и выступавший по докладу наркома Кржижановский, главное действующее лицо скорых перемен.
Партком МММИ (16 марта 1932 г.) все еще внедряет «ЛБС» (лабораторно-бригадную систему): «взять под особый контроль вводные беседы, не допуская превращения последних в старые лекции» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 11, л. 93). А Цибарт, видимо, все еще пытается как-то ее смягчить: «Бюро Парткома осуждает посылку дирекцией методического письма по ЛБС как политически и идеологически вредного» (л. 94; содержания письма, к сожалению, в протоколе нет).
7 мая 1932 года появляется приказ по наркомтяжпрому № 269, подписанный зам. наркома Пятаковым – также полностью в прежнем духе. «Основной упор на учебе без отрыва от производства» – напоминает Пятаков; «отмечая наблюдающиеся в отдельных учебных заведениях тенденции к увеличению сроков обучения, категорически воспретить всякое удлинение этих сроков, установленных в соответствии с директивами ноябрьского пленума ЦК...».
Впрочем, 24 мая, 3 и 18 июня 1932 года в газете НКТП «Техника» публикуются совершенно невероятные для этого времени матералы – о заброшенности вузовских мастерских, переизбытке и ненужности заводам студенческой «непрерывной производственной практики», недостатке теоретического образования во втузах (от 3 июня: «ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПРОГРАММЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРОВ / Сегодня втузы еще не обеспечивают подготовки высококачественных специалистов»)... Но ни в таком чутком к вопросу публичном органе, как журнал ГУУЗа НКТП «За промышленные кадры», ни в настроениях партячейки МММИ ничего обнадеживающего не ощущается и далее. Единства среди направляющих «генеральную линию», даже одинаковой осведомленности у них о ближайших намерениях ЦК явно не было.
Определенно свет забрезжит лишь за три недели до «исторического события», как его (в данном случае) справедливо будут называть, в т.ч. и Цибарт – постановление ЦК ВКП(б) 25 августа 1932 г., в числе прочего отменившего «лабораторный метод» в начальной и средней школе.
Реформа Кржижановского 19 сентября 1932-го года
Историческое событие – это постановление ЦИК Союза ССР от 19 сентября 1932 года (утверждено политбюро ЦК ВКП/б/ 16 сентября) «Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах».
Какие конкретные лица склонили Калинина, а скорее Сталина к явной «оттепели», если не к развороту на 180 градусов, в системе инженерного образования, – автор настоящего очерка документально не в силах ответить. Но знаковым было учреждение этим же постановлением ЦИК СССР особого Комитета по высшей технической школе (КВТШ), действовавшего под председательством крупнейшего советского, промышленного и научного деятеля акад. Глеба Максимилиановича Кржижановского сразу после принятия постановления. Авторство реформы было для некоторых посвященных лиц очевидным: «Несмотря на то, что Комитет по высшей технической школе еще не существует, – по моему адресу, как председателю комитета, поступает уже значительное количество корреспонденций», – замечает Кржижановский в своей речи на 1-м пленуме УМС (Учебно-методического совета) НКТП СССР в начале ноября 1932 года (ЗПК 1932 №19-20 с. 4).
|
С 19 сентября 1932 г. – это Комитет по высшей технической школе (КВТШ) при ЦИК СССР (7 декабря 1932 г. президиумом ЦИК утвержден персональный состав президиума Комитета, 17 октября 1933 года ЦИК утвердил Положение о Комитете, с несколько измененным названием, о «Всесоюзном комитете по высшему техническому образованию» – Бюлл. ВКВТО 25 марта 1933 г.; Сборник постановлений по высшему техническому образованию, 1935); далее, таким образом, этот же комитет именуется – Всесоюзный комитет по высшему техническому образованию (ВКВТО) при ЦИК СССР; с 26 декабря 1935 г. меняет подведомственность – это ВКВТО при СНК (Совнаркоме) СССР. С 21 мая 1936 года наступает, по существу, конец Комитета как защитника техобразования (и продолжается сворачивание реформы 19 сентября 1932 г., начатое со «стахановским движением»): ВКВТО преобразован во Всесоюзный комитет по делам высшей школы (ВКВШ) при СНК СССР. Слово техническое исчезает из названия, а Кржижановского сменяет И.И. Межлаук (брат зам. председателя СНК СССР и СТО (Совете труда и обороны) В.И. Межлаука). |
Все выглядит так, как будто Сталин, поддавшись убеждениям Кржижановского, на личном уровне и потому неожиданно для всех, полностью отдал ему управление техобразованием. Для чего вождю не понадобилось даже «росчерка пера», по которому это могло бы быть засвидетельствовано документально.
Итак. Решением правительства 19 сентября 1932-го года констатируется, что «наряду с успехами» (в увеличении числа учащихся и специалистов, «приближении учебной работы к производству» и конечно в росте «рабочего ядра» обучающихся), «… в практике проведения в жизнь решений партии и правительства народными комиссариатами и самими втузами, вузами и техникумами были допущены извращения» (линия партии а приори прямая, а перегибщиками, как всегда, оказались ее последователи) – «... были допущены извращения, которые выразились главным образом в однобоком внимании к количественному росту сети и учащихся при недостаточном внимании к вопросам качества учебной подготовки, а также в чрезмерном дроблении специальностей, в результате чего некоторые втузы и вузы зачастую выпускали специалистов стоящих на уровне квалификации техника, а не инженера»; «в результате неправильного применения так называемого "бригадно-лабораторного метода", как всеобщего и обязательного при проработке всех учебных дисциплин, в практике работы учебных заведений выявился целый ряд крупнейших недостатков, как то: снижение индивидуальной ответственности студентов за свою работу, обезличка в учебной работе, равнение на слабых...»; «...при распределении часов в учебных планах недостаточное время отводится для общетеоретических, общетехнических и специальных предметов (в среднем 60 – 70 проц.), в результате чего в ряде вузов и втузов из учебных планов совершенно исключены такие важнейшие предметы, как физика и химия», и пр.
|
Это слова не «буржуазных хулителей всего советского», а само́й советской власти. Если кто-нибудь думает, что задача «поскорее выпустить на производство» специалистов, хотя бы и «стоящих на уровне квалификации техника», действительно определялась нуждами скорейшей индустриализации страны, то, во всяком случае, власть сама это опровергла. Похоже, с постановлением ЦИК 19 сентября 1932-го года власть очнулась и вышла из того «царства теней» (как сейчас сказали бы, «виртуального мира»), в котором ее курс на «индустриализацию» требовал кампаний по истреблению лучших инженеров, «пролетаризации» втузов, а «наживать знания» можно было помимо «книжки»... Ставка делалась на импорт техники и неограниченный ресурс принуждения, – квалификация специалистов была сочтена излишней, важнее казалось их число. Но если индустриализация действительно не нуждалась в квалифицированных инженерах, а нуждалась в множестве техников, то и следовало сделать упор на развитии техникумов, а не снижать уровень втузов, не «называть карася поросем» – как о том и предупреждал наркомпрос при отъеме у него втузов и передаче их в ведение НКТП. Кстати непрерывная практика, бригадный метод и т.д. внедрялись и в техникумах, то есть и среднее специальное образование губилось также, как и высшее. Никакой логики в действиях реформаторов 1928–1932 гг. не усматривается. Как будто власть своего добивалась. Число «командиров промышленности» (кроме сотрудников НИИ, строительства, агроиндустрии и сельского хозяйства) на 1 октября 1929 г. составляло 22630 (0,85 на 100 рабочих), а уже 1 октября 1930 г. – 62110 (2,3 на 100 рабочих) (ЗПК 1931 № 7-12, с. 2); в 1929-м году в советских втузах учились 50800 чел., а в 1933-м – 132700 чел. (в США в 1929-м году учились 70000 чел., в 1933-м – 79400) (ЗПК 1934 № 8 /апрель/). К 1932-му году, как пишут в журнале «За промышленные кадры», за рубежом даже звучат инсинуации, якобы в СССР образовалось «перепроизводство кадров». Буржуазные критики явно не понимали ситуацию, слишком нелепую для уразумения: то были не настоящие «кадры». Только их ненужность и могла снивелировать разрушительный эффект «пятилетки кадров», наводнившей промышленность «красными» псевдо-специалистами. Впрочем, прежние «командиры промышленности» обычно не имели и того подобия образования, которые получили они. В декабре 1934-го года в «беседе с металлургами» Сталин вспомнит о реконструкции техобразования 1928-1932 гг. так: «У нас было слишком мало технически грамотных людей. Перед нами стояла дилемма: либо начать с обучения людей в школах технической грамотности и отложить на 10 лет производство и массовую эксплоатацию машин, пока в школах не выработаются технически грамотные кадры, либо приступить немедленно к созданию машин и развить массовую их эксплоатацию в народном хозяйстве, чтобы в самом процессе производства и эксплоатации машин обучать людей технике, выработать кадры. Мы выбрали второй путь. Мы пошли открыто и сознательно на неизбежные при этом издержки и перерасходы, связанные с недостатком технически подготовленных людей, умеющих обращаться с машинами. Правда, у нас наломали за это время немало машин, но зато мы выиграли самое дорогое – время – и создали самое ценное в хозяйстве – кадры. За 3–4 года мы создали кадры технически грамотных людей как в области производства машин всякого рода (тракторы, автомобили, танки, самолеты и т. д.), так и в области их эксплоатации. То, что было проделано в Европе в продолжение десятков лет, мы сумели проделать вчерне и в основном в течение 3–4 лет. Издержки и перерасходы, поломка машин и другие убытки окупились с лихвой. В этом основа быстрой индустриализации нашей страны.» Слова эти похожи на слова человека, не вполне владеющего темой... Но юмор вождя можно оценить (ассоциация «наломали машин»/«наломали дров»). |
Официальная, парадная версия событий – партия последовательно движется от одной победы к другой, идет «дальнейшая работа по улучшению качества учебы». «Если вы посмотрите, как наши пленумы, особенно июньский пленум 1928 г. (по докладу товарища Молотова), ноябрьский пленум 1929 г. (по докладу товарища Кагановича), трактовали проблему технических кадров, если вы воспроизведете в своей памяти чеканные высказывания по этому вопросу товарища Сталина, то увидите, что правильное решение вопроса о технических кадрах – это есть одновременно наметка путей для решающих успехов, поистине определяющих наши судьбы», – говорит Кржижановский на XVII-м съезде ВКП(б). – «Я не буду за неимением времени останавливать ваше внимание на дальнейшей нашей работе по улучшению качества учебы. Мы сделали все, что было возможно в этот короткий срок сделать, после известного вам постановления ЦИК от 19 сентября 1932 г., наметившего развертывание широкой борьбы за качество нашего высшего технического образования»...
Забавно (насколько здесь уместно это слово), что среди вождей «реконструкции» техобразования июня 1928 – сентября 1932 гг. невозможно найти никаких видимых (в широкой печати) признаков замешательства. Решения пленумов ЦК 1928, 1929 гг. и решение ЦИК 1932 г. перечисляются (например в книге Петровского «Втузы тяжелой промышленности в 1934–35 году») практически через запятую, как если бы последнее не перечеркивало первые. «В связи с ростом промышленности и с развитием науки и техники перед технической школой ставятся новые задачи и ярче выступают те дефекты и извращения, которые были допущены в процессе реорганизации технической школы» – вот практически все, что говорится ими об их предшествующей активности. Заметно лишь их опасение, что ситуация может быть верно понята «классовым врагом» и «некоторыми товарищами», недостаточно устойчивыми «в политическом отношении». Так, в октябре 1932-го года сектором кадров НКТП было выпущено «Инструктивно-директивное письмо о порядке реализации постановления ЦИК СССР от 19/IX 1932 г. ...», где содержалась и такая рекомендация работникам техобразования: «четко разъяснить всю несостоятельность ссылок на формальное сходство некоторых элементов намечаемых мероприятий с организацией учебной работы в старой дореформенной школе (лекции, сессии, дипломы и т.д.), имеющих сейчас совершенно новое содержание и новые организационные формы». Трудную директиву наркомтяжпрома пытались выполнить, в частности, на пленуме ЦК ВЛКСМ, в дальнейшем на местах разъясняют «политическую сущность новых зачетных сессий», и т.д.
На самом деле в НКТП шок испытали. Упомянутое «инструктивно-директивное письмо», распространявшееся «циркулярно» (не для посторонних глаз) и часто цитируемое в тех пределах, в каких цитата приведена выше, – отражает замешательство, досаду и даже как будто некоторую надежду на реванш. Так, говорится в нем и о «колоссальнейшем опыте, накопленном высшей школой и техникумами в результате осуществления реформы», и о «беспощадном отпоре всякого рода толкам, имеющим место в некоторых звеньях нашей учебной системы», и об «отдельных случаях перегибов в практике реализации решения ЦИК», наблюдавшихся уже в течение месяца после принятия решения. А в учебных программах, видимо до прояснения ситуации, в первом семестре 1932/33 уч. года Письмо категорически запрещает что-либо изменять без особых на то указаний.
Циркулярно ВСЕМ ВТУЗАМ, ТЕХНИКУМАМ, СЕКТОРАМ КАДРОВ 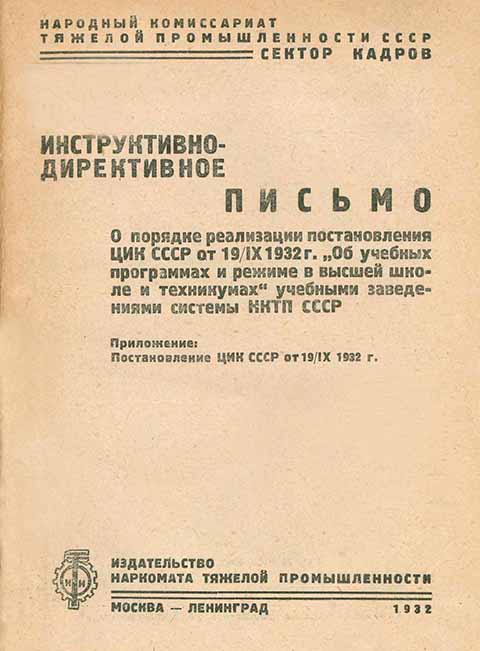
Постановлениями ЦК ВКП(б) от 25/VIII «об учебных программах и режиме в начальной и средней школе» и ЦИК СССР от 19/IX 1932 г. «об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах» перед всей системой подготовки кадров поставлен ряд серьезнейших и ответственнейших задач, требующих для своего успешного разрешения мобилизации всех работников школы от низшего до высшего звена, сверху донизу — по всем звеньям широкого многообразия форм и систем подготовки производственно-технической интеллигенции рабочего класса. I. По разделу «О ПРОГРАММАХ И УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ» 1. Втузы и техникумы системы НКТП ССОР I семестр нового учебного года (с 1/Д 1932 г.) должны целиком работать по существующим и утвержденным ранее учебно-производственным планам, не внося в них никаких изменений без специальных на то указаний УМС сектора кадров НКТП. Настоящее положение распространяется на весь существующий контингент обучающихся, включая новый прием и выпускные группы. …» |
В числе мер, предложенных ЦИК для исправления ситуации – очевидные «а) запретить всякие коллективные зачеты студентов; б) возложить ответственность за оценку знаний студентов на профессорско-преподавательский состав...». «Пересмотреть к 1 января 1933 г. учебные планы и программы с тем, чтобы на все общенаучные (математика, физика, химия, биология), общетехнические и специальные предметы по вузам и втузам было отведено не менее 80 – 85 проц. ...»; «дифференцировать сроки обучения в высших учебных заведениях в зависимости от специальности и задач втуза и вуза ... увеличив сроки обучения для основной части вузов и втузов Союза ССР»; «применять лекции, как метод преподавания, способствующий сближению профессора с учащимся»; «установить на последнем курсе обучения для каждого студента дипломную работу, а во втузах – дипломный проект (с обязательной защитой его)»; «ввести вступительные испытания вне зависимости от окончания рабфака, техникума и т.д. для всех поступающих в высшие учебные заведения по математике, химии, физике, родному языку и обществоведению» (дни рабфаков этим были сочтены)... А также «прекратить досрочные выпуски студентов», и (не столь важный, но больной для советских учебных заведений вопрос) – «прекратить практику частых и продолжительных мобилизаций студентов и в особенности профессорско-преподавательского состава на всякого рода хозяйственно-политические кампании».
Вводится обязательная сдача зачетов для аспирантов, а перед окончанием аспирантуры – защита ими научной диссертации. Запрещается снятие аспирантов с научной работы, мобилизация аспирантов на различные кампании. Ассигнование на обучение каждого аспиранта увеличивается до 500 руб. в год.
При отмеченном ЦИК недостатке учебного времени для важнейших базовых дисциплин, втузам, видимо, приходилось преподавать эти дисциплины фрагментарно, по каждой специальности отдельно (детализировать этот пункт мы не беремся), лишь увеличивая общее число преподаваемых предметов. Постановлением ЦИК предусматривается «ликвидировать многопредметность путем объединения в учебных планах искусственно раздробленных дисциплин (по теоретической физике, по теоретической механике и т.п.)». Разумеется, сие не означало какого-либо сокращения преподаваемого материала, а, напротив, обеспечивало правильное построение курсов, позволяющее преподавать эти дисциплины наиболее полно.
Что до непрерывной производственной практики, то от нее ЦИК как будто не предполагает отказываться, как от ставшей «обязательным элементом учебной работы всех вузов, втузов и техникумов, что является историческим достижением высшей школы СССР». Однако на самом деле она сокращается более чем вдвое: НПП во втузах должна теперь проходить, «как общее правило, начиная с 3‑го курса», и занимать до «30-40% учебного времени соответствующих [не всех!] курсов»; при этом «общая (технологическая) практика» студентов младших курсов должна идти не на предприятиях, а во втузовских мастерских и лабораториях. Т.е. уже не служить «промфинпланам», а стать действительной частью обучения, или, как это еще называлось, практикой академической.
Кстати, в МММИ «НПП» будет начинаться лишь с середины третьего курса, причем Цибарт однажды оговаривается, что после постановления ЦИК первые пять семестров – половина срока учебы – в МММИ «отдаются исключительно на теорию» (см. Лещинер, Цибарт).
Есть претензии и к соцсоревнованию. «ЦИК СССР отмечая громадную роль развернувшегося в учебных заведениях социалистического соревнования, содействовавшего поднятию качества учебы, укреплению учебной дисциплины, и развертыванию самодеятельности учащихся, в то же время указывает на необходимость решительного искоренения извращений, имеющих место в проведении соцсоревнования, выражающихся в том, что соцсоревнование коллективное исключает и подменяет собой соревнование индивидуальное. Необходимо сочетать соцсоревнование коллективное (вуза с вузом, факультета с факультетом, группы с группой и т. д.) со всемерным развитием соцсоревнования индивидуального – студент со студентом с тем, чтобы устранить факты прикрытия недостатков отдельного лица достижениями группы.»
С этого постановления правительства начинается настоящее возрождение технического образования в новой истории России. Тревоги «реакционного профессора» из МММИ оказались напрасны – ничего не «отменили». Через год ВТШ отметит свой первый юбилей. «29 сентября [1933 г.] в клубе Московского института инженеров транспорта состоялось торжественное заседание президиума Комитета по высшему техническому образованию при ЦИК СССР совместно с ЦБ СНР, ЦБ ВАРНИТСО и ЦК ВЛКСМ. / С обширным докладом посвященным итогам реализации решений ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г., на заседании выступил председатель Комитета по ВТШ акад. Г.М. Кржижановский.» «"Ощущая ту кооперацию общественных сил, которые сорганизовались возле комитета, – сказал между прочим Кржижановский, – я преисполнен оптимистической уверенности. Мы видим рост активности профессорско-преподавательского состава наших учебных заведений..."» (ЗПК 1933 № 10).
«Всем известно, что переход на новые рельсы совершался медленно и болезненно», – отмечает, впрочем, Петровский (ЗПК 1934 № 1). Снизить уровень оказалось легче, чем его восстановить.
Через два года от принятия Постановления ситуация, с которой пришлось столкнуться Комитету по высшей технической школе, будет любопытно описана в журнале ВКВТО «Высшая техническая школа» (1934 № 1, сс. 17–24, проф. А.М. Беркенгейм «Большие сдвиги во всех областях»). Вот отрывки из статьи: «1. ... В 1930-1932 гг., одновременно с быстрым ростом всех видов промышленности, вместо относительно небольшой сети втузов появилось много новых, отчасти выделенных из старых многофакультетных втузов, отчасти же вновь основанных. В выделенных из старых втузов оставались старые кадры профессоров и преподавателей, штаты же новообразованных втузов набирались по мере возможности и большей частью редко удовлетворяли тем требованиям, которые им следовало предъявлять. |
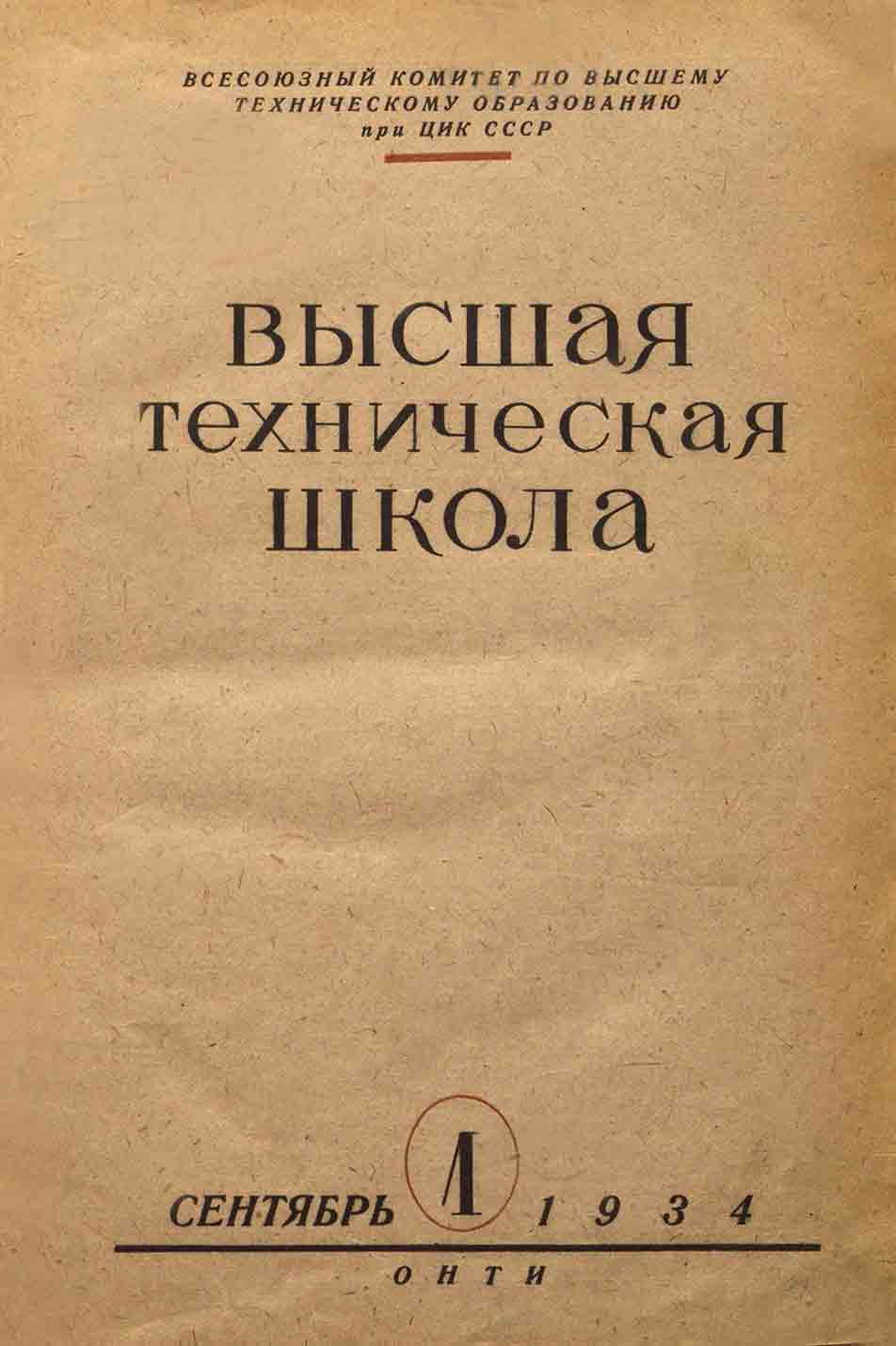
«Со стороны реакционной части профессуры сплошь и рядом можно услышать такого рода заявления:
"Это решение есть возврат к старому, и поэтому, мы его приветствуем".
Про одного из таких профессоров Московского механико-машиностроительного института им. Баумана
идет такая слава, что, мол, он каждое утро, приходя на работу, спрашивает своего ассистента:
– Что, решение ЦИК еще не отменено?
Этот профессор, расценивая решение ЦИК как возврат к старому, все время боится,
как бы не "спохватились" и не отменили.»
Ефим Лещинер. Доклад на VI пленуме ЦК ВЛКСМ, рубрика «Дать отпор классовому врагу»
«Было бы политической ошибкой рассматривать решение ЦИК от 19/IX 1932 г. как возврат к старой школе,
утверждая тем самым, что период после 1928 – 1929 гг. был целиком периодом извращений, периодом ошибок,
снизившим качество подготовки в с е й массы специалистов, выпущенных за этот период»
Н. Алексаков. За промышленные кадры 1933 № 1
История МММИ (как и других втузов) времени Цибарта так резко делится на периоды до и после этой даты (вплоть до мракобесного «стахановского движения»), что всякий пытающийся понять смысл происходившего по имеющимся документам, распоряжениям дирекции МММИ или ГУУЗа, журнальным статьям и т.п., рискует совершенно запутаться, промахнувшись относительно нее хоть на день. То же относится и к основным деятелям в этом процессе – это «два разных» Цибарта, «два разных» Петровских и даже отчасти Орджоникидзе.
...Решение ЦИК проводится МММИ им. Баумана в жизнь наиболее решительно среди всех втузов СССР, и, как покажут ближайшие его достижения, дает наилучшие плоды.
|
В 1933-м году «старый» профессор МММИ Е.К. Мазинг описал ситуацию, касательно собственной специальности, в таких виртузно-интеллигентных словах (см. Юбилейный сборник): «При реформе МВТУ в 1928/1929 г., с уничтожением прежней энциклопедичности и введением более четкой специализации ... весь наш коллектив объявил себя ударным и усиленно работал над выработкой новых учебных планов и программ как по теоретическим предметам, так и по производственному обучению на заводах. Однако при всей стройности наших планов слишком ограниченный габарит времени, отводимого на теоретические и специальные предметы, при наличности слабой подготовки многих вновь поступающих студентов, стал давать неутешительные результаты. После решения ЦИК были значительно увеличены учебные часы, отводимые на теоретические и специальные предметы, и срок обучения установлен в 5 лет»... |
Постановление ЦИК принято 19 сентября, а уже 21 сентября в Бауманском проходит внеочередное партсобрание, где принимается решение начать всесоюзный конкурс втузов на его лучшее воплощение (подробно об этом см. в рубрике «В первой шеренге социалистического соревнования»). Оперативность поражает, но, поскольку постановление было утверждено ЦК ВКП(б) 16-го сентября, а до того, конечно, в этих кругах обсуждалось, – возможно, Цибарт знал о предстоящих переменах и раньше 19-го.
Доклад Цибарта на 6-м пленуме ЦК ВЛКСМ
Многое о восстановлении образования в Бауманском говорит, едва по прошествии двух месяцев от принятия решения ЦИК, А.А. Цибарт в своем «содокладе» на 6-м пленуме ЦК ВЛКСМ 27 ноября 1932 года «В первой шеренге соревнования». (Имеется в виду Первое всесоюзное соревнование вузов, втузов и техникумов на лучшее исполнение постановлений ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г., инициатором которого был МММИ.) Основной доклад, о плане мероприятий комсомола по осуществлению решений ЦИК и ЦК ВКП(б) («Качество учебы – основное звено...» и пр.), делал Е.Д. Лещинер, член бюро ЦК ВЛКСМ, ответственный за работу среди студенческой молодежи (репрессирован в 1937 году). Доклады Лещинера и Цибарта объединены в брошюру «Овладеть наукой», – это слова Сталина 4 февраля 1931-го года из речи «О задачах хозяйственников»: «Говорят, что трудно овладеть техникой. Неверно! Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. ... Нам осталось немного: изучить технику, овладеть наукой». – От, так сказать, силового метода в этом деле перешли к традиционному...
Сам факт состоявшегося на пленуме доклада Цибарта подчеркивает особую роль МММИ им. Баумана в начатых преобразованиях.
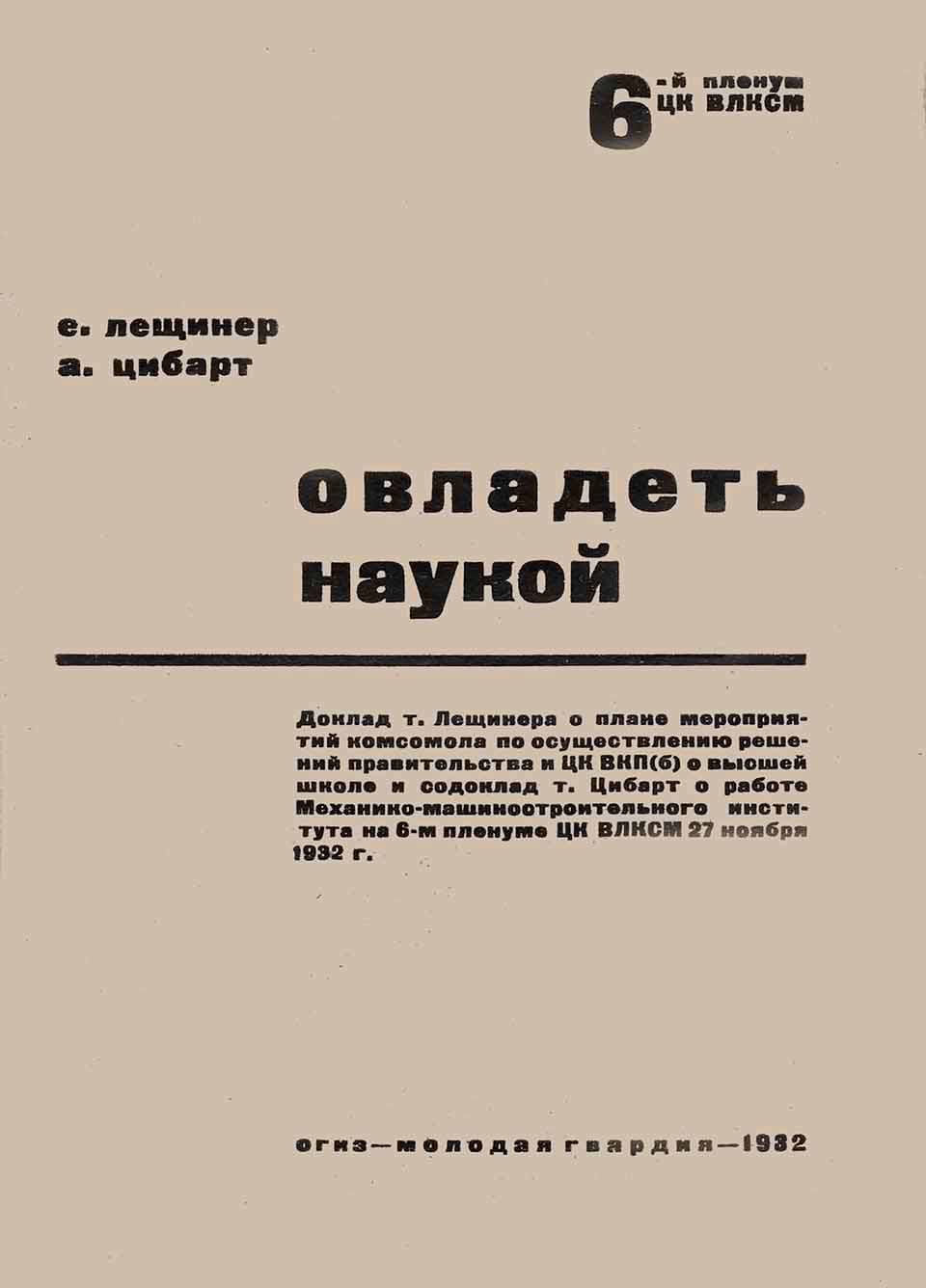
Вернейший и самый наглядный признак того, что перемены воистину спасительны – это отношение к ним «реакционной профессуры», достаточно точно обрисованное в докладах Лещинера и Цибарта. «Классовый враг», в частности в МММИ им. Баумана, «расценивая решение ЦИК как возврат к старому, все время боится, как бы не "спохватились" и не отменили» (рассказывает Лещинер, видимо со слов Цибарта).
В докладе Цибарта, хотя и в рубрике с несколько угрожающим названием «Быть на-чеку» и призывом «не терять чутья и классовой бдительности», эта важнейшая тема раскрывается детальнее. – «Прежде всего часть профессуры истолковывает это постановление ЦИК как полный возврат к старой школе. Эти люди не замечают ничего положительного в той работе, борьбе и перестройке школы, которую мы вели с 1930 г. Они считают, что сейчас мы целиком возвращаемся к старым позициям. Вот что говорят представители этой части профессуры: "Мы указывали, что та "старая" советская школа, которая существовала до сих пор, не обеспечивала качества подготовки специалистов. Вы отошли от высшей школы в сторону и теперь вы (он имеет в виду коммунистическую партию и правительство. – А. Ц.) убедились, что мы были правы, и вы вернулись к старой школе, потратив несколько лет на эксперименты"...» «Или возьмите такой вопрос, как дипломное проектирование [которое вернулось в программу обучения]. И на это есть среди некоторого круга нашей профессуры такой взгляд, что ваши, мол, студенты, которые сейчас обучаются, неспособны выполнить сложные проектирования, они все равно с этим не справятся, так как не имеют для этого достаточной подготовки.» «...Один наш профессор прямо и откровенно говорит: "Инженером-конструктором может быть не всякий инженер; для того чтобы быть инженером-конструктором, необходим талант и природные дарования. И поэтому я считаю, – говорит он, – что наши втузы находятся сейчас на таком этапе, когда они не будут количественно расти, а, наоборот, будут сокращаться, потому что в ближайшее время у вас будет небывалый отсев. Из втузов отсеются главным образом не по причинам материального необеспечения, а по причине того, что студенты не будут в состоянии справляться, не будут в состоянии выполнять всех тех новых требований, которые будут пред’явлены к ним нашими учебными планами и программами. Во втузе останутся наиболее талантливые, наиболее даровитые, наиболее способные"». (Профессор тут выступает против предыдущих лет безумной «пролетаризации», т.е. наборов во втуз контингента без достаточной предвузовской подготовки – смысл его «прямых и откровенных» высказываний, как слишком опасных, Цибарт явно закамуфлировал.) «При обсуждении отдельных вопросов часто приходилось слышать: "Я помню раньше было так-то..." "В старое доброе время по этому вопросу мы так-то и так-то поступали..." Вот это "старое доброе время" является для них мерилом, как нужно сейчас перестраивать нашу высшую школу.» «К системе обучения без отрыва от производства [появившейся в МВТУ в 1929 г.] мы наблюдаем со стороны некоторой части профессуры прямо враждебное отношение. Они считают, что готовить инженера, даже серьезно думать о возможности подготовить инженера без отрыва от производства, нельзя, что это глупость...»
А.А. передает позицию этой «некоторой части профессуры» столь объективно, не избегая даже прямого «глупость» – что, можно с уверенностью предположить, в других обстоятельствах охотно бы с нею согласился.
|
(Все же надо заметить, относительно обучения без отрыва от производства, к которому профессора столь критически относились, что и оно было небесполезно: в то время заводы оплачивали МММИ учебу некоторых своих рабочих на его вечернем отделении. Правда, обучение на этом отделении велось лишь «по резковыраженному профилю».) |
Перемены – точнее, «отмены» варварских нововведений 1928–1932 гг. – в МММИ совершаются стремительно: в них Цибарт отчитывается уже 27 ноября, на этом пленуме. «Мы, учитывая новую роль профессорского и преподавательского состава в деле управления высшей школой, усиление ответственности профессорского и преподавательского состава за дело подготовки кадров, возложили всю работу по проработке вопросов, связанных с реформой, на профессорский и преподавательский актив. Мы выбрали 15 профессоров, привлекли аспирантов, доцентов, кончивших вуз уже во время советской власти, и организовали комиссию, в которой проработали все вопросы, вытекающие из постановления правительства. Этот коллектив разбился на 11 подкомиссий ... В настоящее время мы всю работу по разработке мероприятий, связанных с реформой нашего института, закончили. / Нужно отметить необычайно большую активность профессоров в работе по перестройке школы ... Мы имеем невиданную еще для нашего института активность и добросовестно-глубокую проработку отдельных вопросов, которые были возложены на эти профессорские подкомиссии.» (Незнакомый с ситуацией человек наверняка испытает тут недоумение: кому же еще проявлять активность в вопросах постановки обучения, как не профессорам? – но дело в том, что до 19 сентября 1932 г. это было делом, по существу, парторганизации.)
Итак, главное из уже совершенного к пленуму. – МММИ возвращается к делению учебного года на семестры, исходит из нормальной продолжительности обучения – 5 лет. Больше того: «конечно, – говорит Цибарт, – постановление правительства не говорит о том, что мы должны во что бы то ни стало уложиться в 5 лет», и в частности относительно специальности «паровозы и тепловозы» институт обращается в НКТП с просьбой утвердить учебный план в рамках 5,5 лет. «Мы создали 4 факультета» [холодной обработки, горячей обработки, тепловых и гидравлических машин, общего машиностроения и технико-экономический]; «во главе каждого факультета поставили старого профессора, пользующегося авторитетом среди остальной профессуры». «В основном МММИ перешел на лекции. Мы имеем сейчас около 40% [учебного времени] лекций» (между прочим: «мы стоим на той точке зрения, что конспект не является необходимым и обязательным для студента, что конспект в известных случаях может быть даже вредным»). «Разработаны также нами вопросы об [индивидуальном] учете успеваемости.» «...По математике мы вместо 280 часов даем 480 часов, по физике вместо 100 часов — 260 часов. Так же по начертательной геометрии и другим дисциплинам. / Увеличиваем также количество часов на военное дело: вместо 200 часов — 300. На иностранные языки вместо 200 — 250 часов и т.д. / По всем специальностям разработаны учебные планы не только в части общетехнических и общенаучных дисциплин, но и в части специальных. Удельный вес специальных дисциплин значительно возрастает в наших новых учебных планах. Специальные дисциплины получают 1 476 часов.» «Работали мы и над составлением графика учебы... первые пять семестров учебы отдаются исключительно на теорию [т.е. работа во втузовских мастерских есть та же учебная], а начиная с шестого семестра идет уже производственная практика (полсеместра) и затем теоретическая учеба. Один из семестров занимает военно-производственная практика. Последний, десятый семестр по нашему графику отводится на специальное проектирование.» «... Дипломный проект. Задание по дипломному проекту мы считаем необходимым давать на восьмом или девятом семестре, с тем чтобы студент во время производственного обучения мог лучше избрать себе об’ект дипломного проектирования и несколько связать его с производством.» «...Группа профессоров настаивала на том, чтобы ... прием графических работ [в т.ч. дипломных] производить в отсутствии студента, основываясь на том, что если студента не будет, то профессор лучше сумеет обратить внимание преподавателя на ошибки, которые он сделал, может его выругать, а если будет присутствовать студент, то профессор постесняется. И так как преподаватели у нас сплошь и рядом недостаточно опытные [наследие предыдущих реформ!], то присутствие студента, по мнению этой группы, может повести к дискредитации преподавателя. Мы все же остановились на том, что все графические работы и все виды проектирования должны обязательно защищаться студентом в преподавательской коллегии.»
Критически важное
Что осуществилось и чего еще оставалось желать от новой реформы «реакционной профессуре», проводившей, как сказано на V Конференции парторганизации МММИ 29 декабря 1933 г., «чуждую и вредную нам идеологию»?
Партконференция формулирует список их подозрительных устремлений, как его видит (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 14, л. 13):
«В работе по перестройке учебного процесса, парторганизации института приходилось сталкиваться с рядом явлений, отражавших консервативные настроения реакционной профессуры, усматривавшей в перестройке учебного процесса возврат к старой высшей школе, предполагавших пойти по руслу копирования бывшего императорского технического училища, со всеми его отрицательными сторонами: содержанием учебных планов, методами занятий, учетом успеваемости, предложением исключить из наших учебных планов военные и социально-экономические дисциплины, восстановить старый ученый совет, стоящий над директором, сомнением относительно возможности обучения нынешнего состава студентов по новым учебным планам» (курсив наш).
Пройдемся по списку. Что касается содержания планов, методов обучения и учета успеваемости, различия со старой школой были явно невелики (ибо теоретические предметы, лекции и зачеты вернулись), так что это сходство со старой школой даже представляло для партийцев особую щекотливую задачу (ведется, в соответствии с директивой НКТП, «работа по раз"яснению принципиального отличия наших зачетных сессий от зачетов старой школы, раз"яснению политической сущности наших сессий» и т.п.); вопрос был чисто схоластический. Со всем остальным дело обстояло много хуже. Состав студентов, «пролетариев на учебе», определившийся большевистскими методами их набора, мог смениться только сам собой и за долгое время, с отсевами самых непригодных, годичными выпусками уже набранных парттысячников и рабфаковцев, с введением приемных экзаменов для всех (включая рабфаковцев) поступающих. С военными и идеологическими дисциплинами вообще оставалось только смириться. Да и учредить «ученый совет, стоявший бы над директором» – не в возможности дирекции: над директором могла стоять только советская власть.
Впрочем ученый совет – «Совет КрМММИ» – все же будет вскоре учрежден. Это произойдет уже во втором семестре 1933/34-го учебного года, 19 марта 1934 г. Первый выступавший на Совете института, ставший к тому времени начальником Главного управления учебными заведениями НКТП Д.А. Петровский подчеркнет, что идея совета встречала возражения (!), но напрасные, ибо с ним не возрождается «старое правление» – это будет лишь совещательный орган. Председателем совета является не избираемый авторитетнейший ученый, а директор. Но, во всяком случае, официально признанную возможность влиять на дела в институте впервые получат беспартийные «старые» профессора, и, благодаря тактичному председательству Цибарта, во многом они и будут играть в нем главную роль. (Подробнее об этом Совете см. в рубрике «События, победы и бедствия 1934–1935-х гг.»)
Осуществившееся критически важное в новой реформе – то, что на главные роли во втузе приходят сами ученые.
Возврат профессоров
Со «спецеедством» в МММИ покончено – институт всеми силами возвращает ушедших из МВТУ и уже из МММИ профессоров и лучших преподавателей. Линия партии, в понимании партячейки Бауманского, по отношению к институтским ученым меняется кардинально (иначе, разумеется, и быть не могло). «Сейчас товарищи наиболее остро почувствовали необходимость привлечения профессуры, – говорит парторг Серкин. – Они просто оказались обезоруженными в условиях, когда правительством пред"являются огромные требования»; «...во-первых, [требуют решения] вопросы, связанные с руководством кафедрами и положением на этих кафедрах, затем вопрос привлечения на эти кафедры и в наш Институт вообще ряда старых профессоров, тех профессоров, которые когда-то ушли из института ... Вы знаете, что есть настроение относительно возвращения ряда других [не считая Г.М. Головина] профессоров, которые когда-то работали в институте, в еще старом ВТУ»...
Весьма выразительный и живой эпизод борьбы за утверждение во втузе подлинных специалистов, в частности за возврат в МММИ тех из них, кто покинул училище в годы борьбы с «реакционной профессурой», сохранил протокол заседания бюро ячейки ВКП(б) МММИ 3 февраля 1933-го года (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 16, лл. 40–82об). – В январе 1933-го года молодой преподаватель МММИ и член ВКП(б) (конструктор станков-автоматов, будущий лауреат госпремии СССР, один из виднейших бауманцев) Григор Арутюнович Шаумян и другие подают заявление в парторганизацию и дирекцию МММИ, касающееся в т.ч. возврата в институт профессора, крупного ученого в области станкостроения Г.М. Головина. В 1931-м году Головин покинул институт как в результате кампании, развязанной против него Эдельштейном, Шлямбергом и другими партийцами (видимо поддержанной тогдашним парторгом Кривиным), – так и, что важно здесь отметить, по причине своего действительно сложного характера и конфликта с администрацией института, в котором администрация была, похоже, права или отчасти права. Главный оппонент Шаумяна, в тот момент зав. кафедрой станков М.И. Эдельштейн – фигура в истории МВТУ одна из самых влиятельных: между прочим, он секретарь партячейки МВТУ в 1926/27 гг., сменивший на этом посту Г.В. Маленкова. Заседание ячейки открывает парторг Серкин. «Директору института тов. Цибарту и мне как секретарю партийного комитета было подано заявление несколько больше, чем месяц тому назад, заявление, написанное тов. Шаумяном и подписанное целым рядом других лиц. После этого, значительно позже, кажется 16/1, было подано заявление группы тов. Эдельштейна и подписанное т.т. Шлянцем, Брискиным и Павловым. После этого я получил еще одно заявление [в поддержку Шаумяна], подписанное тов. Сельдяковым и целым рядом других товарищей из аспирантуры.» «Таких вопросов из всего того, что мы имеем на обсуждении, имеется – во-первых, вопросы, связанные с руководством кафедрами и положением на этих кафедрах, затем вопрос привлечения на эти кафедры и в наш Институт вообще ряда старых профессоров, тех профессоров, которые когда-то ушли из института. В частности, ряд товарищей ставит вопрос о том, не следует ли привлечь для работы с аспирантурой такую нашу научную силу в Союзе, которой является проф. Головин. Вы знаете, что есть настроение относительно возвращения ряда других профессоров, которые когда-то работали в институте, в еще старом ВТУ. Мы даже имеем специальную статью, присланную для юбилейного сборника, и будут вестись переговоры в отношении работы проф. Худякова и т.д.» (лл. 40, 40об). (Из выступления Серкина можно видеть, что профессора уходили уже из МВТУ, но также, увы, и из его наследника МММИ – «линия на выживание профессоров из института» продвигалась все-таки достаточно эффективно. – «Специальной статьи» в юбилейном сборнике к 100-летию училища, трактующей о планах возврата ученых в МММИ, в нем нет. – Слова о переговорах «в отношении работы проф. Худякова» как будто указывают на то, что и он покидал институт, но сведений по этому поводу мы пока не нашли.)
Шаумян, в своем выступлении, сравнивает ушедшего из института Головина с дубом из басни Крылова, а тех его учеников-аспирантов, кто способствововал его уходу из института, с подрывающими его дело свиньями. «Основной вопрос это то, что после основной реформы нашего Института [т.е. раздробления МВТУ 20.03.1930], станкостроительная специальность, наша станочная специальность, которая раньше не существовала, и мы окончили институт ничего не зная об этом деле, и будучи только аспирантами начали вникать в это дело. Был приглашен специалист, который читал и учил нас этому искусству. Мы кое-чему научились, но с того момента, как мы кое-чему научились, мы [его аспиранты] начали как свиньи под дубом жрать эти желуди, копаться в корнях этого дуба. Дуб это – Головин. / Он от нас ушел...» (лл. 42, 42об). «Все кафедры стали [в устах Эдельштейна] вредительскими, кроме этой кафедры. Читайте статью Эдельштейна [в "Ударнике"] – Л.П. Смирнов – зубр [это было отрицательной характеристикой], Саверин – халтурщик, Головин – это известный схоластик, полоумный пьяница, тоже никуда не годится. Но у нас больше нет никого – Куколевский тоже зубр». «Кто будет после Головина. – Коммунисты ставят вопрос – я или ты [т.е. спорят за освободившееся место]. Тут пошло дело с боем, с шумом, заставили, чтобы [заведование технологическим курсом станков] перешло на Эдельштейна, но когда дело дошло до [зам. директора МММИ по уч. части] Воскресенского и узнал он, что этот человек [Эдельштейн] отроду не видел станка, тогда он поставил [В.С.] Праниса. Но когда после статьи Эдельштейна, после шума, что какой то Иисус Христос [видимо, Эдельштейн] с неба свалился, эта кампания победила. Меня уже не было. Праниса начали крыть и так покрыли, что на месте угробили, и он на другой день подал заявление, что уходит и Эдельштейн достиг своей статьей своей цели [заведования кафедрой]. Я к нему пришел и говорю – давай каждый будет делать свое дело. И что же у нас вышло – вышло то, что Катков ушел, Глазунов <пропуск> Сельдяков и т.д. ушли из этой специальности, потому что видели там одну грызню, и мы очутились перед положением, что на сегодняшний день у нас специальности как таковой нет» (л. 44, 44об). Шаумян резко высказывается «по существу реформ» 19 сентября 1932 г., в их пользу. «Я ставлю первый вопрос [на этом собрании] – почему реформа не проводится. Почему все наши [якобы] вредительские, халтурные кафедры не коммунистического руководства провели реформу, а коммунистическая кафедра [возглавленная Эдельштейном] не откликнулась на реформу… Реформа – это значит, что нужно поставить профессора, что нужно силой организовать, что нужно поднять руководство...» (л. 45). «...Вместо того, чтобы провести реформы, поставить точки над "и", призвать специалистов технологов в Институт, опять сами [партийцы] беремся за это дело. Основное, что есть в этой работе – это головокружение от успехов. Ведь в сельско-хозяйственном вопросе тоже коммунисты руководили, а пришлось их снять, потому что они увлеклись этим делом, а тут тоже думали, что администрированием можно создать специальность, что если я подпишусь профессором, то я и на самом деле профессор. Вместо того, чтобы знаниями идти на эту гору, они руками хотели взять ее». «Сегодня основной вопрос – провести реформу, возглавить кафедру профессором, позвать специалистов – [Г.М.] Головина, [А.С.] Бриткина [преподавателя еще в ИМТУ], [М.А.] Саверина поставить во главе этого дела. Если нужно, то можно взять третьего профессора» (л. 46). А обескураженный тов. Эдельштейн, еще недавно вместе с парторгом Кривиным проводивший «линию на выживание старых профессоров из института», оказывается совершенно с этим согласен: «Относительно выводов, которые сделал тов. Шаумян. Может быть я разложился, может быть у меня тут суб"ективная точка зрения, что я не знаю, куда я забрел, но относительно вывода что мы должны пойти на завод работать и не на административную работу, а на самую низовую работу, относительно этого вывода я с ним согласен. / Вывод относительно того, что в главе кафедры должен стоять профессор, целиком и полностью правилен. Мало того, не только во главе кафедры должен стоять профессор, но во главе отдельных курсов нужно поставить наиболее высоко квалифицированных специалистов, а нам дать возможность у них учиться» (л. 46). «Может быть я уже настолько разложился, что потерял партийную чуткость, но я нахожусь в большом недоумении» (л. 47)... Серкин, по настоянию Шаумяна, позволяет ему задать еще несколько вопросов Эдельштейну. Оказывается, опасность со стороны Эдельштейна грозила и самому́ М.А. Саверину – декану факультета холодной обработки. «...Говорили ли мы с тов. Эдельштейном внизу в лаборатории, когда я говорил, что мы будем организовывать кафедру – сказал ли ты точно и ясно, что твоя политика на выживание Саверина, что Саверина мы должны сегодня или завтра выжить...» (Эдельштейн возражает в том смысле, что это было не вполне верно понято). Еще вопрос Шаумяна: «...сегодня правительство и партия спрашивают тебя, по какой специальности ты работаешь, по какому пункту ты специалист?..» (л. 55). «Какая моя специальность? Узкая моя специальность по технологической наладке металлорежущих станков», – честно говорит Эдельштейн (л. 57)... Эдельштейн и Шлямберг оправдываются – действительно, уход Головина предопределился в числе прочего и его собственным образом действий, и, главное, той общей средой, которая насаждалась ЦК ВКП(б) во втузах до реформы 19 сентября 1932 г., так что правда в их словах тоже есть. – Эдельштейн: «я Головина не выживал – заявляю это совершенно ответственно» (л. 48об); Шлямберг: «...мне кажется, что самое тяжелое преступление, которое приписывают нам, это то, что мы разогнали старую профессуру и лучшую часть аспирантуры...», но Головин пропускал занятия и с этим не мирилась также дирекция, «к делу Головина наша рука не приложена» (л. 65). «Я не знаю, куда я забрел» – самые преданные партийцы по милости ЦК оказались во втузе не на своем месте, и наломали дров. «Разогнали старую профессуру и лучшую часть аспирантуры» – это звучит впечатляюще... «Насчет разбазаривания профессуры. Тут говорили, что на заводах скептически относятся к нашим студентам, потому что они учатся у таких молокососов...» (воспроизводит мысль своих оппонентов Шлямберг и возражает – отзывы от заводов приходили в МММИ хорошие, – л. 67). Дискуссия продолжается – на сторону Шаумяна становятся аспиранты К.И. Жебровский (репрессирован в 1938 г.), М.Н. Ларин (будущий лауреат Госпремии) и другие. Жебровский: «Наряду с этим [т.е. случаем Головина] [следует вспомнить] и относительно другой части профессуры, тоже ходили толки, разговоры, напр. относительно [И.М.] Беспрозванного. Это уже другая кафедра. А тут насчет зубров говорят. Всюду и везде среди студенчества ходили такие разговоры и до профессоров конечно доходят. Все эти выступления по поводу зубров, и все держат уши топориком. Головин уходит, перед уходом Головина в студенческой и преподавательской среде ходят разговоры, что вот высосут, а потом щелчок и выбросят. Головин уходит. Все преподаватели стали смотреть со вниманием. Тоже юрк и уходят. Наш преподаватель – Беспрозванный – тоже собрался. Тоже такие слухи, что вековые [в духе «зубра» – не «прогрессивные»] истины пересказывает, и Беспрозванный тоже [дверь] за ручку хватает...» «Наш Институт свой научный багаж, который у него был до 30 г., разбазарил. Сплошь да рядом приходится иметь дело с заводами, нам, резальщикам, приходится иметь дело чуть не каждую шестидневку. И нам там говорят – "у вас все новые профессора, которые нам неизвестны. Головин у вас был – вы его с"ели, того с"ели, другого с"ели." Все это распространяется. Все это известно...» «Дальнейшая задача такая – нужно восстановить этот научный багаж, который имел старое МВТУ. Мы этот багаж растеряли. … Нам необходимо восстановить наш научный авторитет, прежде чем идти дальше. / Как это сделать. – Нужно, во-первых, привлечь сюда Головина, чорт с ним, что он пьяница, зубр и т. д. Нужно их привлечь, окружить специально аспирантским партийным коллективом, чтобы можно было работать. Пусть он пьяница, черносотенник, неважно. Нужно притащить всех стариков. Как это сделать. – Дирекция института должна срочно вызвать из Челябинска т.т. [М.Е.] Лузанова и [В.И.] Кузина и поставить их здесь работать. Они вполне квалифицированы...» (лл. 58-59об). – Ларин, в числе прочего, упоминает обстоятельства, оправдывающие Головина в его финансовом конфликте с администрацией: «Головин много занимался фотографией, ходил по заводам и фотографировал станки, и у него не было денег для этого и он продавал вещи» (л. 60об). Временчук [И.С. Веремейчук – ? – аспирант, автор учебника по технормированию]: «... Что делает Эдельштейн. Он является не более не менее как комиссаром у иностранного специалиста [т.е. подобен этому персонажу]. Он ведет исключительно административную работу...» С места: А стоит ли его сохранять в институте, – ведь он ничего не знает? «Я считаю, что стоит. Он способный человек. Знания это одно, а способности – другое» (л. 61). Сельдяков [П.С. Сельдяков, аспирант]:«... Сняли Прайниса [Праниса], и первая статья Эдельштейна в "Технике" подписана "Доцент М.М.М.И. Эдельштейн". Подписался бы – ассистент, больше чести было бы» (л. 62об). Кружилин (М.П. Кружилин, аспирант): «...надо сказать, что Михаил Алексеевич [Саверин] имел тенденцию выжить, если не Головина, то Бриткина он выжил. Бриткин в прошлом году со слезами нам говорил, что его выгнали из его императорского технического училища» (лл. 70, 70об). Вот случай, когда преподавателя ИМТУ выживает уважаемый преподаватель, выпускник ИМТУ... Маслин [Д. Маслин, аспирант]: «... Об использовании старых специалистов. Головин был? Был. Почему он ушел? Удержать его не сумели. Группа не сумела удержать его, а может быть некоторая часть группы хотела его ухода...» (л. 76). Робко заступается за тех, «кто сейчас на скамье подсудимых», преподаватель политэкономии Ф.В. Журавлев. Он говорит, что студенты относились к Эдельштейну, Шлямбергу и Павлову очень хорошо (л. 77). – В этом можно не сомневаться – смотря какие студенты: парт- и профтысячников оставалось в институте к тому времени еще около двухсот. Снова Серкин: «... Сейчас товарищи наиболее остро почувствовали необходимость привлечения профессуры. Они просто оказались обезоруженными в условиях, когда правительством пред"являются огромные требования...» (л. 78об). ...В итоговом выступлении директора Цибарта видно и то, что Головин в прошлом доставлял сложности дирекции, и то, что вопреки им, во имя обретения институтом настоящих специалистов, Цибарт активно пытается вернуть ученого в МММИ. «…Несколько слов в отношении истории. Был Головин. Головин читал и работал. Головин перестал читать и перестал ходить в институт. В чем дело? Тут уже кое-кто давал характеристику Головину в том смысле, что Головин – крупный специалист и знает больше чем наша аспирантура и больше, чем Эдельштейн. Это несомненно. Мы за этим человеком здесь одно время ухаживали. Мы ему давали деньги, мы затратили деньги на издание его учебников. И в результате он взял у нас 1000 рублей. Он позорно бросил это дело и сбежал. Теперь я с ним недавно виделся. Проф. Г.М. Головин вернулся в МММИ им. Баумана (дата и должность нам не известны). Фото Г.А. Шаумяна 1933 г. из юбилейного сборника «100 лет МММИ...». Подпись: «Г.А. Шаумян – аспирант МММИ по точной механике, член ВКП(б), рабочий. Окончил МММИ в 1930 г. Имеет ряд ценных изобретений» |
В этот же день – в дневнике Цибарта следующая запись: «3 февраля. Ура! ... Райком постановил из"ять от нас Эдельштейна и др.».
Резолюция внеочередного закрытого заседания Бюро парткома от 8 февраля 1933 г. (видимо, по поручению райкома): «... 5. В целях оздоровления и освежения обстановки в работе кафедры станков, а также и необходимости связи с производством поставить вопрос перед дирекцией о немедленном откомандировании группы аспирантов ЭДЕЛЬШТЕЙНА, ШЛЯМБЕРГА, ДЫСКИНА и ПАВЛОВА в распоряжение НКТП для работы в промышленности. 6. Бюро партячейки аспирантов переизбрать...» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 16, лл. 84, 84об).
|
Райком, впрочем, ценных товарищей на улице не оставляет: в 1934-м году Эдельштейн и двое других его единомышленников (фамилии не установлены) появляются в МММИ с каким-то «обследованием». «13 января. Неприятность! Обслед. КАТО-РАФЕСА [?]. Приехала троица (ЭДЕЛЬШТЕЙН .......... )» (Дневник). В 1936-м году Эдельштейн выступает на торжественном выпуске инженеров МММИ в Большом зале Московской консерватории (об этом событии см. ниже), он автор трогательной сцены с благодарностью проф. Саверину и рукопожатием Орджоникидзе и Саверина. |
Отношение директора Цибарта к работавшим в заведении еще до революции ученым, несмотря на их «реакционность», такое, каким ему и подобало быть. Из 16 профессоров, которым в сборнике 1933 г. «100 лет МММИ им. Баумана» посвящены отдельные очерки – всего профессорами в МММИ тогда именовались больше 50-и преподавателей – лишь двое получили высшее образование после 1917 г., подавляющее большинство вели преподавательскую и научную деятельность еще в ИМТУ. («Именовались» вместо «были» здесь потому, что сразу после октябрьского переворота ученые звания с трудной процедурой их присвоения были отменены, а профессором назывался всякий ведущий преподаватель по кафедре. Т.о., «старый профессор» – это был и синоним «настоящего профессора». Ученые звания восстановят в 1935-м году.) – Возвращаясь к докладу Цибарта на пленуме ЦК ВЛКСМ: «Перестройка [ввиду решения ЦИК 19 сентября 1932 г.] прошла под углом увеличения роли профессорского состава в деле управления институтом.» «Мы, учитывая новую роль профессорского и преподавательского состава в деле управления высшей школой, усиление ответственности профессорского и преподавательского состава за дело подготовки кадров, возложили всю работу по проработке вопросов, связанных с реформой, на профессорский и преподавательский актив.» «Нужно отметить необычайно большую активность профессоров в работе по перестройке школы» (Лещинер, Цибарт).
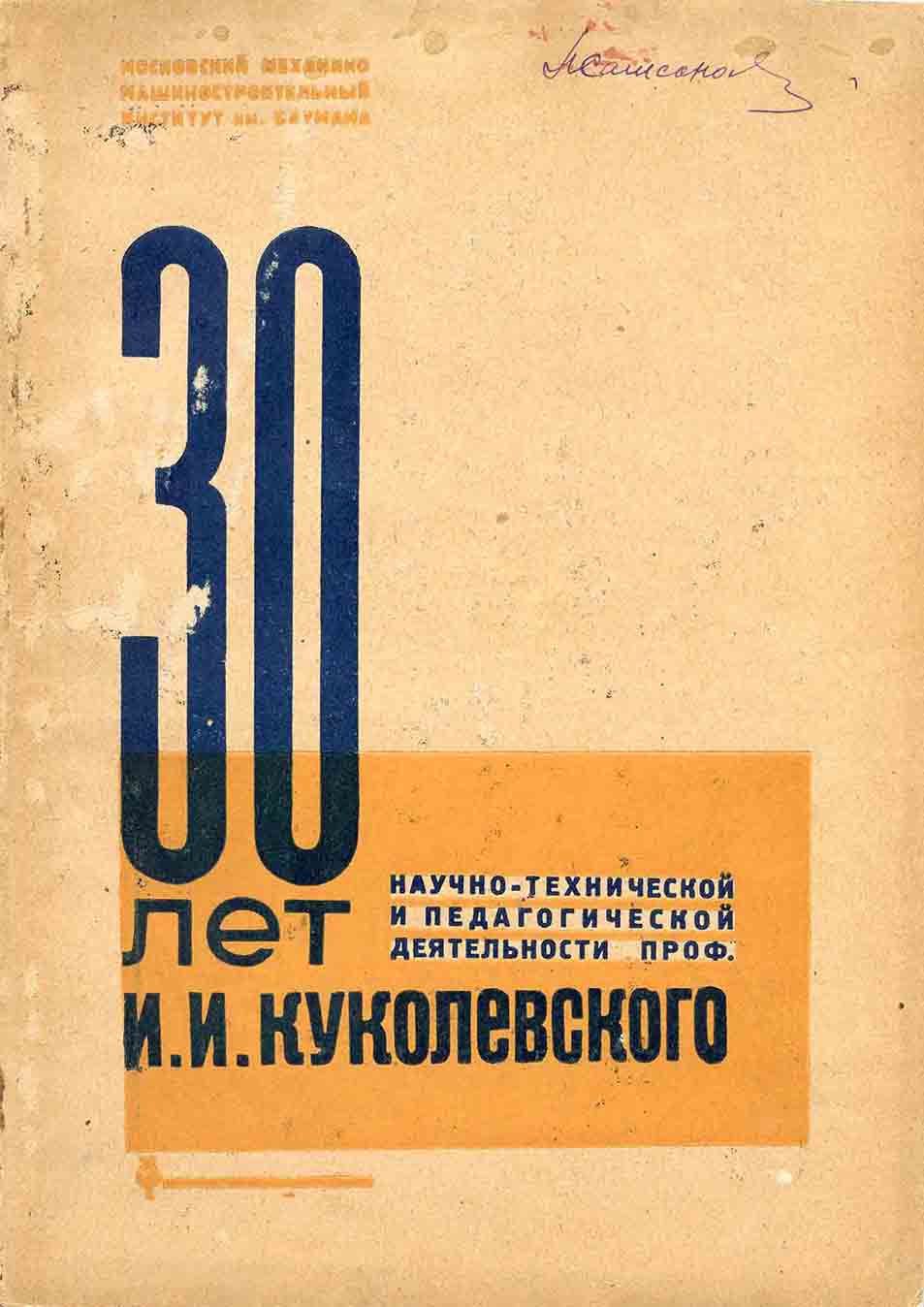
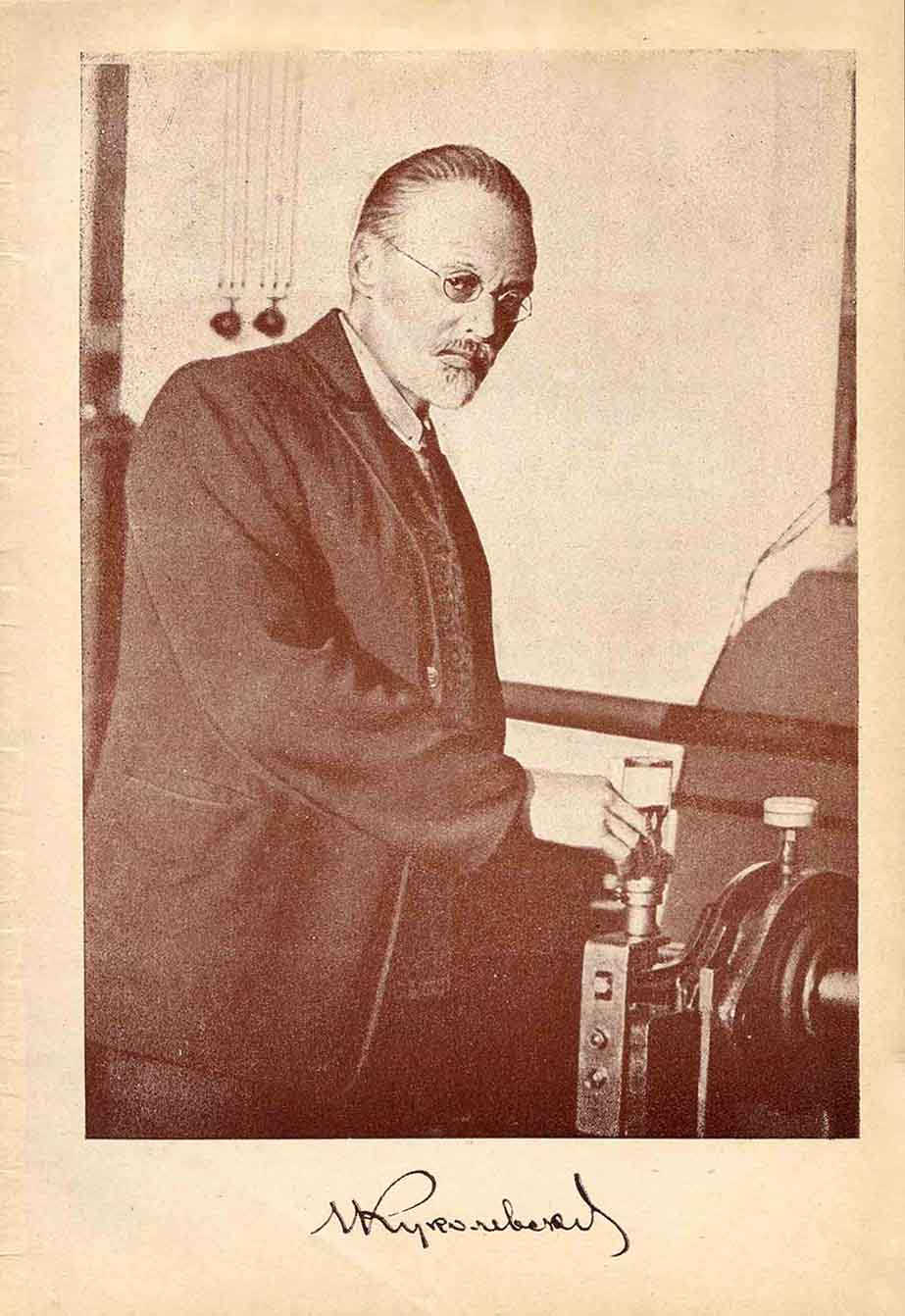
Не зря в 1933-м году, во вступительном слове председателя КВШ Кржижановского к Юбилейному сборнику МММИ, цитируются благосклонные слова Ленина по отношению к «привлечению» (к сотрудничеству с большевистской властью) «архимедов»: крупнейших досоветских ученых. К «засилью дореволюционных преподавателей» партия относится уже совсем по-иному. Если раньше ставка делалась на «рабочее ядро» института, теперь – на «профессорское ядро», вчерашних «злостных саботажников» и «втузовской деревенщины». Новые ориентиры Кржижановский задает на особом инверсивном языке, но весьма понятно. «Наши зарубежные клеветники не перестают изощряться в усилиях, чтобы доказать, как на путях этой борьбы [за пролетаризацию втузов] мы растеряли все старые ценности высшей технической школы и не приобрели никаких новых. Цифры и факты настоящего сборника опровергают эту гнусную ложь. Мы даем здесь целый ряд ценнейших биографических справок, характеризующих нынешнее мощное профессорское ядро работников МММИ, надежно гарантирующее предельную высокую [так в тексте] квалификацию новых красных инженеров...» В переводе (если он требуется): мы едва не погубили образование, дав пищу самой злой критике советской власти; потому в сборнике столько внимания и уделяется настоящим ученым прежнего ИМТУ, что только они и могут гарантировать квалификацию выпускников...
|
(В другой своей речи, на II всесоюзной конференции ВАРНИТСО, Кржижановский вкратце цитирует указанных клеветников. «Наши классовые враги не перестают клеветать на нас, утверждая, что в нашей реконструкции высшей технической школы мы уничтожили старые ценности и не создали никаких новых. Некий С. Фон Кюгельтен в газете "Hamburger Fremdenblatt" пишет, что "мы нарушили "все законы" религии, морали и разума из упрямства, бессовестно уничтоживши все основы народного просвещения и воспитания.» «Небезызвестный проф. Бруцкус порицает: "пока существовал известный кадр специалистов, получивших подготовку в дореволюционной школе, дело могло еще кое-как итти. Как известно, советское правительство не сберегло этот ценный духовный капитал страны, и число старых специалистов быстро сократилось.» – Г.М. Кржижановский. Проблема подготовки кадров во второй пятилетке. Фронт науки и техники 1933 № 1.) |
Итак – профессор, преподаватель, ученый, как и сама наука, были дирекцией втуза насколько возможно «реабилитированы». И хотя это проходило полностью в русле последних решений партии и правительства – сопротивление партийцев было. Копилась, как мы то увидим далее, и обида, вылившаяся в 1937-м году в самые мрачные для А.А. последствия.
|
Новая роль бывших преподавателей ИМТУ радует в институте не всех. Так, на партконференции МММИ в конце 1933-го года преподаватель (уже советского поколения) тов. Эльсон [Иоэльсон – ?] жалуется, хоть и довольно робко: «У нас есть в основном поворот старой профессуры института, это достижение, но мы не должны терять своей бдительности. Об этом я считаю своим долгом напомнить. Мы видим, что некоторые, которые себя в политическом отношении не так устойчиво показали в прошлые годы, слишком быстро и легко собираются кучками вокруг известной части профессуры. Тут должна быть большая осторожность. Мне кажется, что не всегда к некоторым лицам старой профессуры достаточно внимательны наши коммунисты. Я возьму пример. Я обязан об этом заявить на партийной конференции. Я считаю ошибкой то, что было допущено в отношении к Шелесту. Я заявляю с полной ответственностью, что доклад Шелеста [какой?] безграмотен и механистичен и свидетельствует о его полном непонимании освещаемого предмета. А наши коммунисты ни слова не скажут. Это неправильно. Мне кажется, что наши коммунисты, все-таки, не всегда достаточно внимательно относятся к кадрам научных работников». Цибарт отвечает уклончиво и примирительно: «Вопрос о взаимоотношениях между молодыми и старыми профессорами, вопрос о работе среди профессуры, этот вопрос до сих пор стоит примерно так же, как он стоял полгода тому назад. Нам придется здорово поработать среди наших старых профессорских кадров Шелеста, Шиб [?] и т. д. У нас имеются крепкие люди Орлин, Тихомиров и т. д. И крепостью таких людей нам нужно овладеть»... Меж тем А.Н. Шелест был в числе тех, кого МММИ выдвинул на получение ордена. Болезненно воспринимается и уменьшение «партийной прослойки», которая последовала с ослаблением «пролетаризации», особо жалеют о парттысячниках. «Тов. ОСИПОВ. ... Словом, основная масса парттысячников [к этому году учится] на 4-м и 5-м курсе. У нас было счастливое время во Втузе. Во Втузе [МВТУ] была такая партийная прослойка что в каждом [новом] Втузе была мощная партийная организация, партком; это было особенное время для райкомов [парткомов?], замечательное время. К сожалению, оно уже уходит. Пришли сейчас новые кадры с маленькой партийной прослойкой молодых членов партии. Сейчас вопрос партмассовой работы в этих группах, вопрос перенесения своих традиций, хороших традиций, которые внесли парттысячники, сейчас в Институте в этих группах этот вопрос большой политической важности. Сейчас нужно партийному руководству свои навыки работы, свои партийные традиции передать, иначе через полтора – два года будет очень тяжелое положение с партийной работой» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 14, лл. 46, 52об, 53, 55). Волнуются студенты-партийцы. Лещинер сообщает: «Отдельные студенты заявляют: "это постановление вытесняет рабочих из вузов, так как рабочему трудно заниматься, у него подготовка ниже, чем у служащего или интеллигента"»; «Это постановление – возврат к старому. Из-за него будут возникать антагонизмы, трения и подлизывания к преподавателям» (см. Лещинер, Цибарт)... |
Создание факультетов. Проект Устава МММИ
Если с 1930-го года втузы и в т.ч. МММИ им. Баумана были структурированы по специальностям, а не факультетам (как отражавшим «нашу былую экономическую отсталость»), то с сентября 1932-го года от этого проявления «отраслизации» отказываются решительно. «Новое старое» встречает в серьезных преподавателях МММИ, в т.ч. их советского поколения, полное понимание. «Мы делаем основным звеном – факультет», говорит (в начале 1934 г.) партиец проф. О.О. Науман; он видит в этом сущность реформы.
«В 1932 году в МММИ создаются факультеты: холодной обработки, горячей обработки, тепловых и гидравлических машин, общего машиностроения и временно технико-экономический, на которых студентов готовят по специальностям: обработка резанием, обработка давлением, литейное дело, дизелестроение, подъёмно-транспортные сооружения, металловедение, точная механика, газотурбины, холодильные машины, текстильное машиностроение, паровозы и тепловозы, производственное планирование, технормирование, проектирование машиностроительных заводов. Первого сентября 1933 создаётся факультет сварочного производства, а в 1936 – приборостроительный и автотракторный» (см. Волчкевич, Соцсоревнование). Более подробно со структурой МММИ времени директорства Цибарта можно ознакомиться, например, в упомянутой выше книге «МВТУ им. Н.Э. Баумана. 1830–1980» (см. на сайте).
А в 1933-м году составляется проект устава МММИ им. Баумана (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 7). Проект должен быть представлен на подпись нач. ГУУЗ Петровского, занявшего эту должность в августе или сентябре 1933 г., т.е. относится к началу 1933/1934 учебного года. Он интересен в числе прочего тем, что в нем уже предусмотрено создание общетехнического факультета, который появится ко второму семестру, в феврале 1934-го года, – замечательного достижения МММИ, ставшего образцом для всех втузов СССР.
|
Не посягая на создание профессиональной истории МММИ, все же поместим здесь сведения о структуре МММИ из проекта его устава 1933-го года: это – полная деловая картина Бауманского того времени. Согласно проекту, МММИ им. Баумана должен был готовить инженеров по следующим специальностям: – с отрывом от производства «по широкому профилю»: 1. обработка давлением (ковка и штамповка), 2. обработка давлением (прокатка и волочение), 3. литейное производство, 4. контроль процессов производства (металловедение), 5. механо-сборочное производство, 6. текстильное машиностроение, 7. машины пищевой промышленности, 8. подъемно-транспортные установки и машины, 9. сварочное производство, 10. точное приборостроение, 11. двигатели внутреннего сгорания, 12. насосы и гидротурбины, 13. паровозостроение, 14. тепловозостроение, 15. холодильные машины, 16. котлы и локомобили; Преподававшиеся дисциплины: 1. обработка резанием, 2. литейное дело, 3. точное приборостроение, 4. паровозы, 5. тепловозы, 6. холодильные машины, 7. станкостроение, 8. гидравлические машины, 9. сопротивление материалов, 10. металловедение, 11. текстильное машиностроение, 12. грузопод'емные сооружения, 13. обработка давлением (прокатка и кузнечное дело), 14. компрессора и вентиляторы, 15. двигатели внутреннего сгорания, 16. сварочное дело (электросварочные машины, технология сварки и сварные конструкции). Институт приобретал право издавать свои научные труды и учебные пособия. Должен был состоять из 5 факультетов (включая общетехнический факультет, который, согласно этому проекту, и будет создан в 1934-м году): – Общетехнический факультет, с кафедрами химии, физики, теоретической механики, технологии металлов, сопротивления материалов, начертательной геометрии и черчения, детали машин и под'емные механизмы, гидравлики (общая), электротехники, математики, иностранных языков, прикладной механики, экономики металлопромышленности, марксистской истории техники, экономполитики, политической экономии, ленинизма, диалектического материализма; Уже действовал, на основе особого положения, Университет культуры. В 1934-м году стоял даже вопрос о преобразовании его в факультет (чего не произошло). Об университетах культуры во втузах Петровский писал: «... разница между тем студенчеством, которое хлынуло в широко открывшиеся стены втузов в 1930 г. и теми студентами, которые были приняты в 1933 и 1934 гг. – колоссальна. В 1930 г. преобладал взрослый рабочий, преимущественно семьянин, с серьезным производственным, а подчас и партийным стажем. "Парттысячи" и "профтысячи" наложили свою печать на состав студенчества, а в самой студенческой жизни они представляли собой руководящее ядро. Если же мы обратимся к возрасту вступивших в последние годы – 1933 и 1934 гг., то мы заметим, что молодежь от 18 до 22 лет уже составляет большинство поступивших во втузы. / У этой молодежи меньше жизненного опыта, меньше закала, но у нее много задора и колоссальнейшая жажда знания. Она предъявляет совершенно новые требования к втузам. … Вот эта жажда знания породила движение, которое известно под названием университетов культуры» (Петровский, Втузы...). При соответствующих кафедрах – лаборатории и кабинеты: – лаборатории: 1. химии, 2. гидравлическая, 3. прикладной механики, 4. кузнечная, 5. литейная, 6. металлографическая, 7. рациональной обработки металлов резанием, 8. станков, 9. инструментальная, 10. рентгенографическая, 11. текстильного машиностроения, 12. точного приборостроения, 13. пищевого машиностроения, 14. грузопод'емных и транспортных машин, 15. котлов и локомобилей, 16. паровозная, 17. тепловозная, 18. холодильных машин, 19. паровых двигателей, 20. насосов и гидротурбин, 21. двигателей внутреннего сгорания, 22. компрессоров и вентиляторов, 23. испытания материалов, 24. сварочная, 25. электротехническая, 26. физическая. Был организован Научно-исследовательский Комбинат (НИК). Вспомогательные учреждения: 1. фундаментальная библиотека, 2. библиотека социально-экономических наук, 3. учебные мастерские: литейная и кузнечная, 4. типография и литография, 5. светокопия, 6. мастерская наглядных пособий, 7. переплетная и 8. кабинет кино-фото-радио. Имелись молочно-животноводческий совхоз (станция Вельяминово), дом отдыха (Абхазия, Ермоловск), центральная электросиловая станция. Непосредственно при директоре находились: орг.-плановое и статическое бюро, бюро по связи с оканчивающими, спец. бюро и секретная часть, группа личного состава. Существовали различные общественные организации, профессорско-преподавательские и студенческие, а также комиссии, кружки и т.п. К сожалению, в проекте устава ничего не сообщается об имевшихся тогда общежитиях и о рабфаках. Не упоминается и об автономном во втузе ФОНе (факультете особого назначения). |
Возврат к нормальной продолжительности и содержанию учебы,
график занятий, 40% времени на лекции и другое
Восстанавливается, как уже говорилось, нормальная продолжительность обучения в МММИ – 5 лет (и деление учебного года на семестры). Больше того: «конечно, – говорит Цибарт пленуму ВЛКСМ, – постановление правительства не говорит о том, что мы должны во что бы то ни стало уложиться в 5 лет». И относительно специальности «паровозы и тепловозы» институт обращается в НКТП с просьбой утвердить учебный план в рамках 5,5 лет.
Ушли в прошлое «непрерывный учебный год» и «непрерывная рабочая неделя». «Для учащихся и профессорско-преподавательского состава два раза в году устанавливаются каникулы, зимние продолжительностью в 15 дней, с 25 января по 7 февраля и летние продолжительностью два месяца непрерывно с 1 июля по 1 сентября» (Устав МММИ 1933 г.). «Втуз переходит на прерывную шестидневку с 30-часовой недельной нагрузкой, и 538 профессоров и преподавателей руководят сейчас занятиями в 173 учебных группах» (Юбилейный сборник, Цибарт). Вступительные экзамены уже не «приурочиваются к триместрам» (триместров уже и не существует), а проводятся перед началом учебного года.
«Работали мы и над составлением графика учебы. По графику, который мы разработали, первые пять семестров учебы отдаются исключительно на теорию [NB! – работа во втузовских мастерских есть та же учебная], а начиная с шестого семестра идет уже производственная практика (полсеместра) и затем теоретическая учеба. Один из семестров занимает военно-производственная практика. Последний, десятый семестр по нашему графику отводится на специальное проектирование» (см. Лещинер, Цибарт).
«В основном МММИ перешел на лекции. Мы имеем сейчас около 40% [учебного времени] лекций» (см. Лещинер, Цибарт). Это еще в 1932-м году, практически сразу после решения ЦИК. А обсуждения во втузе и за его пределами сущности и методов этой «новой» формы преподавания ведутся и в 1933-м году, и позже. С должной идеологической бдительностью, но вспоминают и даже рекомендуют к изучению соответствующие труды дореволюционных ученых. «Мы плохо знаем опыт дореволюционной школы: этот опыт не изучен еще в должной мере», – пишет проф. И. Рыбаков в статье «Чему учит опыт применения лекций во втузах» (ЗПК 1933 №10), – он же в 1931-м году рекомендовал «от лекционного метода надо решительно отказаться, как и от его суррогатов». – «Во время диспута о лекции в Доме ученых (в декабре – январе 1932/1933 г.) и даже на заседании в Комитете по высшей технической школе (в мае 1933 г.) уделялось немалое внимание статьям профессора б. Петербургского университета Петражицкого. [Сноска: Л.И. Петражицкий. Университет и науки. т. I, СПБ, 1907.] Выступления некоторых профессоров дают основания думать, что высказывания Петражицкого имеют успех и что к ним нет критического отношения. Идеалистическое обоснование "новой", "предметной" системы университетского обучения так же мало изучено и проанализировано, как и "реформистские" мысли профессора И.Х. Озерова (идеалы либеральной буржуазии), как и интереснейшая полемика между М.Н. Покровским и проф. Вагнером (1905 г.). Мы остаемся равнодушными и к другому еще более интересному материалу – к докладам на съездах "русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России" 1892–1896 гг. Еще меньше уделяется внимания вопросам психо-физиологии педагогического процесса в высшей школе…».
|
Судя по тем мыслям Петражицкого, которые привлекли внимание втузовских ученых и КВШ в 1932/1933 гг., – до реформы 19 сентября 1932-го года лекции действительно были излишней роскошью, зато в процессе реформы образование мыслилось поставить на самый высокий уровень. «Лекции способны быть могучим средством приобщения к высшему, научному типу мышления и с этою умственно-образовательной целью должны сообразоваться их содержание, структура и приемы изложения. / Поэтому не только следует отрешиться от стремления внедрять лекциями ряды и массы чисто позитивных знаний, ... но в области рациональных знаний следует иметь в виду не учебно-догматическое их изложение и внедрение, а их научно-критическое добывание. / Элемент обучения рядам истин следует подчинить элементу добывания, искания истины. / Лекции должны быть и с точки зрения их влияния на знания не учительскими уроками, а устными научными исследованиями. Они должны быть, по возможности, таковы, каков подлинный процесс научно-критического мышления. И подобно тому, как наука движется и живет не только мыслительным созиданием, но в весьма большой степени борьбою и разрушением, так и в лекциях отнюдь не следует избегать критико-полемического элемента, хотя бы он был лишним для внедрения положительных знаний и неуместным в учебнике. Поэтому, далее, ученому в аудитории не следует стеснять себя и ограничивать в тех областях, которые он специально знает и любит, где он может обстоятельно и с воодушевлением отстаивать свои убеждения и с жаром опровергать иные теории и воззрения...» (См. Петражицкий). |
«Идеалистические» высказывания Петражицкого, вызывавшие опасения у проф. Рыбакова, действительно явно «имели успех» в то время – и, что примечательно, у таких ключевых фигур в организации техобразования, как Д.А. Петровский и А.А. Цибарт. «Как часто лекции, – говорит Петровский на заседании ученого совета МММИ в 1935-м году, – призванные будить ум, дать студенту научные предпосылки и толкать его на самостоятельную работу, сводятся к тому, что лектор пишет на доске разные формулы, а студенты их записывают». И в 1936-м году: «Мы вчера с директором Института тов. Цибартом были на лекции доцента Арустамова по начертательной геометрии. Предмет очень сложный, очень серьезный. / Лектор говорил очень четко, очень ясно, но я хочу вместе с тем выразить такую мысль: если, по моему мнению, нужен образец как не надо строить лекции, я бы сказал – пойдите и послушайте эту лекцию по начертательной геометрии»; ошибка лектора состояла в том, по оценке Петровского, что тот лишь «диктовал известные мысли». (Цит. по: Волчкевич, Сословие вольных людей.) Это обвинение в конкретном случае Арустамова было не совсем справедливо, но Петровскому, видимо, слишком важно было провести свой взгляд на сущность лекций вообще: это не должна была быть простая передача знаний, но именно их, говоря словами Петражицкого, «научно-критическое добывание»; запрещалось даже прямо излагать то, что можно было прочесть в учебниках.
«Зарубежный опыт», который еще недавно якобы демонстрировал ненужность лекций, теперь уже свидетельствует в их пользу. Оказывается, в Корнельском университете (США) по курсу анализа электрических цепей «профессор читает лекции два раза в неделю, причем на лекциях присутствует в обязательном порядке весь состав его кафедры» (ЗПК 1934 № 10 /май/), и т.д. ...
Возвращается дипломное проектирование, с защитой дипломных работ. Выпускникам вновь начинают выдавать дипломы (с 1929-го года, когда дипломное проектирование было отменено, по 1933-й год, т.е. в период окончания втузов до 19 сентября 1932 г., выдавались лишь свидетельства, удостоверяющие присвоение звания инженера определенной квалификации).
Ликвидируется «многопредметность» – вынужденное дробление единых базовых курсов по специальностям. «Общенаучным, общетехническим и специальным программам был отведен максимум учебного времени – 80–85 проц., не считая производственной практики. Наблюдавшаяся в учебных заведениях многопредметность должна быть ликвидирована за счет об'единения родственных дисциплин, искусственно раздробленных» (см. Лучший втуз...).
Количество учебных часов, отводимых на математику, физику, сопротивление материалов и др. увеличивается кратно. «Если на математику отводилось по старым учебным планам 280 час., то теперь она занимает 403 часа; физика – было 60–100 час., стало 200 час.; сопротивление материалов – 120–160 час., теперь 240 час.» (см. Юбилейный сборник, Цибарт).
|
История «пролетаризации» преподавания в МВТУ знала и более удивительные примеры, чем 120 часов в МММИ на курс сопротивления материалов (видимо, по учебнику тогдашнего зав. кафедры сопромата Е.Н. Тихомирова, издававшемуся в МММИ литографским способом на газетной бумаге). Так, в 1919-м и 1922-м гг. виднейший профессор ИМТУ–МВТУ, «король сопромата» П.К. Худяков издал два учебных пособия, излагавших этот курс... без использования высшей математики, и его работа была премирована ЦЕКУБУ (Центральной комиссией по улучшению быта ученых). Это были книги: первая «Как рассчитывают на крепость части машин и сооружений» (1919), рассчитанная на слушателей Техникума политехнического общества, и вторая «Теория упругой линии, разработанная геометрическим методом» (1922); за ними последовала дополнительная глава в его учебнике «Сопротивление материалов» (1923), содержащая эту теорию и упражнения (см. Уварова). Окончательно матанализ из программы все-таки не уходил, хотя преподавался сопромат и не по Худякову. А в 1933-м году газета «Техника» уже предупреждает (9 сентября, Сумароков): «математика должна проходить красной нитью через весь курс втузов, не ограничиваясь первым годом обучения, а специальные технические дисциплины должны излагаться в строгой математической форме, без всяких поползновений на упрощенство». |
...«Повысилась читаемость книг, посещаемость библиотек. Так например, в МММИ за четвертый квартал 1932 г. библиотека выдала 80 000 книг, в первом квартале 1933 г. – 98 000, а во втором квартале за два месяца 96 000» (ФНТ /Фронт науки и техники/ 1933 № 12. И. Кузьмин. Итоги соцсоревнования вузов).
«Академическая» практика вместо «непрерывной производственной» и восстановление институтских мастерских,
сокращение баз НПП и пр.
Требование ЦИК проводить производственную практику начиная с 3-го курса (в МММИ ее решили начинать лишь с 5-го семестра), а до того вести практические занятия исключительно во втузовских мастерских, вернувшее практике должный образовательный («академический») характер, открыло перед МММИ и новые материальные возможности. «Институт добился выделения Наркомтяжпромом специальных средств на организацию мастерских. / Вторая половина 1932/33 учебного года ознаменовалась большой работой по созданию и оборудованию своих учебных мастерских, чтобы студенты могли уже с осени 1933 г. начать производственное обучение. / Приступлено к организации литейного, кузнечного и механосборочных цехов... / Обширная программа строительства мастерских с оборудованием по последнему слову техники намечена институтом на ближайшее время...» (подробнее о мастерских см. здесь в рубрике «Лучший втуз...»).
«По недооценке НПП, даже по скрытым проявлениям этой недооценки, откуда бы она ни исходила, нужно ударить так, чтобы другим не было повадно», – будут напоминать руководящие товарищи (ЗПК 1933 № 5-6 с. 19), однако в МММИ «было сокращено количество баз НПП с 50 до 28» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 16, л. 11). Беспокойство наркомтяжпрома за свое детище не ослабевает и в следующем году: «Нередко проявляется прямая недооценка роли НПП»; «Оторванность учебного заведения от жизни промышленности была основным пороком дореволюционной технической школы. Советские втузы, переданные в ведение хозорганов, органически связались с предприятиями и значительно приблизили теоретическую мысль и учебную работу к производству. Однако в последний период эта связь ослабла» (ЗПК 1934 № 2), и т.д. МММИ делает эту связь осмысленной, что отмечает и автор последнего приведенного пассажа Г. Кириллов: «...основной недочет руководства НПП во втузах – отсутствие руководства со стороны кафедры. Редким исключением можно считать МММИ им. Баумана, ХЭТИ и некоторые другие институты».
«Единоначалие» против разгула «пролетариев на учебе»
Тем же постановлением ЦИК от 19 сентября 1932 г. в очередной раз подтверждается линия партии на «единоначалие» во втузах. («Единоначалие» давно на устах у Сталина, на ноябрьском 1929 г. пленуме Каганович выговаривает МВТУ за его отсутствие, и приказ Главтуза ВСНХ о единоначалии в учебных заведениях вышел еще 12 февраля 1930 г.) Курс на единоначалие директоров учебных заведений уже не означал роста каких-то авторитарных тенденций, ибо они к тому времени восторжествовали повсеместно: ректоры вузов с 1929-го года именуются директорами, чем подчеркивалось как то, что они не избираются коллективами, а назначаются сверху, так и то, что в самих заведениях они должны пользоваться всей властью. Единоначалие в учебных заведениях приобретало смысл специфический – остановить начатый еще революцией разгул «пролетариев на учебе». Вместе с тем, логикой вещей, он и восстанавливал в меру возможного приоритет учебы над идеологией. «Центральный исполнительный комитет Союза ССР указывает, что за всю учебную и административно-хозяйственную деятельность втуза, вуза и техникума единолично отвечает директор. Заведующий кафедрой единолично отвечает за постановку работы подведомственной ему кафедры, за качество и своевременность подготовки программы занятий, за методы учебной работы, за подбор преподавателей, их работу и т.д. / Студенческие организации (партийные и профессиональные), выполняя свои основные политические задачи, содействуют дирекции в борьбе за выполнение учебных планов и программ, за качество учебы и высокую учебную дисциплину, никоим образом не вмешиваясь в административно-учебные распоряжения дирекции, деканатов и кафедр.» – О единоначалии интересно говорится в брошюре 1934 г. «Лучший втуз Советского Союза»: сознательное студенчество обязывалось «... 4. перестроить систему общественной работы, коренным образом упорядочив ее и подчинив задаче осуществления постановления правительства о высшей школе в борьбе за качество учебы и укрепление единоначалия. 5. Обеспечить выполнение постановления правительства о поднятии роли профессора и педагога во всем учебно-производственном процессе». Казалось бы, чья роль в учебном процессе может быть для студента выше роли профессора, но ее и в 1934-м году приходилось еще «поднимать»! В том же году и Петровский, в докладе на 1-м заседании Совета КрМММИ им. Баумана (см.), замечает: «по линии студенческих организаций еще сохранились элементы заседательской суетни и отрыжки эпохи, когда студенты больше администрировали, чем учились» – интересная примета времени!

Подпись на обороте: «МВТУ [МММИ] 1933 г. Партком ВКП(б)»
Фото из архива Василия Емельяновича Невижина (1901-1969)
(Помещение «профессорской столовой», 1-й этаж)
Сидят: 1-й слева – секретарь партячейки МММИ 1932/33 гг. И.А. Серкин, 3-й – А.И. Хонин; стоит в центре – В.Е. Невижин

Подпись на обороте: «МВТУ [МММИ] / 1933 г. Студенты направленные ЦК ВКП(б) для работы в п/о [политотдел] МТ»
Фото из архива Василия Емельяновича Невижина (1901-1969)
(Помещение «профессорской столовой», 1-й этаж)
В верхнем ряду, стоят: 5-й слева - секр. партячейки МММИ 1931/32 г. П.В. Журавлев, 9-й - П.М. Зернов, 10-й - секр. партячейки МММИ 1932/33 г. И.А. Серкин, 12-я - студ. Иванова-Терентьева; в центре сидят секр. партячейки МММИ 1933 г. А.П. Матисен (?) и (положил руки ему на плечи) пред. профкома В.Д. Шевцов; в переднем ряду 3-й справа - В.Е. Невижин
Аспиранты заграницей
Первая группа аспирантов из 4-х чел. командирована ГУУЗ за границу, «будет в течение трех месяцев работать в качестве инспекторов станкоотдела в Лондоне». Двое – инж. Э.И. Гофман и В.Я. Камков – выпускники МММИ (ЗПК 1933 № 2–3).
Учебные планы МММИ для всех машиностроительных втузов
и Отраслевой методический кабинет при МММИ
...Все перечисленные усовершенствования во втузе происходили строго в русле решения ЦИК, проводились они и во всех других втузах, но именно МММИ им. Баумана, первый в своей отрасли из 16 «опорных» вузов Комитета ЦИК СССР по высшей технической школе, шел в это время в голове преобразований.
Уже к 12 февраля 1933-го года МММИ перевел свой 1-й курс на новые программы обучения – институтом были пересмотрены 244 существовавших программы и 59 добавлены вновь, кроме того введены 43 факультативных дисциплины. Профили «тепловозостроение», «двигатели внутреннего сгорания», «производственное планирование», «механосборочное производство» и «точное приборостроение» обсуждались на крупнейших заводах и в научно-исследовательских институтах. Созданные МММИ учебные планы были утверждены Комитетом по высшей технической школе, причем 11 из них – по механосборочному производству, холодильным машинам, гидравлическим двигателям и насосам, механической переработке пищевых продуктов, точной механике, литейному производству, обработке металлов давлением (по уклону ковка и штамповка), контролю процессов производства (металловедение), текстильным машинам, обработке металлов давлением (по уклону прокат и волочение), компрессорам воздуходувки, турбокомпрессорам и вентиляторам – были приняты в качестве типовых для всех машиностроительных втузов СССР. Из постановления Президиума ВКВТО: «Считать учебные планы по вышеуказанным специальностям утвержденными в качестве типового учебного плана по данным специальностям для машиностроительных втузов. / Председатель комитета Кржижановский. / Нач. учебно-методического управления Пинкевич» (см. Лучший втуз...).
|
«Важнейшей и первоочередной задачей каждого учебного заведения, вступившего в соревнование, являлся пересмотр учебных планов и программ на основе решения ЦИК СССР. (А. Ямский. Лучший втуз Советского Союза. 1934) |
Через год, ко второму семестру 1933/34 уч. года ГУУЗ НКТП издает «Учебные планы и программы специального цикла машиностроительных втузов» (в трех выпусках) под редакцией проф. Н.В. Красноперова, бывшего тогда зам. директора МММИ по учебной части (о его работе в МММИ см. далее), и с предисловием («Вместо предисловия») Петровского. «...Мы спешим с изданием документации, так как мы не только хотим своевременно учесть опыт текущего года, но и потому, что мы хотели бы до нового учебного года услышать критику как втузовской, так и заводской общественности». В этом издании основное место занимает работа МММИ.
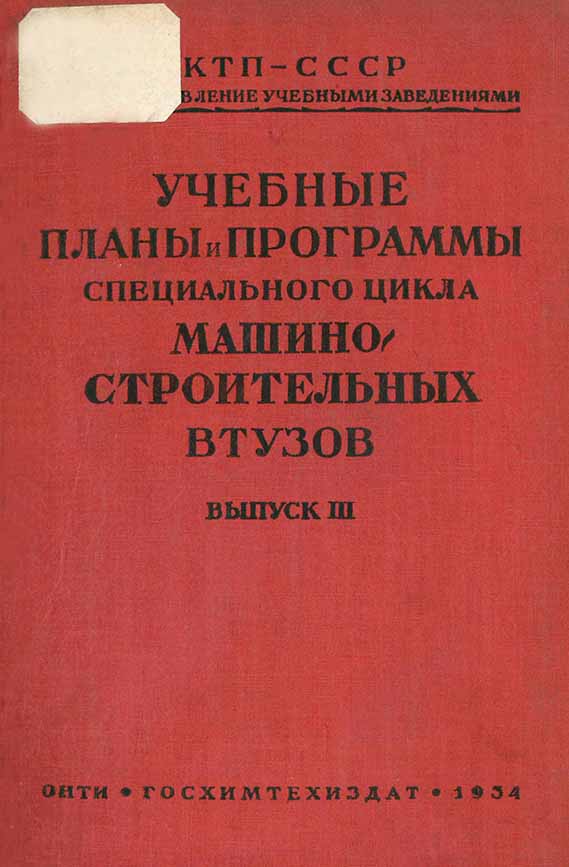
Эти три выпуска учебных программ в красных переплетах – не будничное рабочее дело, а важнейшее событие.
В 1933-м (или 1934-м) году при МММИ создается отраслевой методический кабинет (для других отраслей такие кабинеты создаются при МГИ, МИСИ, МЭИ, Московском металлургическом институте и Всесоюзной промакадемии – см. ЗПК 1934 № 5-6 /март/). «В этот период МММИ фактически возглавлял методическую работу среди вузов механико-машиностроительного профиля» (см.: 150 лет...). О деятельности методического кабинета МММИ им. Баумана можно узнать из обстоятельного доклада проф. Г.А. Осецимского на пленуме Высшего учебно-методического совета ВКВТО в декабре 1934-го года – «Опыт методической работы втуза». Отрывки из этого доклада приводятся в рубрике «События, победы и бедствия 1934 – 1935 гг. ...»; на сайте имеется и его полный текст (см. Источники).
«Пробная» экзаменационная сессия в феврале 1933 г.:
«Цибарт прикрываясь постановлением правительства проводил вредительскую линию, выгоняя из ин-та лучших представителей рабочего класса...».
Летняя сессия и подготовка к следующей зимней
Намерение Цибарта установить приоритет образования в институте более чем серьезно. Зимой 1933 г. Цибарт намерен провести первую после 1929-го года зачетную сессию, по-видимому, без особых скидок на предшествующие методы учебы и состав учащихся. (Сессия проходит 7–11 февраля 1933 г.) Это далеко не рядовое мероприятие. На самом деле, это – «бомба»: слишком многим из «закаленных пролетариев» очевидно предстоит получить неудовлетворительные оценки. На этой почве между директором и его заместителем по учебной части В.В. Балабиным возникает острый конфликт, с привлечением институтского парторга и секретаря райкома, ставших на сторону Балабина... В конце концов конфликт был улажен, но неясно, как именно – из архива институтского парткома многие протоколы заседаний этого времени явно изъяты. Если бы не материалы уголовного дела Цибарта 1937-38 гг. (в ЦА ФСБ РФ) – «Цибарт прикрываясь постановлением правительства проводил вредительскую линию, выгоняя из ин-та лучших представителей рабочего класса, которые мешали ему в его вредительских действиях» и т.д., – мы бы не знали о бурных событиях, предшествующих сессии, ничего.
Все, что на сегодняшний день нам известно об этой знаменательной «пробной» сессии – далее, в рубрике «Цибарт и партия: чужой среди своих».
Первая (после 1929 г.) официальная зачетная сессия проводится в вузах, как и положено, в июне (1933-го года). 15 мая Комитет по высшей технической школе принимает особое постановление – «О зачетной сессии», но подготовка к ней начинается в вузах много раньше.
Особые усилия к организации летней сессии приложил в своих стенах МММИ им. Баумана. На парткоме 23 февраля выступает зам. директора Балабин; в числе прочего в резолюции заседания: «а) К 25/V – отпечатать и спустить в группы учебные программы, на основе которых должны проверяться знания студентов. К этому-же сроку выпустить вопросники по которым должны быть проведены бои в группах. Эту работу должен организовать академ. сектор профкома. / б) К 1/VI – создать комиссии и иметь окончательное расписание сессии по группам, к этому-же сроку проверить все кафедры с точки зрения подготовки их к зачетным сессиям. / в) Проверить по всем группам общественную нагрузку и принять решительные меры к ликвидации таковых» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 16, л. 93). Партком взыскателен: «Обсудив сообщения т.т. Балабина, Хейнмана и секретарей факультетских ячеек ВКП/б/ т.т. Иолтуховского, Наугольнова, Ивановой, Юдина и Васильева о подготовке к зачетной сесии, пленум парткома отмечает, что наряду с развернувшейся на факультетах большой массовой работой по подготовке к сессиям /кружки, академбои, доведение до группы расписания сессий, работа с отстающими, рейд легкой каваллерии ГО, заочная производственная конференция, юбилейная эстафета, беседа за чашкой чая с профессорами, конкурс кафедры проводимая СНР социалистические счета [так в тексте стенограммы] и тд имеются еще в этой работе ряд недостатков...» (л. 2. 28 мая 1933 г.)
А. Ямский (Г.А. Нехамкин? М. Акимов?) впоследствии рассказывает:
«Так, широко вовлекая в подготовку к зачетам все организации, используя все многообразие форм и методов производственно-массовой работы, готовились бауманцы к большой и ответственной проверке своей годичной борьбы за повышение качества учебы на основе решений правительства от 19 сентября 1932 г. / И эта основательная подготовка позволила бауманцам рапортовать о своих достижениях 2-му пленуму оргбюро студсекций ВЦСПС уже в мае и через газету «За коммунистическое просвещение» выступить 24 мая с обращением ко всем профессорам, преподавателям, научным работникам и студентам вузов, втузов и техникумов Советского союза. / В этом обращении коллектив МММИ смог рапортовать всей стране о том, что институт в основном к зачетной сессии готов.
Отметив свои конкретные успехи и недостатки, институт дал в этом обращении обязательство партии, правительству и всему рабочему классу напрячь все силы, всю энергию для того, чтобы провести июньскую зачетную сессию – наиболее организованно и образцово. К этому же призывали бауманцы студенчество, профессоров и преподавателей всех вузов, втузов и техникумов Союза. / Обращение нашло самый живой отклик. Учебные заведения усилили свою подготовку к сессии. Десятки и сотни ответных писем институтов и техникумов получила газета "ЗКП" и МММИ.»
(А. Ямский. Лучший втуз Советского Союза. 1934)

Июньская 1933 г. зачетная сессия. Обращение МММИ им. Баумана ко все втузам, вузам и техникумам СССР
(«За коммунистическое просвещение» 24 мая 1933 г.)
В подготовке ко второй, январской 1934 г. сессии Краснознаменный МММИ развивает успех.
В типографии Сектора учебных пособий МММИ отпечатана брошюра «Материалы к январьской [так] зачетной сессии / 1933/34 уч. год» (см. Источники). Брошюра открывается «Приказом № 423» директора Цибарта по институту, от 16 декабря. «Заслушав 13/XII с. г. сообщение отдельных кафедр и учебной части И-та о ходе подготовки к январьской зачетной сессии, считаю, что работа по подготовке развернута недостаточно...»; «5. Предложить деканам ф-тов под личную ответственность немедленно перенять опыт сварочного ф-та и в течение ближайших дней изучить отстающих студентов в группах выявив причину отставания и преподавателей, допустивших его. Наметить конкретные мероприятия по ликвидации отставаний. / Предупреждаю деканов ф-тов, что я лично буду проверять в самый ближайший срок наличие данных об отстающих студентах на ф-те. Считаю, что деканы, которые не изучают качество учебы своих студентов и не знают отстающих, не умеют конкретно руководить учебным процессом»; «7. Отпечатать и вывесить на видном месте к сведению всего студенчества, постановление Комитета по Высшему Техническому образованию о январьской зачетной сессии и инструкцию комитета по оценке успеваемости. Учебной части немедленно разослать инструкцию по текущему учету знаний всем зав. кафедрам и преподавателям»; «9. В течение декадного срока выявить студентов особенно глубоко отстающих, безнадежных в академическом отношении и представить мне списки»; «10. Библиотеке немедленно выработать план своей работы и связаться с другими библиотеками на предмет обмена книжным фондом, на время зачетных сессий, кроме того прибегнуть к методам фотографирования для размножения отдельных дефицитных статей и глав учебников. / Шире организовать консультацию преподавателей, как в стенах ВТУЗ'а, так и в общежитиях»; «11. Предлагаю бригаде тов. Н а у м а н а ежедневно освещать работу по подготовке нашего ВТУЗ'а к зачетной сессии (в виде плакатов, диаграмм и т. п.), доведя их до всеобщего сведения профессуры и студенчества. / Добиться в работе такого положения, чтобы было видно ежедневное нарастание подготовки к зачетной сессии. / Выявить наиболее хорошо работающие кафедры, преподавателей и группы (на предмет премирования) с одной стороны и с другой стороны выявить кафедры, группы и преподавателей, плохо готовящихся к сессии, на предмет общественного воздействия, помимо мер административного воздействия, которые будут приняты по отношению к этим товарищам. / Художнику И-та переключить свою работу, в основном, на обслуживание (художественное оформление) работы бригады тов. Н а у м а н а», и прочее.
29 декабря 1933 г. делегированный на партконференцию МММИ руководитель бригады Комитета по высшему техническому образованию тов. Раткинский в частности отмечает: «мы нашли в постановке работы такие качества, которые ставят ваш Втуз выше других, он краснознаменный Втуз. Для примера я скажу, что такого плана, как ваш план подготовки к сессии [январской 1934 г.], мы еще в Москве не видели и мы этот план считаем образцовым...» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 14, лл. 17, 18).
...По окончании сессии Цибарт пишет (см. Сейчас же начать...): «Эта зачетная сессия в сравнении с прошлой июньской бесспорно имеет значительные сдвиги. Если раньше на сессию выносились предметы, не законченные прохождением, то сейчас этого нет. К июньской сессии группы не были [полностью] обеспечены программами, в этой сессии студенты ими обеспечены полностью». – Самое интересное: видимо, в июне институтские профессора еще не верили в серьезность сессии, но не то уже в январе. «Отдельные руководители кафедр [в июне] почти не принимали никакого участия в подготовке к сессии, в январской сессии, наоборот, мы имеем чрезвычайно отрадное явление, когда профессура проявила большую активность в сессионной подготовке. Организованная в помощь учебной части профессорская бригада, привлекая профессорско-преподавательский состав, проделала большую работу»...
Поблажки «идеологически здоровым», но отстающим студентам уже, если и делаются, то осуждаются. На июньской 1933 г. сессии в Бауманском получили неудовлетворительные оценки 6,9% студентов; Цибарт пишет, что имелись «факты снижения требований к студенчеству». На последовавшей январской 1934 г. сессии «неудов» станет еще больше, и основная категория неуспевающих называется почти что прямо. Это – те, кого набирали во втузы в процессе «пролетаризации», в т.ч. без среднего образования. «Сессия [январская 1934 г.] выявила недостаточную довтузовскую подготовку у части студентов, особенно у рабфаковцев. Так из всех неуспевающих 39,1% составляют окончившие рабфаки, 20,1% – курсы по подготовке в вуз, 6,0% – девятилетку, 3,0% – техникум, 31,8% – ФЗУ, семилетки и другие учебные заведения». Несколько меньшее, чем у рабфаковцев, число неуспевающих среди кончивших фабзавучи и семилетки (Цибарт еще не отваживается употребить слово тысячников) – определяется тем, что последних во втузе все-таки меньше, чем рабфаковцев (на 1-е сентября 1933 г. из 2276 студентов дневного отделения 195 тысячников).
Интересно, что Цибарт говорит о подключении профессоров к январской 1934 г. сессии с удовлетворением, тогда как Петровский выражает с этим фактом и с его оценкой Цибартом несогласие: это, по его мнению, придало сессии «характер кампании» – видимо, слишком явного торжества профессионалов в институте (см. Сейчас же начать...).
Первый, почти полноценный набор 1933/34-го учебного года:
«при сохранении в полной силе классового подхода», отныне требуются знания
В 1933-м году предстоит первый полноценный (почти полноценный) набор во втузы. «Набор 1933 г. в учебные заведения НКТП является большой политической кампанией... Вся работа по приему в текущем году должна носить характер подбора академически подготовленного контингента, не снижая при этом ценности социального состава» (ЗПК 1933 № 5-6). «Прием в вузы в 1933 г. должен происходить п о н о в о м у – в полном соответствии с постановлением ЦИК СССР от 19/IX 1932 г. о высшей школе; это значит, что не командировка и не путевка, а з н а н и я (при сохранении, разумеется, в полной силе классового подхода) и п р о в е р к а э т и х з н а н и й решают вопрос о приеме»; «н и к т о от приемных испытаний не освобождается» (ЗПК 1934 № 10). Что ж, определенный «классовый подход» (как и существовавшие тогда привилегии «нацменам») мог бы быть и справедлив: определенные преимущества для тех, кто начинал в заведомо худших стартовых условиях, иметься должны.
Совместить оба требования – «академической подготовленности» поступающих и «сохранения в полной силе классового подхода» к ним – удается не вполне. В феврале 1935 г. на совещании в ГУУЗ «... т. Петровским отмечены большие колебания в социальном составе принимаемых, что говорит об известном ослаблении внимания к основному и важнейшему вопросу обеспечения полноценного социального состава студенчества. Над этим должны задуматься все директора».
«О повышении роли и авторитета директоров втузов»
Вообще говоря, высокое место директоров втузов в партийной иерархии подразумевалось властью всегда – так, в 1930-м году представитель Бауманского райкома Некрасов говорит на собрании Бюро партячейки ВММУ следующее: «...Цибарт недооценил себя, будучи по сути в Училище представителем ЦК партии» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 3, л. 56). Однако представитель ЦК во втузе больше принадлежал партии, и не только непосредственно ЦК, чем втузу. Длительные командировки по партийным заданиям – например в 1930-м году в Дроково, на исправление «перегибов» коллективизации, – как и постоянная угроза «переброски» или смещения в результате внутриинститутских партийных интриг или идущая «сверху» – все это было для А.А. весьма актуально.
Укрепить позиции втузовских директоров в самих заведениях, от которых стало требоваться настоящее качество учебы – значило и отодвинуть на второй план месткомы с их идеологическим фанатизмом.
Конечно, ни о какой выборности директоров речь не идет, но важно, чтобы их назначениями и смещениями не занимался кто попало. 28 августа 1933 г. Орджоникидзе распоряжается: «Впредь установить такой порядок, при котором директора втузов, а равно и деканы факультетов ведущих втузов (по особому списку) назначаются и сменяются мною» (из Приказа по наркомтяжпрому № 761). Речь пока лишь о назначениях и смещениях внутри системы НКТП.
Очень скоро на максимальную высоту – до уровня ЦК ВКП(б) – поднимается не только вопрос назначения/смещения директоров всех вообще вузов (не только технических и не только НКТП), но и вопросы с их отвлечением от работы, сроками назначения и др. А после 19 сентября 1932-го года ЦК заинтересован в первую очередь в том, чтобы директор работал именно директором.
19 октября 1933 г. ЦК ВКП(б) принимает постановление «О повышении роли и авторитета директоров втузов». «...Предложить наркоматам в руководстве втузами и вузами главное внимание обратить на укрепление их квалифицированным составом директоров, повседневное руководство ими и закрепление их на данной работе на длительное время (3–5 лет). Подбору директоров втузов и вузов наркомы должны уделять не меньшее внимание, чем подбору директоров крупнейших предприятий. / Установить что директора втузов и вузов всех союзных наркоматов, а также Наркомздрава, Наркомпроса, Наркомюста РСФСР назначаются и смещаются ЦК ВКП(б) по представлению наркомов после личного ознакомления с каждым представляемым на утверждение или смешение кандидатом. / Запретить крайкомам, обкомам и ЦК нацкомпартий и наркоматам производить перемещение директоров, а также снятие и длительные командировки их без специального в каждом отдельном случае постановления ЦК ВКП(б)...»
|
О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ И АВТОРИТЕТА ДИРЕКТОРОВ ВТУЗОВ ЦК ВКП(б) констатирует, что в работе наркоматов конкретное руководство вузами и втузами занимает второстепенное место. Наркоматы вопросам втузов и вузов уделяют очень мало внимания. Работа директоров высших учебных заведений поставлена в исключительно неблагоприятные условия. Директора по вопросам возглавляемых ими учебных заведений на всегда находят разрешение своих вопросов у соответствующих руководящих работников. Текучесть директоров достигла огромных размеров. Подбор директоров осуществляется второстепенными работниками и невнимательно. Часто лучших директоров снимают со втузовской работы на хозяйственную. (Сборник постановлений по высшему техническому образованию /период 1932–1935 гг./. М.-Л., 1935) |
Работа Бюро реального проектирования.
Рождение хозяйственного объединения лабораторий – Научно-исследовательского комбината
Еще 8 января 1932 г. в МММИ было учреждено Бюро реального проектирования для профессуры и аспирантуры (ЦГАМ, ф. Р-1992, оп. 4, д. 6, л. 3 – приказ Цибарта № 7). Бюро организовано «в соответствии с решением ЦИК», говорит Цибарт на 6-м пленуме ЦК ВЛКСМ (Лещинер, Цибарт), но на самом деле значительно раньше. Даются реальные задания по проектированию и студентам. «Правда, мы не можем еще похвастаться тем, что все наше проектирование (курсовое и дипломное) является реальным, но все-таки мы имеем и в этом значительные достижения» (Лещинер, Цибарт). – В проекте структуры МММИ 1933 г. такой единицы нет, но по крайней мере 5 февраля 1933 года Бюро реального проектирования упоминается, и действует оно эффективно: «признать необходимым помимо факультета ХО, развернуть в 1933 году реальное проектирование на других факультетах – ГО, ОМ, ТГМ и ТПС...»; «организовать при БРП технический совет из состава профессуры института», а также «партийную группу» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 16, л. 87).
|
Между прочим, «постановление ЦКК НК РКИ о реальном проектировании состоялось 18 мая 1931 г. Постановление категорически требовало, чтобы академическая работа студентов втузов и техникумов была использована для выполнения заданий промышленности и транспорта и чтобы все студенты третьего и четвертого курсов были переведены на работу по промышленным заданиям» (ЗПК 1932 № 7-8, с. 58). «Похвастаться» выполнением подобного требования, конечно, не смог бы ни один втуз или техникум, тем более что заданий промышленности студентам очевидно не могло поступать, и постановление Центральной контрольной комиссии ВКП(б) Народного комиссариата рабкрина было благополучно проигнорировано. |
При МММИ действует Научно-исследовательский комбинат (НИК), фактически созданный 8 декабря 1932-го года. Интересно, что НИК МММИ был учрежден еще до соответствующего приказа Орджоникидзе (см. ниже); создание Комбината стало возможным в результате реформы 19 сентября 1932 г., оно относится к новому периоду в жизни втузов. – «Новые требования в отношении улучшения качества подготовки студентов ставят перед институтом задачу усилить научно-исследовательские работы, концентрируя всю научную мысль вокруг проблем, выдвигаемых нашей растущей промышленностью. / Надлежащим образом поставленная работа в лаборатории дала бы возможность еще больше закрепить за Институтом основные кадры профессуры и сосредоточить всю подготовку аспирантов в стенах института. / Несмотря на изношенность и кое-где значительную устарелость лаборат. оборудования, ин-т все же имеет большие возможности при правильной организации дела значительно поднять научно-исследовательскую работу в своих лабораториях и сильно увеличить участие в ней профессуры и аспирантуры.
Виду этого приказываю:
1. Объединить руководство админ. хозяйственной и научно-исследовательской деятельностью лабор. и организаций перечисленных в п. 2 в руках единой организации, находящейся на полном хозяйствен. расчете и имеющей самостоятельное делопроизводство, отчетность построенную на основах принимаемых в заводах и научно-исследоват. институтах.
2. Временно, впредь до окончания утверждения положения в НКТяжпроме, организовать для этой цели Научно-исследовательский Комбинат при МММИ /НИКМММИ/ им. Баумана. ...
Примечание: ... 3. Директором Комбината является директор МММИ по совместительству. Зам. директора по производственно-технической части назначаю тов. Белокопытова. При нем создать технический совет в составе профессоров: Саверина, Осецимского, Герке, Зимина и Рубцова...» (ЦГАМ Ф. Р-1992, оп. 4, д. 6, лл. 118, 119. Приказ Цибарта).
«В целях большего приближения профессуры к институту, закрепления ее за институтом, для того чтобы преподавательский состав не вынужден был искать побочного заработка на стороне, институт организует сейчас хозяйственное об'единение наших лабораторий. Мы об'единяем лабораторию по обработке металла резанием, лабораторию по испытанию материалов, кузнечную, литейную и т.д. Это об'единение будет работать на полном хозрасчете и самостоятельном балансе, будет заниматься научно-исследовательской работой по заданиям промышленности и научно-исследовательских институтов...» (Цибарт; см. Лещинер, Цибарт).
Оборудование учебного процесса. Внедрение «учебных фильм», «фонарей» и др.
При всех трудностях, институт живет так, как если бы только что не вышел из полосы сплошной «НПП», «бригадного метода», ударного сокращения сроков учебы и проч. В МММИ и ГНИ проводятся опыты – это ли не роскошь? – «по выявлению действия физических факторов на работоспособность учащихся», именно «по ионизации воздуха в учебных помещениях, опыты по выявлению действия ультрафиолетовых лучей и т.д.». Исследования организованы центральным методическим кабинетом ГУУЗ под руководством проф. Корнилова, который, между прочим, проводит и такую неудобную мысль: «Целый ряд авторов, в том числе и мои экспериментальные исследования, говорят о том, что переход от умственного труда к физической работе происходит значительно легче, чем обратное. Непосредственное наблюдение над занятиями учащихся без отрыва от производства подтверждают это» (ЗПК 1933 №2–3). Предлагал ли он вечерние отделения заменить утренними?
Еще 25 августа 1932 г. ЦК ВКП(б) указывает на необходимость учебного кино. НКТП, опираясь на лозунг Луначарского «Кино в школе займет такое же твердое место, как классная доска или книга», внедряет кино в учебную работу технической школы. В журнале «За промышленные кадры» призывают «Овладеем учебным кино», «Обеспечим высокое качество учебных фильм» (это не описка, слово фильм в одних и тех же статьях то в мужском, то, в стиле Луначарского, в женском роде); к 1933-му году, отчитывается журнал, «организован ряд опорных фото-кинорадиокабинетов в отдельных крупных учебных заведениях». Разумеется, в «головном втузе» МММИ все это внедряется в первую очередь. Есть и фото-кинорадиокабинет, оборудуется учебный процесс, в аудиториях киноаппараты и проекторы... Технические новшества не всегда сразу пробивают себе дорогу (нам достаточно вспомнить, как на первых порах стояли в организациях, бездействуя или тайком используясь для игр, компьютеры): «Насчет качества наших лекций. У нас есть много аудиторий, в которых имеются кино-аппараты, фонари [диаскопы], но эти фонари только стоят бездействуя и подчас даже мешают. Как мы используем эти аппараты, как кинофицируем лекции. Скажите, очень часто вы видите светофицированные формулы? … я учусь мелом на доске. Это неправильно. Администрация должна это учесть» (из «самокритики» на парткоме в 1934-м году). Что ж, «мелом на доске» учиться будут, наверное, всегда.
* * *
|
Как воспринимался переход МММИ к настоящему образованию его студентами? «Прежний лабораторно-бригадный метод оставил в моем мозгу солидный след. Он приучил меня работать не так, как нужно. В моей памяти очень немного дней и вечеров, когда я сам брал в руки книгу и старался вникнуть в сложные математические формулы и глубину глубин исторического материализма. У меня только две-три наполовину потертых тетрадки, которые хранятся в заплатанной корзине. / Моя личная библиотека состоит из 5–6 экземпляров второстепенных учебников. Как жестоко я расплачиваюсь теперь за грехи молодости! / Мне трудно работать самому. Ценою больших усилий мне удается записывать лекции профессора. ...» Ничто, конечно, не идет гладко. – «Я хотел быть немножко наивным. Я хотел думать, что переход на новые учебные планы и программы избавит меня от забот о завтрашнем дне. Мне чудилось четкое расписание и четкий план. … Мои мечты сбылись. … Я увидел толстые тетради методических разработок, и на сердце стало удивительно легко. … По всем углам института, по всем коридорам, этажам, общежитиям, в дирекции, парткоме, профкоме, Наркомтяжпроме твердят об одном: профили, программы, учебные планы разработаны. Начинаем жить и работать по-новому. Вступаем в новую эру! / Я конечно мог бы рассказать о тех существенных прорехах, доходящих порой до анекдотов, которые мне представились, когда я раскрыл плотно спрессованные листы методических разработок. Я мог бы вспомнить такие случаи, когда для факультета горячей обработки профили построены для механиков, а программы рассчитаны на... технологов. Я мог бы рассказать любопытный штрих из будней факультета точного машиностроения, где в программе значится 60–70 час. метрологии, причем никто не может объяснить, что это за "зверь" и "с чем его едят". Лишь Семен Иванович [?] после длительных расспросов решил разъяснить тайны сей непонятной "метрологии". / "Наука об измерениях", – сказал он.» «...Я привык сидеть за задачей по сопромату до утра, пока ее не решу, или засыпать перед неразрешенной задачей.» – Хотя, по мнению институтских партийцев, Цибарт уделяет идеологическим предметам недостаточное внимание, но: «Я привык вечерами бегать по соседним комнатам общежития за каким-либо томом Ленина или номером "Большевика", чтобы к утру подготовить задание по восьмой теме "Ленинский этап в развитии диалектического материализма", для которой рекомендуют проработать 400 страниц из книг и три номера "Большевика"…». Видимо, прежняя система обучения успела развратить не только студентов, но и преподавателей. – «Вспоминаются и без вины виноватые студенты преподавательницы Андреевой, которые неизвестно за чьи грехи вынуждены быть свидетелями того, как она не может объяснить второй закон Кирхгофа и как руководитель кафедры т. Перекалин признал два ее решения закона Био-Савара... неправильными. … Сменившиеся три преподавателя за это время становились только хуже. / "Снимем, снимем и третьего, – хладнокровно заявляют на кафедре, факультете и в дирекции, – но... не так скоро, как вы хотите".» Остаются и материальные трудности. Проф. Тихомиров, как мы видели, еще недавно издавал свой курс сопромата литографским способом, на газетной бумаге... «...Не хватает подсобных книг по сопромату, … на весь институт имеется только 4 или 5 экз. "Кинематики и кинетики" проф. Смирнова, … час теряешь в очереди для того, чтобы... не застать уже "Электромеханику" Черданцева. За группой закрепляют только по два учебника прикладной механики и гидравлики; нет "Грузоподъемников" Бекмана, "Нормалей" Куколевского, "Муфт" Лукина. А книгу по холодильной обработке Кривоухова, которую приходится разыскивать с неимоверными трудностями, недавно обнаружили в киосках Инженерно-экономического института, где она почти совершенно не нужна»… (ЗПК 1933 № 4, Б. Либерман, «Разрыв») |
Между тем: столетний юбилей и приказ Орджоникидзе, юбилейный сборник,
первый орден Бауманского и Цибарта
В течение почти всего 1933-го года, вплоть до торжественного заседания в филиале Большого театра, с участием Кржижановского, ведется подготовка к столетнему юбилею ИМТУ–МВТУ–МММИ им. Баумана. Событие поистине интересное и знаменательное. До этой поры возраст заведения отсчитывали от придания ему статуса высшего и именования Императорское Московское Техническое Училище в 1868-м году, еще раньше – от создания «больших мастерских разных ремесел» на базе Императорского воспитательного дома в 1826-м году. Сам Воспитательный дом был основан в 1763-м году, и справедливо было бы исчислять возраст заведения даже и с этой даты! День рождения Бауманского отмечают, с 1955-го года, 1-го июля – это утверждение Николаем I-м устава «Ремесленного Учебного Заведения Московского Воспитательного Дома» 1 июля 1830-го года. А в 1933-м году праздновалась, хоть и привязанная к этому событию, но вполне неопределенная дата...
Настоящий юбилей был, так сказать, вызван к жизни круто изменившимся отношением ВКП(б) к самому понятию отечества, а затем реформой технического образования 19 сентября 1932-го года – признанием отечественной досоветской науки и авторитета работавших во втузах еще с того времени ученых, возрождением образования и науки после их планомерного удушения в 1928–1932-х годах. Значение Юбилей имел поистине огромное: он символизировал перемены. А для МММИ в частности он означал признание его в качестве преемника бывшего МВТУ.
14 февраля 1933 года – приказ наркома Орджоникидзе «К столетнему юбилею МММИ им. Баумана». Институт получает новые возможности для развития (которые вскоре будут значительно урезаны).
Издается, в плане подготовки к юбилею, весьма интересный сборник «100 лет МММИ им. Баумана».
17 ноября (?) 1933 года, в связи с юбилеем, МММИ им. Баумана получает свой первый орден – Трудового Красного Знамени. Одновременно ордена Трудового Красного Знамени удостаивается его директор А.А. Цибарт.
Всем этим событиям посвящены в этом очерке особые разделы – «100-летний юбилей Училища (1830 – 1930) в 1933-м году: реабилитация отечественной науки. Приказ Серго», «Юбилейный сборник "Сто лет МММИ имени Баумана"» и «Орден Трудового Красного Знамени: награждение Бауманского и Цибарта. "ВТУЗ находится на крутом подъеме. Мы идем вверх по большинству наших качественных показателей"». Также в отдельные разделы вынесены темы социалистического соревнования и стахановского движения, некоторые другие.
...В самом конце триумфального для МММИ 1933-го года, на институтской партконференции 29 декабря, А.А. Цибарт констатирует (повторим цитату): «втуз находится на крутом подъеме...»
* * *
В этот же год огромных деловых успехов – счастливое событие и в семье А.А. «24 апреля. Родилась Светка» – младшая дочь Светлана Адольфовна Цибарт (в зам. Пешехонова, 1933–1977). «Как я хотел Светку, мечтал о ней»; «Светка моя жива, весела, здорова»; «Здесь [в покидаемой квартире] я получил Светку. Здесь для меня было счастье»... (Дневник).
Этот юбилей – далеко не просто круглая дата, не обычное календарное торжество.
Собственно, и само столетие Училища в 1930-х годах было проблематичным – долгая история его формирования позволяет называть и много более раннюю дату, и более позднюю. Признанный ныне день его рождения, принятие первого устава Московского ремесленного заведения 1 июля 1830 г. (образованного при Императорском Воспитательном доме в 1826 г.), приходится на два года раньше намечавшегося в МММИ празднования столетия. Но и этот день до 1933-го года в Училище не отмечался никогда – датой рождения ИМТУ/МВТУ считалось придание Училищу статуса Императорского в 1868-м году. Юбилей был нужен, и он появился. Смысл заявленного Цибартом столь удивительного юбилея Бауманского в 1933-м году в том, что громкое, официальное и публичное признание заслуг «царского» вуза означало, на столь важном по тем временам символическом уровне, реабилитацию властью досоветской отечественной науки и работавших еще с прежнего времени «классово чуждых» ученых. В Бауманском как нельзя лучше почувствовали эту великолепную возможность, открывшуюся вместе с неожиданным признанием Сталиным понятия отечество.
Кроме того, юбилеем МММИ им. Баумана утверждалось значение Бауманского как главного преемника ИМТУ сравнительно с другими отпрысками авторитетнейшего российского втуза.
* * *
Итак, официально признанная в настоящее время дата рождения Училища – 1 июля 1830-го года. В выборе, хотя и не этой точной даты, но соответствующего этапа существования заведения, главную роль сыграл в 1932-м году А.А. Цибарт.
История Училища началась много раньше. Первый его росток – основанный Екатериной Великой в 1763-м году Московский Императорский Воспитательный дом. Никогда не забывался в Училище герб того заведения, ныне символ МГТУ – кормящий птенцов пеликан, знак материнской любви и самопожертвования. В свое время изображение пеликана печаталось... на игральных картах, распространявшихся в пользу заведения: Воспитательный дом получил от императрицы доходную «карточную привилегию», обеспечивавшую, вместе с пожертвованиями, его существование.

О своем прародителе помнят и во втузе времен Цибарта: «предок этот – не что иное, как созданный по указу Екатерины воспитательный дом для "найденных и оставленных родителями детей, для зазорных младенцев, коих жены и девки рожают беззаконно"» (см. Лучший втуз...). Обучать в заведении предполагалось в т.ч. «мануфактурам и фабрикам», но действительно технического училища из него еще многие годы не получалось.
Наконец, 5 октября 1826-го года вдовствующая императрица Мария Федоровна повелела «учредить вне Воспитательного Дома большие мастерские для разных ремёсел, со спальнями, со столовою и прочими потребностями, и переместить туда из Воспитательного Дома всех ремесленных воспитанников, умножив их число до 300». (Кстати сказать, из Ведомства учреждений императрицы Марии в ведомство Министерства народного просвещения будущее ИМТУ перешло лишь в 1887 г.) Долгое время именно эту дату и полагали в заведении точкой отсчета его истории.
Для новых мастерских, по воле императрицы, начали перестраиваться «каменные корпусы, оставшиеся после пожара [1812-го года] от бывшего Слободского дворца» – любимого дворца Павла I и нынешнего лица Бауманского, его «старого здания». 1-го июля 1830-го года – историческая дата. В этот день император Николай I вынес резолюцию: «...На поднесенном проекте положения Ремесленного Учебного Заведения Московского Воспитательного Дома Собственною Его Императорского Величества Рукой начертано тако: "Быть по сему, в Петергофе первого июля 1830 года"» (цит. по: Волчкевич). Отсырев после полутора десятка лет пребывания в руинах, реконструированный Д. Жилярди и А. Григорьевым Слободской дворец оставался к 1830-му году еще непригодным для обитания и принял в свои стены МРУЗ (Московское ремесленное учебное заведение) только в 1832-м году.
Статья в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона начинается так: «В 1826 г. императрица Мария Федоровна повелела учредить в Москве для воспитанников М. воспитательного дома мастерские разных ремесел на 300 человек. Первый устав образованного таким образом ремесленного учебного заведения утвержден 1 июля 1830 г.; открыто оно было в 1832 г.» – Таким образом, период 1763 – 1826 гг. не упоминается в ЭСБЕ вовсе; 1826-й год – это год, считавшийся в Заведении юбилейным до образования в 1868-м году собственно ИМТУ; 1 июля 1830 г. – дата юбилея, по старому стилю, которая отмечается с 1955-го года поныне; 1832-й год, избранный в качестве юбилейного в МММИ им. Баумана – это время, когда руинированное здание Слободского дворца, восстановленное и перестроенное для МРУЗ, смогло принять Заведение.
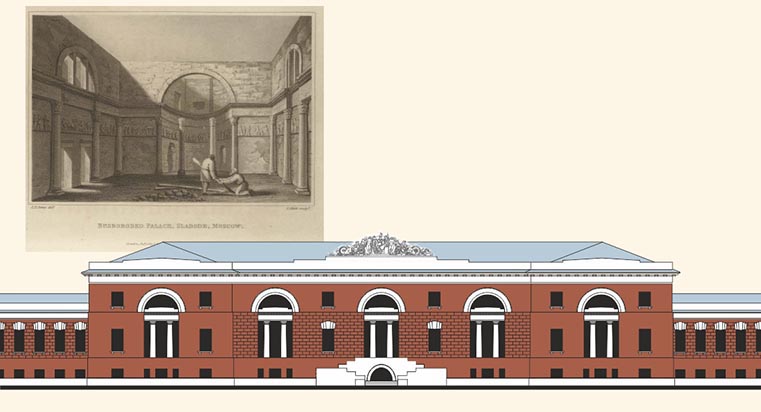
Двухсветный парадный зал Слободского дворца после пожара (без кровли; центр. часть, вид в сторону главного фасада);
фрагмент главного фасада Дворца (центр. часть) после перестройки для МРУЗ
Почему о своем вековом юбилее, ни считая от 5 октября 1826-го, ни от 1-го (13) июля 1930-го года в ВММУ/МММИ (возникшем тогда из механического факультета МВТУ) еще не думали? Дело в том, что датой основания собственно высшего технического учебного заведения воспринимался тогда, как и до революции, 1868-й год – когда ремесленное учебное заведение, МРУЗ, было преобразовано в Императорское Московское техническое училище. («Уставом 1868 г. ремесленное учебное заведение было преобразовано в Императорское М. техническое училище и организовано по типу высших специальных учебных заведений, с девятилетним курсом; старшие три класса составляли собственно Высшее техническое училище» – ЭСБЕ.) Еще в 1918-м году предполагалось (но не довелось) праздновать именно 50-летие училища, от принятия устава ИМТУ, также и в 1930-м году, последнем для прежнего МВТУ, о нем во втузе говорят как о всего лишь 60-летнем («седой 60-летний ветеран...»).
На самом деле, представить реальную историю Бауманского без десятилетий с 1830-го (1832-го) года, в частности не поминая вклада его директоров Ф. Отта (Отт, Отто), А.А. Розенкампфа, А.С. Ершова – невозможно. И хотя портновская и сапожная мастерские были выведены из заведения только в 1836-м году, дата «1830» как минимум справедлива. МРУЗ переросло свой относительно скромный статус задолго до 1868-го года. В 1860-м году последний директор МРУЗ Ершов, добивавшийся перехода МРУЗ в статус высшего учебного заведения (и не доживший нескольких месяцев до осуществления своей мечты), между прочим, говорит (см. Публичный акт...): «В конце первого десятилетия его [МРУЗ] существования, следовательно более 20 лет тому назад, начали вводить в курсы наук и физику, и начертательную геометрию, и механику. В Заведении давно уже, благодаря неутомимой деятельности бывшего директора А. А. Розенкампфа, устроены мастерские для делания машин (большая мастерская была пущена в ход 27-го августа 1848 года); в нем была даже лаборатория, в которой с 1838 года по 1841 год учил красильному искусству ученик Берцелиуса Ландманн, а прежде него производил опыты П. В. Федоров, теперешний профессор Демидовского лицея. Это уже не простое ремесло. Этого мало: я нашел в архиве комитета бумаги, из которых видно, что предлагались другие названия нашему учреждению, и именно: технологическое учебное заведение, и даже технологический институт Императорского Воспитательного Дома»; «Самое важнейшее из изменений воспоследовало вследствие Высочайшего повеления, испрошенного в 12-й день ноября 1857 года; оно, можно сказать, решило судьбу Ремесленного Учебного Заведения, дало ему новую задачу для дальнейшего существования... Государю Императору угодно было в 12-день ноября 1857 года на докладе Московского Опекунского Совета о продолжении и распространении курса учения наукам в Ремесленном Учебном Заведении сделать собственноручную надпись: "Весьма дельно"», и пр. – Официально вновь образованное Императорское техническое училище не только унаследовало великолепное здание МРУЗ и его богатое оборудование, явно превосходящее потребности чисто ремесленного учебного заведения, но и контингент учащихся и, видимо, часть преподавателей. «При своем возникновении Техническое Училище получило от бывшего Ремесленного Учебного Заведения на ходу полную учебную жизнь, получило и первый контингент воспитанников, и необходимые учебно-вспомогательные средства. Последние уже в 1869 г. состояли из лабораторий общей химии, аналитической химии, технической химии, физического кабинета, механического кабинета, учебных пособий по черчению и деталям машин, библиотеки, учебных мастерских – токарной по дереву, столярно-модельной, слесарной, токарной по металлу – и механического завода» (см.: Я.М. Катушев, 1926). Первым ректором ИМТУ, председателем его Педагогического совета В.К. Делла-Восом и его ближайшим помощником А.В. Летниковым была проделана огромная и блестящая работа по усовершенствованию учебных планов училища; эта работа была в целом завершена за 6 лет, но уже в 1870-м году, всего лишь на второй год своего существования в статусе высшего учебного заведения, ИМТУ принимает участие во Всероссийской политехнической выставке в Москве (основавшей, при важнейшем сотрудничестве работников Училища, нынешний Политехнический музей), и в том же году удостаивается награды 1 разряда (аналог золотой медали) на Всероссийской мануфактурной выставке в Петербурге; на четвертый год – в 1872 г. – ИМТУ получило широкое международное признание своих достижений на Всемирной политехнической выставке в Вене. (А еще немногим позже, в 1876 г., достигло подлинного триумфа на Всемирной выставке в Филадельфии.) Понятно, что за столь короткие сроки создать столь успешное заведение «с нуля» было бы невозможно.
Почему же именно эта дата – день принятия первого устава МРУЗ 1 июля 1930-го года – и не была избрана?
Конечно, если бы эту дату в ВММУ и принимали во внимание уже в 1930-м году, празднование юбилея в год разгрома МВТУ и Дела Промпартии было бы немыслимым. Но и больше того: в 1930-м году гордиться буржуазной историей национального учебного заведения вообще не приходилось. Мешали победоносный социализм и пролетарский интернационализм. Кстати и пресловутая дореволюционная российская отсталость, один из краеугольных камней советской пропаганды, подобными торжествами ставилась бы под сомнение.
Здесь будет весьма кстати вспомнить, что никак не праздновался в том же 1930-м году «несомненный» 175-летний юбилей I-го МГУ, наследника бывшего Императорского Московского университета. Показательно, что к юбилею в МГУ готовились, по докладу директора МГУ И.Д. Удальцова в Наркомпросе предполагалось просить наркома Луначарского возглавить комитет по его празднованию (см. Ефимов), – но, видимо, сам Сталин посчитал празднование неуместным. Также как МВТУ, МГУ подвергался тогда расчленению. Сценарий обеих кампаний один и тот же, неразличима и риторика, которой они сопровождались. Совпадение конца прежнего вуза с его юбилеем даже подчеркивалось, как и в МВТУ: «Пора старику-университету на 175-летнем юбилее своей жизни – на покой», писал тот же Удальцов (ср. «отслужил свою службу седой 60-летний ветеран»)... Показательно, что юбилей Университета отмечался в 14-и странах в ученой эмигрантской среде, но представители правительств в этих торжествах практически не участвовали, дабы не испортить отношений с Советским Союзом. |
Осмыслили, лучше сказать – решились осмыслить эту дату как юбилейную (имеющую отношение к юбилею) уже в МММИ им. Баумана, только в 1932-м году.
Что же поменялось за полтора года? Главное то, безусловно, что с этого же времени Сталин начинает прощание с «пролетарским интернационализмом». В том самом 1930-м году вождь неожиданно отменил благословлённый Лениным и взлелеянный наркомпросом переход на латиницу, это была «первая ласточка». 4 февраля 1931-го года в речи на совещании хозяйственников он уже объявил, что если раньше «у нас не было и не могло быть отечества», то «теперь» (после победы отдельно взятого российского пролетариата над капитализмом) «у нас есть отечество», и в ноябре 1931-го года «Правда» задает новые установки – против «огульного охаивания всего прошлого в русском народе». Культурные исторические вехи вновь обретают значение, и в МММИ это поняли сразу. Теперь можно стало говорить и о всемирно признанной «русской системе инженерного образования», родившейся в ИМТУ, и всех других достижениях дореволюционного Училища. Руководящие указания Ленина, которые разумеется процитируют и в Юбилейном сборнике МММИ, имелись и на этот случай («пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которое человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества»)... Если МГУ послушно отложит свой юбилей до полного прояснения обстановки и справит его в очередную круглую дату, то МММИ им. Баумана и вспомнит о своем настоящем столетии, и разовьет в этом направлении ударный темп. Удивительная инициатива отметить столетний юбилей училища, на который прежде не обращали внимания, причем два-три года спустя после его настоящего дня рождения – смело использовала новые веяния в высшем советском руководстве. Именно смело, на свой страх и риск, – полной уверенности в том, что вышестоящие товарищи не расценят инициативу как «оппортунистическую», быть в то время еще не могло.
Еще раз подчеркнем: главный смысл этого юбилея состоял не в «пиаре» самого́ Училища. Юбилей «царского» заведения означал новую при советской власти, главенствующую в вузах роль науки и работавших в нем ученых, крупнейшими из которых были еще ученые «царские». «Есть отечество» – значит есть и отечественная, а не «буржуазная» наука, есть и замечательные отечественные ученые, а не подозрительные «буржуазные спецы». Именно эту идею главным образом и выражает выпущенный в 1933-м году юбилейный сборник. «Материалы настоящего сборника наглядно показывают, что, подводя трехлетние итоги самостоятельного существования МММИ, мы имеем крепкие основания вместе с тем подводить целые вековые итоги исканий нашей технической мысли, и юбилей МММИ является, таким образом, поистине столетним юбилеем нашей технической мысли»; «мы даем здесь целый ряд ценнейших биографических справок, характеризующих нынешнее мощное профессорское ядро работников МММИ...» (см. Юбилейный сборник, Кржижановский).
Юбилей – одна из серьезнейших заслуг Цибарта, и далеко не только перед МММИ. Кому же принадлежала догадка о само́й возможности столь востребованного в то время юбилея – т.е. того, что столетие училища справедливо привязать к этапу основания Ремесленного заведения? В МММИ, историей Училища в это время серьезно занимался «ходивший за Цибартом по пятам» (см. Партсобрание) преподаватель диамата Григорий Абрамович Нехамкин, чей исторический очерк об ИМТУ/МВТУ/МММИ помещен в юбилейном сборнике. Возможно, в этом была и его какая-то роль.
Впервые идея юбилея была представлена в стенах МММИ 13 мая 1932-го года. (То есть еще, что примечательно, до подоспевшей благотворной реформы Кржижановского 19 сентября – втуз был поистине передовым!)
«Заседание Бюро П.К. ВКП/б/ МММИ им. Баумана от 13/V–32 года»
«5. СЛУШАЛИ: О проведении столетнего юбилея Института.
ВЫСКАЗАЛИСЬ: т.т. Серкин и Цибарт.
ПОСТАНОВИЛИ: учитывая исключительную политическую важность столетия существования Механико-Машиностроительного Института, Бюро ПК [парткома] ВКП/б/ постановляет:
а/ Считать необходимым провести 100-летний юбилей существования /1832-1932/ Механико-Машиностроительного Института.
б/ В связи с тем, что в организации проведения юбилея должен принять участие и ряд других Ин-тов /МЭИ, ВИСУ, ЭТИ/, взять на себя инициативу созывать по этому вопросу совещания треугольников всех Институтов согласовывая этот вопрос с соответствующими организациями.
в/ Поставить вопрос перед высшими партийными органами о необходимости создания правительственной комиссии по проведении столетнего юбилея Института.
г/ Поручить т. Цибарту написать докладную записку с обоснованием в ней необходимости и проведения широкой общественности [так в тексте стенограммы] в проведении празднования.
Секретарь Парткома [автограф] /И. Серкин/»
(ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 11, л. 115об)
Итак, партком подчеркивает исключительную политическую важность намечаемого события (очевидно – в свете новой установки Сталина «теперь у нас есть отечество»).
Еще один пункт в стенограмме, который вскоре станет камнем преткновения для юбилея МММИ – отношение к намечаемому торжеству других частей бывшего МВТУ. В МММИ в этом их отношении к юбилею не сомневаются, но собственное первородство разумеется само собой. У тех, как и в будущем ГУУЗ НКТП, будет иное мнение.
Обосновать идею поручено Цибарту – тому, кто ее и представил.
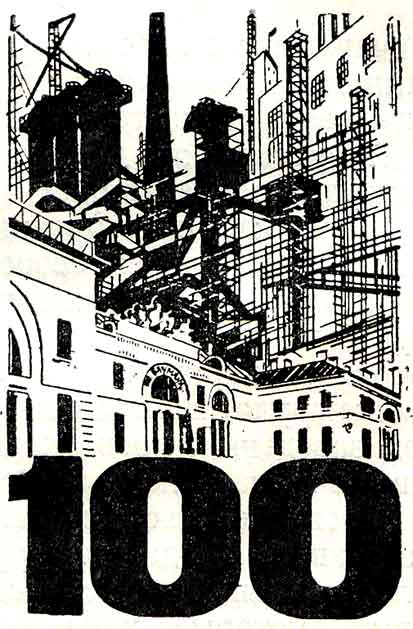
Буквица (элемент оформления текста) к статье А.А. Цибарта
в Юбилейном сборнике «Сто лет МВТУ – МММИ им. Н.Э. Баумана» (с увеличением)
Худ. М.В. Доброковский
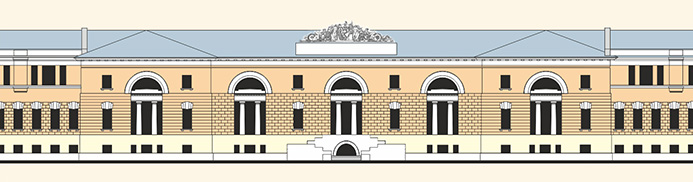
Что до несостыковок в датах, то – дело было в принципе – догнать «ушедший поезд» в МММИ не составило труда: «1 июля 1830 г. утверждается первый устав Ремесленного училища, но фактически училище становится технической школой к 1832 г., и эту дату мы и отмечаем как юбилейную» (см. Юбилейный сборник, Нехамкин). Эту и без того размытую дату пришлось сдвинуть еще на год вперед: подготовиться к юбилею не оставалось времени, а кроме того – надо было избежать совпадения с празднованием 15-летия Октября.
Без долгих дипломатических усилий со стороны МММИ (и «пробивных свойств его руководства», как выразился И.Л. Волчкевич) правильное решение вышестоящих инстанций тогда не далось. «Тут мне пред'являют вину в том, что я не ставил перед Серго Орджоникидзе вопроса относительно оснащения нашего института – говорит А.А. на партсобрании в декабре 1937 г. – А я задам вопрос т. Симонову и другим товарищам: кто же ставил эти вопросы в делегациях к Серго, если не я? Мы не раз ходили с делегацией и в результате нам удалось доказать т. Серго, что надо праздновать столетний юбилей нашего института [курсив наш – А.А.]. И в результате 14 февраля 33 года был издан приказ, который был так озаглавлен: "О мерах дальнейшего развития и укрепления Московского Машиностроительного механического [механико-машиностроительного] института им. Баумана [в связи с его столетним юбилеем]"».
(Материальное выражение констатации исторического факта разумелось само собой...)
Участвовать в «пробитом» МММИ юбилее на равных правах, разделив плоды дипломатического успеха Цибарта, пожелали все втузы раздробленного МВТУ. Делая юбилей привилегией одного МММИ, власть тем самым признавала МММИ им. Баумана единственным настоящим наследником ИМТУ, что могло казаться несправедливым. Но поскольку речь шла о преемстве именно с дореволюционным училищем, аргументы к решению этого символического вопроса в пользу бывшего мехфака были сильнейшими: «Преобладающее значение в училище [ИМТУ] имело механическое отделение. В 1912 г., когда на 2680 студентов на механическом отделении числились 2169, механическое отделение по преимуществу развивалось в направлении машиностроения. В этом отношении МММИ является законным и прямым преемником механического отделения [Императорского] Московского технического училища» (см. Юбилейный сборник, Нехамкин). Все же неопределенность оставалась. Решило спор будущее, которое безусловно присудило лавры Бауманскому. Уже через десять лет МММИ возвращается «марочное» именование МВТУ, и в 1955-м году, «в связи со 125-летним юбилеем» (теперь уже считая с 1-го июля 1930-го года), свой второй орден получит МВТУ – МВТУ им. Баумана.
Итак, в 1933-м году МММИ им. Н.Э. Баумана был официально признан преемником, по существу, исторического ИМТУ.
...Последним пунктом в Приказе № 144 по НКТП от 14 февраля 1933 г. «О мерах дальнейшего развития и укрепления Московского механико-машиностроительного института им. Баумана в связи с его столетним юбилеем» за подписью Наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе (см. Юбилейный сборник) прописано: «14. ГУУЗ [Главному управлению учебных заведений НКТП] составить и представить мне на подпись ходатайство в Совет народных комиссаров и Центральный исполнительный комитет СССР о создании правительственной комиссии для проведения 100-летнего юбилея». В соответствии с этим приказом, учреждена была специальная Правительственная комиссия по празднованию столетнего юбилея МММИ, под председательством отца реформы 19 сентября 1932-го года – акад. Г.М. Кржижановского, председателя Комитета по высшему техническому образованию при ЦИК СССР и заместителя наркома просвещения РСФСР, вице-президента АН СССР.
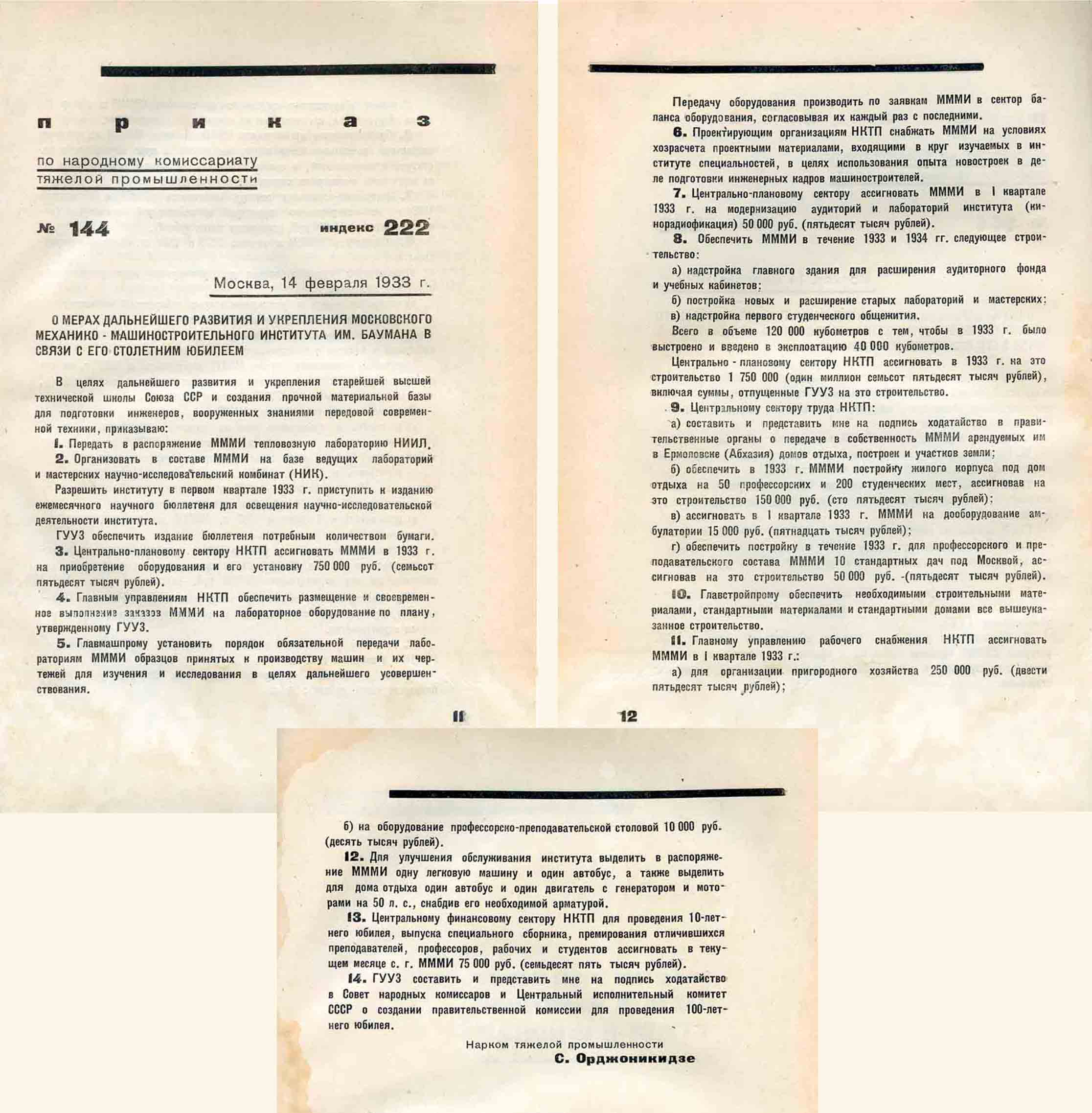
Приказ Орджоникидзе 14 февраля 1933 г. к 100-летию МММИ
Страницы из Юбилейного сборника "Сто лет МВТУ – МММИ им. Н.Э. Баумана"
А в основной части приказа Орджоникидзе – видимо, воплощение всех упований тогдашнего Бауманского. В том числе:
– «передать в распоряжение МММИ тепловозную лабораторию НИИЛ» – об этом уже была договоренность проф. Шелеста с наркомом;
– «организовать в составе МММИ на базе ведущих лабораторий и мастерских научно-исследовательский комбинат» – НИК МММИ уже был создан Цибартом и ожидал своего окончательного утверждения НКТП;
– «разрешить институту в первом квартале 1933 г. приступить к изданию ежемесячного научного бюллетеня» – о собственном научно-техническом журнале в МММИ мечтали еще до начала 1932-го года и, видимо, с такой просьбой МММИ уже обращался в НКТП;
– ассигновать МММИ «в 1933 г. на приобретение оборудования и его установку 750 000 руб.», «в 1 квартале 1933 г. на модернизацию аудиторий и лабораторий института (кинорадиофикация) 50 000 руб.»;
– «обеспечить МММИ в течение 1933 и 1934 гг. следующее строительство:
а) надстройка главного здания для расширения аудиторного фонда и учебных кабинетов;
б) постройка новых и расширение старых лабораторий и мастерских;
в) надстройка первого студенческого общежития.
Всего в объеме 120 000 кубометров с тем, чтобы в 1933 г. было выстроено и введено в эксплоатацию 40 000 кубометров.
Центрально – плановому сектору НКТП ассигновать в 1933 г. на это строительство 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей), включая суммы, отпущенные ГУУЗ на это строительство».
(То есть, заметим в скобках, и шокирующее решение надстраивать Слободской дворец, не говоря об интересном здании общежития, также могло предварительно обсуждаться с дирекцией МММИ...) Но далее:
– передать в собственность МММИ «арендуемых им в Ермоловске (Абхазия) домов отдыха, построек и участков земли», «обеспечить в 1933 г. МММИ постройку жилого корпуса под дом отдыха на 50 профессорских и 200 студенческих мест, ассигновав на это строительство 150 000 руб.», «ассигновать в I квартале 1933 г. МММИ на дооборудование амбулатории 15 000 руб.», «обеспечить постройку в течение 1933 г. для профессорского и преподавательского состава МММИ 10 стандартных дач под Москвой, ассигновав на это строительство 50 000 руб.»; ассигновать МММИ в I квартале 1933 г. «для организации пригородного хозяйства 250 000 руб.», «на оборудование профессорско-преподавательской столовой 10 000 руб.», «выделить в распоряжение МММИ одну легковую машину и один автобус, а также выделить для дома отдыха один автобус и один двигатель с генератором и моторами на 50 л.с.», «для проведения 100-летнего юбилея, выпуска специального сборника, премирования отличившихся преподавателей, профессоров, рабочих и студентов ассигновать в текущем месяце с.г. МММИ 75 000 руб.»...
Увы, далеко не всем этим обещаниям и планам суждено было сбыться. Вскоре вновь вступивший в должность начальника учебных заведений Д.А. Петровский – Цибарт винит именно его – убедит Орджоникидзе в том, что юбилей должен был относиться ко всему бывшему МВТУ, и многих из обещанных наркомтяжпромом благ МММИ не получит. В частности, «Петровский поставил вопрос о том, что наш ин-т строиться не должен, а должен строиться МЭИ» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 44, л.84об). Строительство нового корпуса начнется и будет заморожено на стадии котлована, принеся только убытки, не все средства будут получены и на оборудование (об этом дальше будет рассказано немного подробнее).
|
Впрочем, как мы видели, одной из этих неудач можно всерьез порадоваться. Приказом Серго предусматривалась «надстройка главного здания» – изуродование шедевра Жилярди и Григорьева – а также общежития, творения Л.Н. Кекушева и Л.О. Васильева. Если бы этот замысел осуществился (надстраивание зданий XIX в. – обычная практика тех лет), Москва фактически лишилась бы одного из своих самых значительных памятников архитектуры, а исторической городской среде Лефортово был бы нанесен непоправимый урон. Но в уже в конце 1933-го года, как рассказывает А.А. на партсобрании в декабре 1937-го года, последовало указание ГУУЗ НКТП (письмо нач. строительной инспекции ГУУЗа С.Я. Тишкова) «отказаться от идеи удовлетворения института путем каких бы то ни было надстроек существующих зданий МММИ и МЭИ». Сыграл ли тут какую-то роль культурный фактор, мы еще не выяснили. Как относился сам А.А. к этой «лирической» стороне вопроса, мы также не знаем – но, к счастью, директорство Цибарта не ознаменовалось подобной культурной потерей. – Можно вспомнить еще, что 21 декабря 1937 года, видимо поверив собственным вымыслам, что в срыве строительства и надстроек виноват вредитель Цибарт, парторганизация снова принимает решение: «Поставить вопрос перед ГУУЗ"ом о пересмотре забракованного кем-то варианта о надстройке одного этажа на главном здании, как это предположено в приказе тов. Серго Орджоникидзе». ...Пострадала только топонимия: по ходатайству МММИ в 1933-м году историческое название улицы «Коровий брод» меняют на нынешнее «2-я Бауманская». Между прочим, в 1930-м году предполагалось переименовать улицу Коровий Брод в «Технические кадры» (см. Волчкевич, Сословие...), а в 1932-м партком МММИ просил райком «возбудить ходатайство перед соответств. органами о переименовании улицы Коровий Брод и площади Лефортово в улицу и площадь Покровского», умершего «старейшего большевика» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 11, л. 109). |
...Пока же можно было ощущать только торжество.
В МММИ составляют и утверждают список его сотрудников («царские» профессора Худяков, Куколевский и Шелест, директор Цибарт, аспиранты Иоэльсон и Шаумян, мастера Николаев и Гусев), «представляемый правительству для их соответствующего награждения» (Цибарт представлен к ордену, профессора – к званию Заслуженных деятелей науки и техники РСФСР, аспиранты к премированию заграничными командировками, мастера – к званию Героев труда: 22 марта 1933 г., ГАРФ ф. Р-8060, оп. 1, д. 7, лл. 12–14). Выходит выпуск кинохроники, посвященный юбилею (с сюжетом о профессоре Смирнове). «В ознаменование столетнего юбилея МММИ» выпускаются институтские облигации 2-го займа 1933 года «За качество учебы им. тов. Сталина». В крайней спешке готовится Юбилейный сборник «Сто лет МММИ им. Баумана. 1832 – 1932», к оформлению сборника привлекаются лучшие художники (М. Доброковский, Ю. Ганф и др.) и фотографы (А. Шайхет, Ел. Игнатович). Намечается приуроченная к юбилею техническая конференция (ответственные за ее проведение – предс. парткома /на тот момент/ Шевцов и проф. Куколевский).
Примечательно, что торжественное собрание, посвященное столетию, на заседании бюро парткома 4 апреля 1933 г. исходно планируют провести в настоящий календарный день рождения Училища – 1-го июля.
Но с этим не задалось. Потерпели неудачу еще многие попытки назначить дату празднования юбилея, пока наконец Сталинский райком ВКП(б) не ставит в этом вопросе точку (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 12, л. 32): торжественному заседанию быть 23 октября 1933 года, в Большом театре (фактически он пройдет 21 октября, в филиале Большого театра по б. Дмтровке, 6). В МММИ намечается «предварительный вечер» в клубе Кухмистерова. (Популярный в то время Клуб железнодорожников имени Ефима Кухмистерова, обычное место студенческих вечеров тогдашнего Бауманского – Гороховская, 8; позже это театр Гоголя – Казакова, 8).
|
Кое-что об истории подготовки к юбилею можно обнаружить в архиве парторганизации МММИ (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 16). 4 апреля 1933 г. «СЛУШАЛИ: О подготовке к 100-летнему юбилею (т. Цибарт) 28 мая. «...Список лиц, представляемый правительству для их соответствующего награждения утвердить. Обязать комиссию по редактированию Юбилейного сборника обеспечить своевременный выпуск этого сборника. … Включить в сборник статью В.И. Ленина о тов. Баумане» (такой статьи в сборнике нет). Позже собрание перенесли на 10-е (кстати, Юбилейный сборник хоть и был издан в первых числах июля, но не 1-го), однако и в этот раз оно не состоялось. 16 июля на парткоме Цибарт оглашает следующую информацию (л. 113): «Само празднование юбилея предполагалось на 10/VI [опечатка или оговорка, правильно VII] на 7-8 предполагались научные конференции. Все необходимые материалы заготовлены: подготовлена книга посвящ. юбилею и т.д. Все было сделано, что намечалось по плану. По приезде в Моск<овский> Ком<итет ВКП/б/> нам посоветовали перенести празднование на осень, мотивируя тем, что необходимо шире привлечь массу студентов <и> преподавателей, привлечь провинциальные вузы, при чем добиться приема и тов. Кагановича и провести празднование как полагается – исходя из этого мы празднование откладываем до 1-го сего сентября». Но и в сентябре собрание по неизвестным причинам не состоялось. 14 сентября (л. 122) на парткоме еще говорят о «предстоящих торжествах» и «популяризации приказа т. Орджоникидзе», а также призывают «к юбилейным торжествам ликвидировать все недочеты подняв всю работу института на высшую ступень». «Факультетским ячейкам ВКП/б/ и профбюро развернуть массовую работу вокруг подготовки к годовщине решений ЦИК к 100 летнему юбилею» (л. 121): такое решение партком выносит 14 сентября, имея в виду постановление ЦИК 19 сентября 1932 г.; смысловая связь втузовского торжества и реформы Кржижановского вполне непосредственна. Следующее заседание парткома – 16 октября, идет уже подготовка к 16-летию Октября. Перед намеченным райкомом на 23 октября юбилейным торжественным собранием, в МММИ планируют провести «предварительный вечер» (л. 125об): «СЛУШАЛИ: о 100 летнем юбилее МММИ (т. Шевцов) «Художественное оформление к 100-летней годовщине ин-та полностью использовать на 16 годовщину октября» (л. 127). |
В 3-м за 1933-й год выпуске «Сорены» (журнала под ред. Бухарина «Социалистическая реконструкция и наука») помещена небольшая заметка о юбилее, в которой, между прочим, упоминаются такие сведения из истории ИМТУ последней четверти XIX века: «Из САСШ приезжают специально для ознакомления с МВТУ [ИМТУ] крупнейшие ученые. В Цинциннати, Бостоне и других городах строятся институты, представляющие даже внешне точную копию МВТУ [ИМТУ]».
Статьи в журнале ГУУЗа «За промышленные кадры», посвященные юбилею МММИ, появляются в объединенном номере за август – сентябрь (1933 №8–9) и в октябрьском номере (1933 №10). В октябрьском номере (Петровский назначен нач. ГУУЗа в октябре) говорится и о столетии МВТУ, и о столетии других возникших на его базе втузов. Упоминается, в числе прочего, важнейшая заслуга МММИ – это втуз, «сумевший сохранить лучшую часть старых научных сил» (сохранить от деятельности ВКП/б/...). Дата и место проведения торжества нигде не указываются.
В сентябре:
«СТОЛЕТИЕ МММИ»
«...Отмечая столетие "по времени своего возникновения второй в стране технической школы общего назначения" [первая – Санкт-Петербургский практический технологический институт, 1828, нынешний СПбГТИ] – Московского высшего технического училища на страницах журнала, редакция "За промышленные кадры" горячо приветствует юбиляра МММИ им. Баумана, его крупнейший коллектив научных работников, мощную партийную организацию, пролетарскую молодежь, которая в стенах втуза терпеливо и упорно овладевает наукой. Редакция не сомневается, что этот крупнейший советский втуз с его мощным партийным коллективом, втуз, сумевший сохранить лучшую часть старых научных сил и вырастить им достойную смену, добьется нового подъема волны соцсоревнования и покажет все стране новые образцы большевистской борьбы за качество подготовки кадров промышленности, как он показал их в первую годовщину исторического решения правительства, выйдя на первое место среди всех соревнующихся учебных заведений страны. ...»
«Состав юбилейной комиссии
правительственная комиссия по проведению столетнего юбилея лучшего втуза тяжелой промышленности – Московского механико-машиностроительного института – утверждена в следующем составе:
Председатель правительственной комиссии акад. Г. М. Кржижановский
Зам. Председателя комиссии директор МММИ А. А. Цибарт.
Члены комиссии:
зам. председателя Моссовета Бисярин,
Пред. ЦК союза машиностроения Чудиновский,
представитель ОМБИТ [Общесоюзное межсекционное бюро инженеров и техников при ВЦСПС] Вейнберг,
секретарь парткома МММИ Матиссен,
пред. профкома МММИ Шевцов,
секретарь комсомольского комитета Бирюков,
проф. Куколевский,
проф. Шелест,
проф. Смирнов,
аспирант Дубасов.»
Кроме редакционной, помещается первая часть статьи В. Николаева «Столетие головного машиностроительного втуза / К юбилею Московского высшего технического училища – МММИ им. Н.Э. Баумана» (в октябрьском номере – ее заключительная часть), статья Шелеста «Помогаем промышленности осваивать новую технику. Профессура растет вместе с вузом» и А. Ямского «Годы и люди».
И в октябре:
«СТОЛЕТИЕ МВТУ – МММИ»
«...Все пять втузов – Машиностроительный, Энергетический, Химический, Строительный и Авиационный – свидетельствуют о том грандиознейшем размахе, который приняла подготовка кадров в период социалистической реконструкции. Среди этих пяти втузов ярко выделяется Механико-машиностроительный втуз, получивший знамя первенства в социалистическом соревновании высших школ и унаследовавший самый мощный факультет и самый старый цех бывшего МВТУ...» (Петровский, «84 плюс 12 плюс 4»).
Наконец, согласно (почему-то) секретному постановлению Сталинского РК ВКП(б) от 13 октября 1933 года (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 12, л. 32), 23 октября 1933 года должно было состояться – а состоялось на два дня раньше, 21-го октября – торжественное собрание в Большом театре, посвященное 100-летнему юбилею МММИ им. Н.Э. Баумана и итогам соц. соревнования вузов, втузов и техникумов на лучшую реализацию постановления ЦИК СССР от 19 сентября 1932 года. На это «общемосковское собрание» постановление предлагает пригласить студентов-ударников, профессоров и преподавателей МММИ, дирекции вузов, втузов и техникумов, ударников крупных московских заводов; в программе – доклады Кржижановского об итогах соцсоревнования и задачах текущего года, и Цибарта об истории развития МММИ; премирование.
Накануне празднования юбилея, 20 октября, Орджоникидзе издает приказ «О столетии Московского высшего технического училища и созданных на его базе Механико-машиностроительного, Энергетического, Авиационного институтов, Военно-химической и Военно-строительной академии [прав. Инженерно-строительного института]». Речь идет об укреплении материально-технической и учебной базы МММИ, МЭИ и ВХА, премировании директоров МММИ и ВХА, профессоров, работников и студентов МММИ, МЭИ и ВХА. В качестве юбиляров, ожидаемо, называются все пять вузов, бывших частей МВТУ (но не один МММИ). В этом существенное отличие настоящего приказа Орджоникидзе от его же «юбилейного» приказа от 14 февраля 1933 г. О печальных следствиях для МММИ этой корректировки, в частности прекращения строительства нового учебного корпуса, и роли в этом Д.А. Петровского, Цибарт говорит на партсобрании 1 декабря 1937 г.: «... Приказ [14 февраля 1933 г.] шел о столетнем юбилее нашего института. Когда этот приказ писался, Петровского не было. В октябре [1933 г.] Петровский переворачивает весь этот вопрос наголову, ставит вопрос так. Речь идет о столетнем юбилее не института Баумана, а речь идет о столетнем юбилее бывшего МВТУ, из которого выросли пять ВУЗ'ов. И появился новый приказ Серго [20 октября 1933 г.], где говорится о столетнем юбилее МВТУ и созданных на его базе пяти ВУЗ'ах. Я прочту первый пункт, который имеет отношение к строительству. Этот пункт уже средактирован так: /читает [текст в протоколе отсутствует; вероятно: "ГУУЗ НКТП взять под особое наблюдение всю работу, направленную к укреплению материально-технической и учебной базы Механико-машиностроительного института им. Баумана, Московского энергетического института им. Молотова и Московского авиационного института."]/.
Когда так стал вопрос, речь пошла уже о столетнем юбилее не нашего института, а пяти ВУЗ'ов.
Тогда Петровский уже не дает нам денег ...»
Итак, 21 октября 1933 года (суббота, рабочий день «шестидневки»), состоялось долгожанное юбилейное торжественное заседание:
«21/X. Сегодня в филиале Большого театра [тогда Большая Дмитровка, д. 6, где ныне театр «Московская оперетта»] было торжественное заседание по поводу 100-летия Московского Механико-машиностроительного Института имени Баумана. После заседания был концерт, в котором участвовали артисты Большого театра: Барсова, Вас. Петров, Антонова и другие» (см.: Фрагменты из дневника Ф.П. Панова, посвященные творчеству солистки Большого театра Елизаветы Антоновой).
На заседание были приглашены (согласно постановлению Сталинского РК ВКП/б/) студенты-ударники, профессора и преподаватели МММИ, дирекции вузов, втузов и техникумов, ударники крупных московских заводов.
В программе торжественного заседания – доклад председателя ВКВТО, председателя правительственной юбилейной комиссии акад. Г.М. Кржижановского об итогах соцсоревнования вузов, втузов и техникумов и о задачах текущего года, доклад А.А. Цибарта об истории развития МММИ им. Баумана, доклад нач. ГУУЗ НКТП Д.А. Петровского, приветствия зам. наркома тяжелой промышленности А.Д. Пудалова, представителей МК и МГК ВКП(б), РК ВКП(б), ВЦСПС, Электрозавода; вручение МММИ представителем ЦК ВЛКСМ, знакомым нам Д.Е. Лещинером переходящего Красного знамени «Лучшего втуза Советского союза»; кроме официальных лиц, выступали старейшие профессора МММИ П.К. Худяков, И.И. Сидорин, Г.А. Осецимский.
На фотографии президиума заседания (РГАКФД) различимы Г.М. Кржижановский, председатель ВАРНИТСО (Всесоюзной ассоциации работников науки и техники для содействия социалистическому строительству в СССР) акад. А.Н. Бах, нач. ГУУЗ Д.А. Петровский, профессора МММИ Л.П. Смирнов, А.Н. Шелест; возможно удастся установить и других.
Отчет об этом событии помещается в воскресном, 22 октября, номере газеты «За коммунистическое просвещение» – под рубрикой «Красный советский вуз должен дать лучшего в мире инженера». Приводятся тексты приказа Орджоникидзе, приветствий (телеграмм) МММИ от ЦК ВКП(б), Совнаркома, Центрального бюро Секции научных работников и цитата из приветствия «собрата» МММИ, Сибирского механико-машиностроительного института; дано также краткое изложение хода заседания.
|
«ПРИКАЗ О столетии Московского высшего технического училища и созданных на его базе Механико-машиностроительного, Энергетического, Авиационного институтов, Военно-химической и Военно-строительной академии [прав. Инженерно-строительного института] Московское высшее техническое училище и образованные в дальнейшем НКТП на его основе отраслевые – московские Механико-машиностроительный институт им. Баумана, Энергетический и Авиационный институты, Военно-химическая и Военно-инженерная академии [прав. Инженерно-строительный институт] ко дню столетнего юбилея МВТУ выросли в крупнейшие учебные заведения Советского союза. § 1. ГУУЗ НКТП взять под особое наблюдение всю работу, направленную к укреплению материально-технической и учебной базы Механико-машиностроительного института им. Баумана, Московского энергетического института им. Молотова и Московского авиационного института. § 2. Премировать профессоров бывш. МВТУ (МММИ, МЭИ и ВХА), являющихся старейшими и заслуженными работниками учебных заведений НКТП: Куколевского И.И., Тихомирова Е.Н., Осецимского [Г.А.], Цидзик [В.Е.], Круга К.А., Шпильрейна Я.Н., Сиротинского Л.И., Сергеева П.Г., Вознесенского С.А., Зейде О.А. и Хитрин по 2.000 рублей каждого, а академика Шенфера К.И. – 3.000 руб. § 3. Премировать директора Московского механико-машиностроительного института им. Баумана тов. Цибарт А.А., как активного участника перестройки технической школы за последние 4 года, – 2.000 рублей, а директора Военно-химической академии тов. Виновицкого [Авиновицкого] – 1.000 рублей. § 4. Отметить в высокой мере плодотворную работу партийной, профсоюзной и комсомольской организаций института и всего студенческого коллектива Механико-машиностроительного института им. Баумана в борьбе за высокое качество подготовки советских специалистов, повышение трудовой дисциплины и культурно-политического уровня учащихся. Особо отметить из числа студентов Московского механико-машиностроительного института им. Баумана следующих товарищей, являющихся застрельщиками социалистического соревнования и примерными студентами и общественными работниками: Шевцова В., Матиссен А., Серкина, Кривина, Журавлева, Долгова А., Наугольного А., Величко А., Зернова, Аравина А., Фоминых А., Манина В., Юдина, Иванову, Терентьеву [Иванову-Терентьеву – ?], Цыганкова С., Фишмер А., Панкратова С., Набокова, Хонина А., Чиниш, Бабчиницер М., Савчук С., Васильева, Столбова, Хейнмана, Демидова В., Пронина Ф., Гоцмана, Шенкмана, Малышева, Песина, Саричева, Датовского, Иолтуховского, Абрамова, Зарудного, Мусаткина. §5. Выделить в распоряжение директора Московского механико-машиностроительного института им. Баумана 10.000 руб. и в распоряжение директоров Авиационного и Энергетического институтов по 5.000 рублей, для премирования наиболее отличившихся работников и студентов институтов. Нарком тяжелой промышленности
ЦК ВКП(б) шлет большевистский привет Московскому механико-машиностроительному институту им. Н.Э. Баумана в день столетия его существования. ЦК ВКП(Б)»
Совет Народных Комиссаров Союза ССР шлет горячий привет студентам, преподавателям, профессорам и руководителям Московского механико-машиностроительного института им. Баумана в день празднования его 100-летней годовщины. СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.»
Центральное бюро секции научных работников горячо приветствует профессоров, преподавателей, студентов и руководителей Московского механико-машиностроительного института им. Н.Э. Баумана в день празднования его столетнего юбилея. Отв. секретарь ЦБ СНР
... "Мы считаем своим долгом отметить исключительное значение МММИ в развитии промышленности и высшего технического образования в СССР. Научные работники МММИ своим высококвалифицированным участием в промышленных предприятиях оказали неоценимые услуги народному хозяйству СССР".»
Юбилей Московского механико-машиностроительного института им. Н.Э. Баумана является одновременно юбилеем лучшей части профессуры, работающей в институте, юбилеем пролетарского студенчества и его парторганизации и в конечном счете юбилеем всей пролетарской советской науки, которая под руководством партии и ее вождя тов. Сталина ведет нашу страну от победы к победе. Тов. Г.М. Кржижановский в докладе на вчерашнем [21 октября 1933 г.] торжественном заседании в филиале Большого театра, посвященном 100-летию МММИ, организованном правительственной юбилейной комиссией, следующими словами определил исключительное общественно-политическое значение, которое приобретает юбилей. – Наш юбиляр, – говорит Г.М., – типичен для советского вуза: по нему, по тому пути, которым он шел, можно характеризовать всю семью советских вузов. Он является примером того, как наша партия и советская власть ведут неустанную работу над созданием собственной производственной интеллигенции, выковывая высококвалифицированные кадры для всех областей нашего народного хозяйства. Этих кадров у нас еще мало, и мы должны удвоить, утроить их количество, чтобы справляться с теми задачами, которые каждодневно встают перед нами. Количественный рост наших кадров должен сопровождаться непрерывным улучшением качества работы наших инженеров, ибо мы должны стремиться к тому, чтобы красный советский втуз дал лучшего в мире инженера. Это в наших силах, в наших возможностях, ибо мы ведем всю нашу работу под руководством ленинской партии, под руководством вождя мирового пролетариата тов. Сталина. Директор института МММИ тов. Цибарт выступил с докладом о деятельности института. После оглашения приказа НКТП за подписью тов. Орджоникидзе [см. 20 октября 1933 г.], отмечающего юбилей МММИ, слово предоставляется представителю ЦК ВЛКСМ тов. Лещинеру. Он передает "лучшему вузу Советского союза" красное переходящее знамя ЦИК СССР, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и "Комсомольской правды". Знамя принимает группа ударников – профессоров и студентов. Студент тов. Аварин [Аравин – ?] от имени всего коллектива МММИ дает слово удержать за собой красное знамя и в будущем учебном году. Начальник ГУУЗ НКТП тов. Петровский сообщает, что правительственная комиссия ставит перед правительством вопрос о присвоении звания заслуженных деятелей науки и техники выдающимся профессорам МММИ и тех вузов, которые выросли на базе МММИ [МВТУ]. Я думаю, – говорит тов. Петровский, – мы можем сообщить правительству и тов. Орджоникидзе, что мы сумеем этот учебный год превратить в боевой год борьбы за кадры, первый семестр – в семестр освоения новых программ и дать в ближайшие годы лучшего инженера в мире. От МК и МГК ВКП(б) приветствие профессуре и студенчеству МММИ передает тов. Гей, от НКТП – зам. наркома тяжелой промышленности тов. Пудалов. От ВЦСПС приветствует тов. Аболин, который сообщает о выделении ВЦСПС 40 тыс. руб. на улучшение материально-бытового положения студенчества МММИ. Далее следуют приветствия от Сталинского РК ВКП(б) (тов. Трофимов), от "Электрозавода" (тов. Юров), передающего коллективу МММИ красное знамя. После выступления проф. Сидорина слово предоставляется старейшему профессору МММИ, заслуженному деятелю науки и техники П.К. Худякову, встреченному шумными аплодисментами. Речь убеленного сединами 75-летнего ударника-профессора, 60-ю годами своей жизни связанного с МВТУ – МММИ, была выслушана с напряженным вниманием. Он призывал студенчество не останавливаться на достигнутых успехах, бороться еще крепче за освоение науки, работать не покладая рук в соответствии с запросами соц. строительства. От имени всего коллектива МММИ всем приветствующим юбиляра отвечал проф. Осецимский. Бурей аплодисментов встречается предложение послать приветствия ЦК ВКП(б) – вождю партии и мирового пролетариата т. Сталину. Затем принимаются приветствия МК ВКП(б) – тов. Кагановичу, тт. Калинину, Молотову, Ворошилову, Орджоникидзе, Косареву, ВЦСПС и ЦО "Правда".» (Газета «За коммунистическое просвещение» 22 октября 1933 г.) |
27 октября Цибарт делает доклад по радио о столетии МММИ.
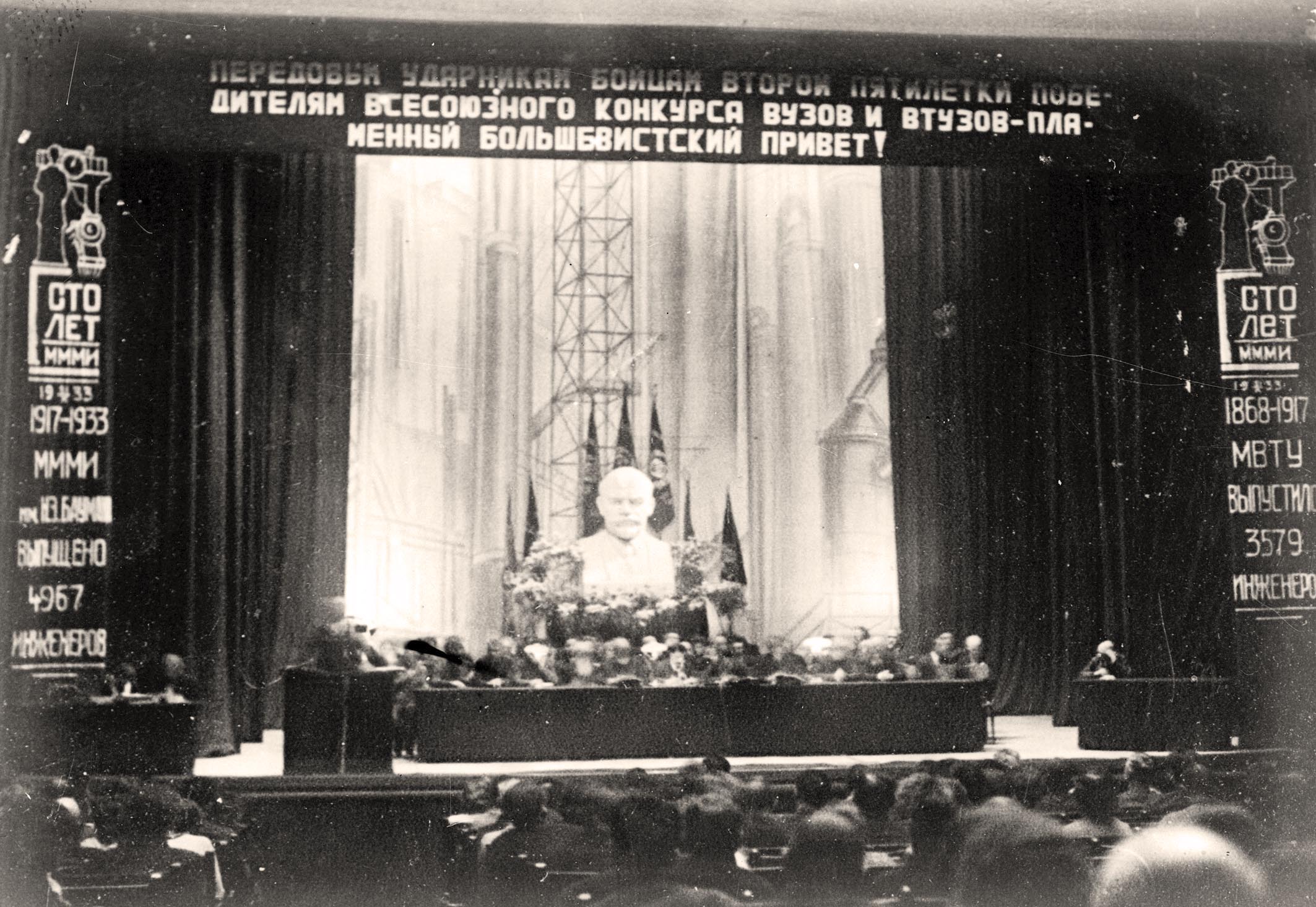
«Общий вид Президиума торжественного заседания,
посвященного 100-летию Московского механико-машиностроительного института имени Н.Э. Баумана
в филиале Государственного Академического Большого театра. [21 октября] 1933»
РГАКФД, ед. хр. 1-16219
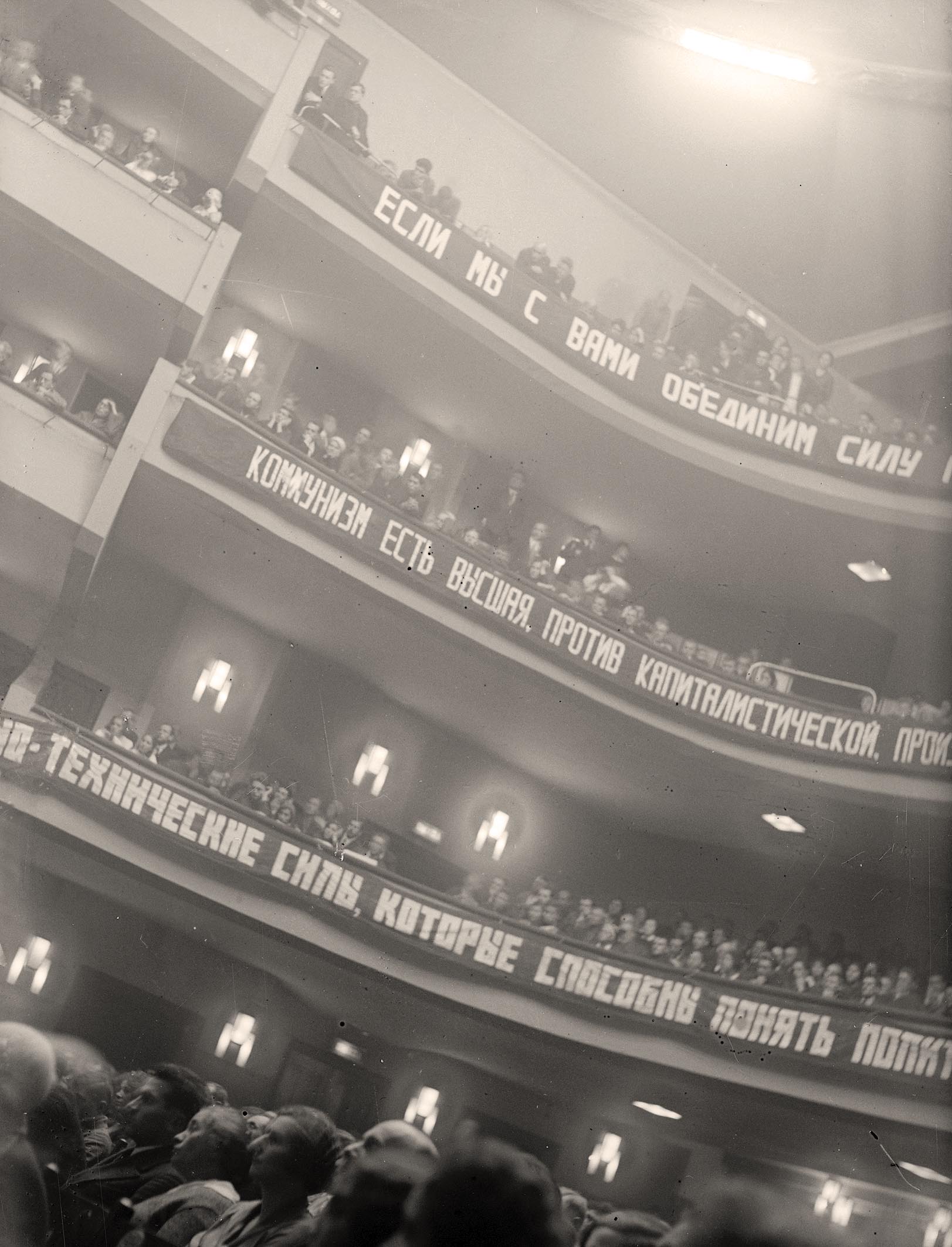
«Общий вид зала торжественного заседания,
посвященного 100-летию Московского механико-машиностроительного института имени Н.Э. Баумана
в филиале Государственного Академического Большого театра. [21 октября] 1933»
РГАКФД, ед. хр. 1-6779

«Академики Бах, Кржижановский и другие в президиуме торжественного собрания,
посвященного 100-летию Механико-машиностроительного института им. Н.Э. Баумана.
Филиал Государственного Академического Большого театра, [21 октября] 1933»
РГАКФД, ед. хр. 1-14173
В центре нач. ГУУЗа НКТП Д.А. Петровский (перед ним на столе портфель) и (по его левую руку) проф. МММИ Л.П. Смирнов;
акад. Г.М. Кржижановский 4-й слева; во втором ряду справа проф. МММИ А.Н. Шелест
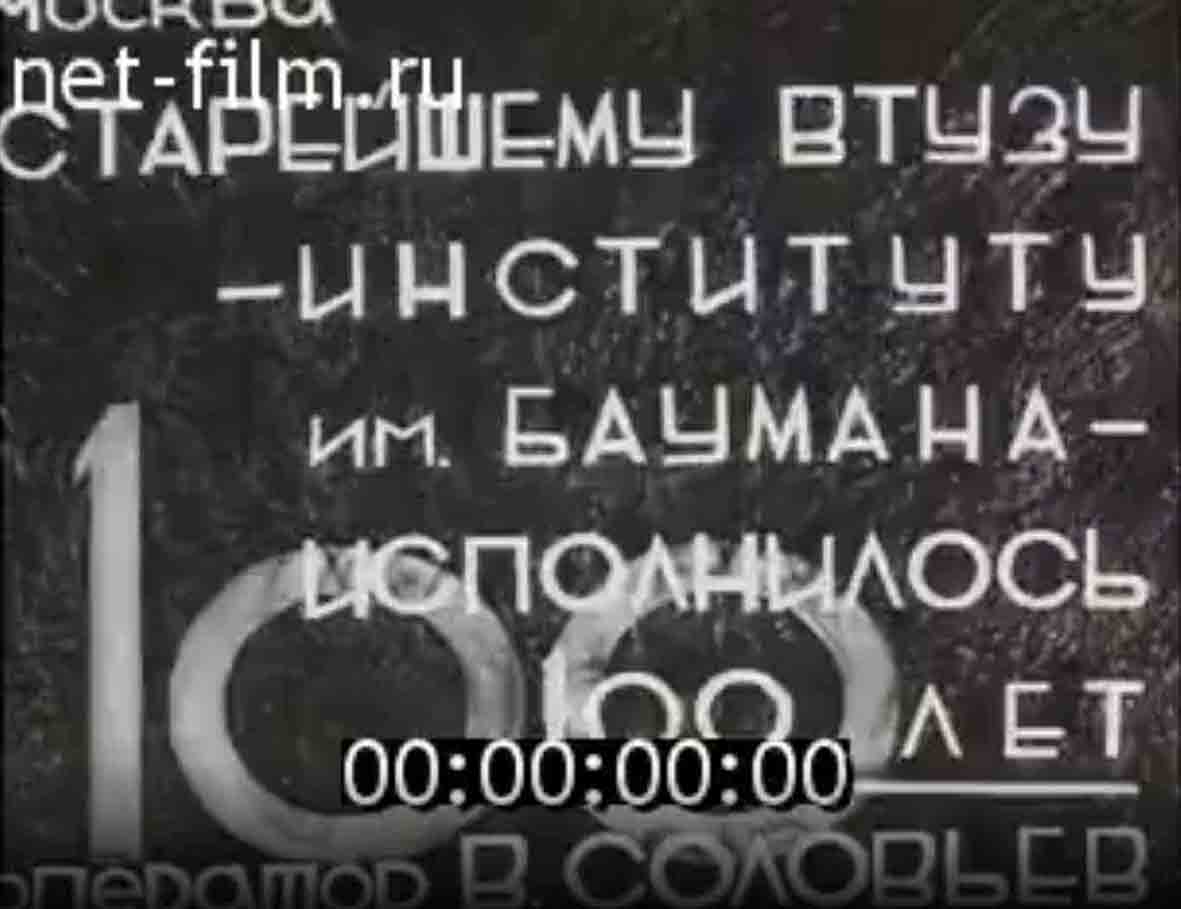


К 100-летнему юбилею МММИ им. Баумана. Кадры из кинохроники

Оформление здания МММИ к 100-летнему юбилею
(фото из книги: Анцупова Г.Н., Павлихин Г.П. Ректоры МГТУ имени Н.Э. Баумана, 1830-2003)
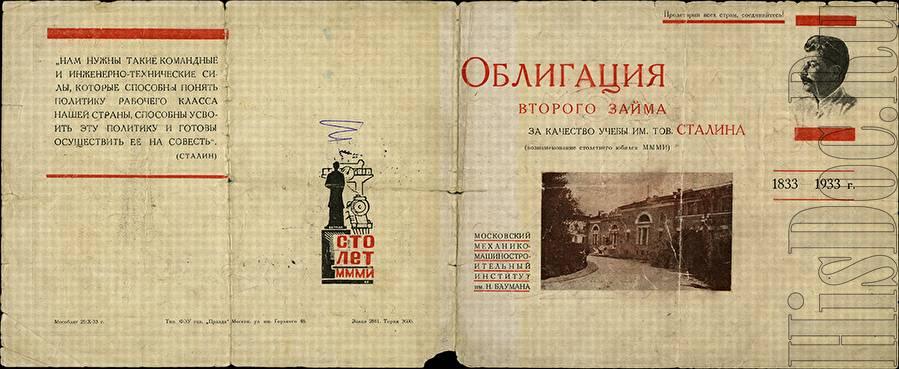

Институтская облигация 1933 г. Сканы с сайта "История России в документах" (HisDoc.Ru)
«В борьбе за индустриализацию страны; в борьбе за подготовку кадров и овладение техникой все большие массы студенчества втягиваются в социалистическое соревнование и ударничество. / Для стимулирования этого движения большое значение имеет премирование ударников-студентов, профессоров и преподавателей, отличившихся на фронте борьбы за учебу, на фронте борьбы за высококвалифицированного инженера. / Поощряя усилия ударников – студентов, профессоров и преподавателей в соответствии с решением 2-й партконференции Ин-та, / приказываю: выпустить в 1931–32 году «заем за качество учебы им. Сталина. Цель займа – премировать отличившихся на фронте учебы» (Цибарт)
* * *
В 1933-м году – не без сопротивления некоторой части институтских партийцев – в состав МММИ входит Московский автогенно-сварочный институт, с 1-го сентября составивший его факультет сварочного производства. «Для коллектива МАСИ это было знаменательным событием – все его сотрудники стали членами старейшего и наиболее авторитетного высшего технического учебного заведения страны» (см. Алешин, Павлихин, Федоров). То, что МММИ и есть прежнее МТУ, «старейшее и наиболее авторитетное», не вызывало сомнений и тогда.
Атмосферу общего подъема отражает изданный в этом (1933) году юбилейный сборник «Сто лет Московского механико-машиностроительного института им. Баумана. 1832 – 1932». Издание вышло за несколько месяцев до празднования (дата и формат которого к тому времени еще не были известны), и до того, как МММИ определился в «Первом всесоюзном соцсоревновании втузов за лучшее выполнение постановления ЦИК СССР от 19.09.1932 "Об учебных программах и режиме в высшей школе"» (постановления поистине спасительного для образования) как «лучший втуз Советского Союза» и затем получил свой первый орден.
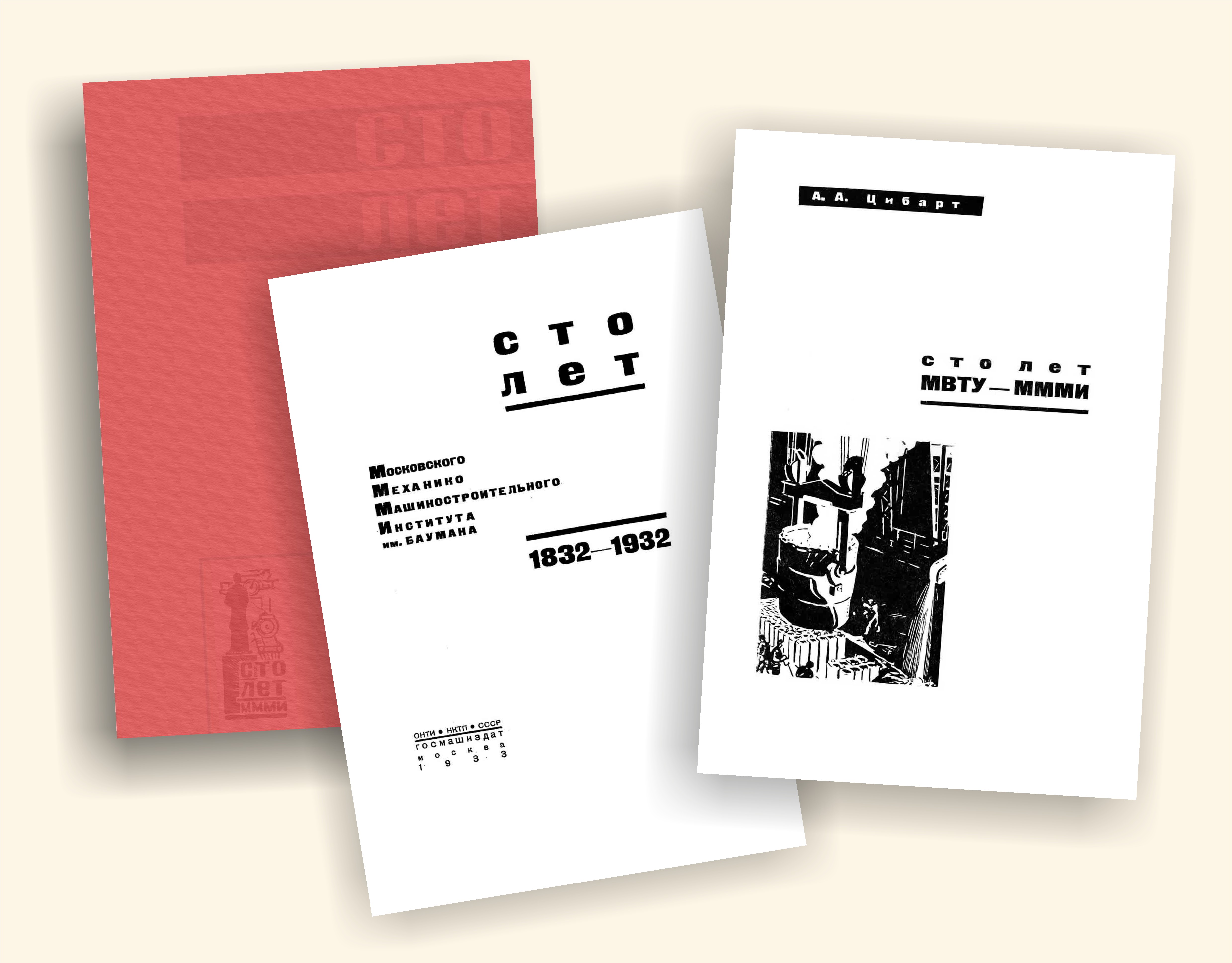
Обложка Юбилейного сборника (худ. М. Милославский) с юбилейной маркой МММИ (худ. В. Бибиков);
первая страница статьи А.А. Цибарта (худ. М. Доброковский)
Скорость, с которой этот 400-страничный, крупного формата, обильно иллюстрированный лучшими художниками и фотографами том был подготовлен, лишний раз свидетельствует о факте, что до 1932-го года о юбилее в МММИ не думали или только еще убеждали Орджоникидзе в само́м его существовании и необходимости его проведения. 5-тысячный тираж сборника был отпечатан «исключительно в жесткие сроки благодаря подлинной ударной работе работников типографии» (сдан в производство 3 июня, подписан к печати 27 июня 1933 г.), – за это председатель юбилейной правительственной комиссии Г.М. Кржижановский выносит им поименные благодарности прямо на страницах сборника.
Предполагалось продолжение работы. «Сборник, – говорится от имени редакционного совета книги, – не претендует на полный капитальный показ истории втуза, это – рапорт к юбилею, а дело будущего историка, использовав наше начинание, создать историю МВТУ – МММИ. Выпуская наш сборник, мы кладем начало собиранию этой истории и, беря на себя обязательство дальнейшего развертывания этой работы, мы вызываем старейшие вузы и втузы СССР приступить к дальнейшей работе по созданию "Истории вузов и втузов"». – Историей вузов и втузов намеревались в те годы дополнить начатую по инициативе Горького (но неосуществленную) «Историю заводов».
* * *
Неподготовленный читатель сборника вряд ли осилит его неизбежную сталинско-советскую специфику – пробьется через назойливые славословия «вождям», трескучие победные реляции, проклятия очередным «врагам народа» – и хоть в малой степени сумеет ощутить его настоящую ценность. Меж тем в Сборнике отражен важнейший, интереснейший и во многом кульминационный период развития как самого МММИ им. Баумана, этого нового воплощения МВТУ, так и всего технического образования в сталинскую эпоху.
Что до само́й специфики эпохи, отравившей в т.ч. это ценнейшее издание, то надо заметить, что в свое время те, «кому надо», прекрасно различали в кажущейся трескотне, модифицируемой в соответствии с последними лозунгами Сталина, ее конкретные злободневные смыслы. Тогда эта книга была понятной и острой, теперь ее понимание требует некоторой осведомленности в тогдашних реалиях.
Есть минимум три обстоятельства, которые надо иметь в виду для того, чтобы книга «ожила», – это:
1) Настоящий смысл этого уникального юбилея. Судить о нем из самой книги можно лишь отчасти. Вкратце (подробнее см. в предыдущей рубрике) – это было отнюдь не ожидаемое, хотя бы и крупное календарное торжество: никогда прежде ни 1832-й, ни принятый впоследствии обоснованный 1830-й год датами рождения Училища не считались. Еще важнее то, что с 1917-го года до этой поры никакие юбилеи «царских» заведений, по определению «отсталых» и «буржуазных» (включая задуманный было 175-летний юбилей МГУ в 1930-м году), на государственном уровне не отмечались вовсе. Первый советский юбилей «царского» заведения – это инициированная Цибартом и стоившая больших дипломатических усилий социальная акция, закреплявшая на символическом уровне реабилитацию большевиками отечественной досоветской науки (акция, ставшая возможной в связи с начавшейся реабилитацией Сталиным понятия «отечество»). А отсюда и изменение отношения в вузах к прежней «реакционной профессуре» и «классовому врагу», т.е. к выжившим и работавшим в них с досоветского времени подлинным ученым. Внимание, которое уделено в сборнике этим последним и особо отмечено Кржижановским, совершенно естественно для нас, тогда же могло шокировать.
2) Последовавший уже после рождения в МММИ замысла юбилея – тут можно оценить прогрессивность МММИ – внезапный разворот власти от насильственной «пролетаризации» вузов, внедрения узкой специализации в программах и умышленного снижения уровня теоретической подготовки – к серьезному профессиональному образованию (подробно об этом в рубрике «Поворот на 180 градусов...»). Реформа, точнее отмена и залечивание последствий предшествующих горе-реформ, началась с постановления ЦИК от 19 сентября 1932 года и проводилась Г.М. Кржижановским до 1935 года (т.е. до очередной эпохи глумления власти над наукой – перемарывания учебников ввиду затеянного Сталиным «стахановского движения»). Поскольку, по законам советской риторики, партия ведет массы исключительно от торжества к торжеству, весь масштаб и драматизм благотворных перемен оценить по сборнику трудно, хотя по сути именно этим переменам книга и служит; постановление ЦИК именуется в книге историческим, так оно и было, но и отвергнутые этим постановлением провальные действия власти все так же признаются за необходимые и победные. Постановления июльского 1928 г. и ноябрьского 1929 г. пленумов ЦК и перечеркивающее их решение ЦИК от 19 сентября 1932 г. следуют в книге, как и во всей тогдашней прессе, в одной цепи вдохновляющих успехов, совершенных по единому плану под руководством партии и правительства. Это не должно сбивать читателя с толку. – МММИ им. Баумана в числе 16 «опорных втузов» в проведении реформы. Кржижановский, упоминая однажды эти 16 втузов как «единственную опору для нашего движения вперед», называет «по имени» лишь Бауманский – среди них он был первым и даже иногда опережавшим решения «штаба» Кржижановского (основанного одновременно с постановлением ЦИК Комитета по высшей технической школе). Сборник отнюдь не просто «рапорт к юбилею» – он был призван задавать новые ориентиры.
3) Самые крутые изломы «генеральной линии партии» проводятся в жизнь одними и теми же партийными «кадрами» (если не считать бессистемно устраняемых «врагов народа» и непредсказуемых «перебросок») – большевистская принципиальность «кадров» состояла исключительно в их верности воле партии (Сталина). Так, от «маршала индустрии» Орджоникидзе, начальника управления учебными заведениями НКТП Петровского и до администраторов втузов, все эти «кадры» сразу после 19 сентября 1932 г. издают приказы диаметрально противоположные своим собственным прежним (дробить втузы – объединять втузы, сократить срок обучения – увеличить срок обучения, запретить лекции – внедрять лекции и т.д.), комично сохраняя в новых указах неизменную прежнюю преамбулу «в целях улучшения подготовки специалистов». О личных предпочтениях любого известного «кадра» можно только догадываться. – Но догадываться можно. Едва ли половина партийных авторов сборника с действительным энтузиазмом продвигают реформу (не говоря о само́м отце реформы Кржижановском, авторе вступительного слова к cборнику, к энтузиастам относятся, безусловно, директор МММИ Цибарт, по-видимому, диаматчик Нехамкин и др.). Вообще же все руководящие институтские «кадры» – собственно ученые сюда не входят, их лишь «привлекают к работе» – пришли во втуз на волне пролетаризации и в большинстве своем могут лишь втайне ненавидеть происходившие перемены. И это также составляет специфику книги.
* * *
Итак, сборник, несмотря на отталкивающие приметы времени, на самом деле весьма интересен и содержателен. В книгу входят столь важный для МММИ приказ № 144 Орджоникидзе по НКТП, вступление автора реформы, председателя Комитета по высшей технической школе Кржижановского, статья директора МММИ Цибарта, очерк преподавателя диамата Г.А. Нехамкина по истории МВТУ от его основания, сведения по недавнему революционному и послереволюционному прошлому МВТУ, упоминавшиеся здесь уже очень живые очерки о действующих профессорах и о знаменитых ученых, вышедших из ИМТУ (Худякове, Сидорове, Куколевском, Шелесте, Осецимском, Саверине, Смирнове, Мазинге, Жуковском, Россинском и других), эссе о быте институтского общежития и многое другое. Здесь можно найти устные предания МВТУ, бывшие видимо тогда у всех причастных к училищу на слуху – например, анекдоты о профессорской рассеянности Н.Е. Жуковского, или о вышедшем из себя преподавателе математики Полякове (Алексее Петровиче – ?), который в ответ на вопрос рабфаковца (т.е. студента, пришедшего с рабфака) «что такое интеграл» восклицал в числе прочего «в Германии даже лошади интегрируют!»; это искренний совет маститого инженера коллегам, спросившим его мнения, как можно решить некую трудную инженерную задачу – «надо сесть и поработать», – и многое другое. Часть биографических очерков сборника – об ученых, преподававших еще студенту Цибарту в ИМТУ.
Упомянутый очерк «Один день в общежитии» Ю.[Г.] Вебера привлекает внимание зоркостью и наблюдательностью автора, его писательским любопытством к деталям, а также, что наверное естественно, к подлинным архивным документам совершенно не-исторического значения, вроде полицейских жалоб на разбитных студентов прежнего ИМТУ, из которых однако, по его словам, «можно полной пригоршней черпать живые черты, жесты и поступки»; столь же ценны для автора такие письменные документы времени, как «листок с нескладными каракулями: соцдоговор между учениками-поварами Иютиным и Витюшкиным», и он приводит этот (и другой подобный) договор полностью...
Представлены в книге и авторы – персонажи из только что завершившейся предыдущей эпохи, эпохи удушения образования. Так, будущий «герой атомного проекта» (по административной части) и один из самых активных устранителей Цибарта в 1937-м году, П.М. Зернов отметился в сборнике статьей «Большевики МММИ в борьбе за кадры». «Итоги первой пятилетки блестяще подтвердили правильность ленинской линии партии и гениальную прозорливость ее руководства. Случаи прямой вылазки правых на отдельных участках, в группах имели место и в институте. Политическая зоркость и партийная бдительность дали возможность во-время разоблачить оппортунистические установки. Парторганизация беспощадно расправлялась с теми, кто пытался ревизовать генеральную линию партии и тормозить ее проведение», и т.д. и т.п. – Меж тем, с реформой 19 сентября 1932 года победили те самые «оппортунистические установки», с которыми парторганизация МВТУ и затем МММИ с ее непременным членом Зерновым еще накануне «беспощадно расправлялась»...
Юбилейный сборник «100 лет МММИ им. Баумана», 1933
Cодержание
(некоторые главы см. на сайте, ссылка от рубрики "Источники")
К первой всесоюзной конференции пролетарского студенчества ......... VII
От юбилейной комиссии ......... XI
Партия и кадры пролетарских специалистов ......... 1
От редакционного совета ......... 10
Приказ N° 144 по Наркомтяжпрому ......... 11
Академик Г. М. Кржижановский К столетнему юбилею МММИ – быв. МВТУ ......... 15
А. А. Цибарт 100 лет МВТУ – МММИ ......... 21Е. Симонов
Ударники кафедр и лабораторий ......... 307
Заслуж. проф. П. К. Худяков ......... 310
Проф. А. Н. Шелест ......... 317
Проф. Г. А. Осецимский ......... 323
Проф. И. И. Куколевский ......... 329
Биографии профессоров
Проф. В. Е. Цыдзик ......... 335
Проф. Е. Н. Тихомиров ......... 339
Проф. Л. П. Смирнов ......... 343
Проф. Ф. К. Герке ......... 349
Проф. С. И. Алексеев ......... 355
Проф. М. А. Саверин ......... 359
Проф. И. И. Сидорин ......... 363
Проф. А. П. Котельников ......... 369
Проф. Л. С. Орлин ......... 373
А. М. Цихон На пороге Октября ......... 377
А. Н. Туполев, Б. И. Россинский Детские годы русской авиации ......... 383
Инж. М. Дыскин Из дневника активиста ......... 393
Ячейка красных партизан На штурме Перекопов науки ......... 401
Несмотря на авральные темпы, какими готовился этот труд, может быть, кое-где отразившиеся на оформлении книги, к художественной стороне издания подходили с особой ответственностью. Книга смакетирована и иллюстрирована известнейшими художниками-графиками того времени – В. Бибиковым (форзац и юбилейная марка, на которой художник изобразил, видимо из-за спешки не ознакомившись с настоящим, несуществующий памятник Бауману), Ю. Ганфом (политические карикатуры), М. Доброковским (эмблемы специальностей и «заглавные буквы», т.е. буквицы) и М. Милославским (суперобложка, которую мы здесь не смогли представить, и «макет переплета» – видимо обложка, с тиснеными заглавием и юбилейной маркой); многие иллюстрации, в частности некоторые буквицы авторства Мечислава Доброковского (см. Художник...), исключительно удачны.
Авторство фотографий, как указано в книге – «Ел. Игнатович / А. Шайхет / Союзфото». То есть, признанного классика советского фоторепортажа Аркадия Шайхета и известного фотографа Елизаветы Игнатович, сестры и члена бригады знаменитого «левого» фотодокументалиста Б.В. Игнатовича в агентстве Союзфото. Кроме сцен в мастерских, аудиториях, общежитии и др., в книге множество фотопортретов. Портрет А.А. Цибарта, вероятно авторства Игнатович, привлекает своей неожиданной непарадностью и, видимо, улавливает одно из его характерных выражений. Замечательны виды главного здания МММИ – Слободского дворца: один (центральный вход в МММИ) снят с крыши в выступающей части здания (судя по характерной для школы Игнатовича диагональной композиции, автор фото Ел. Игнатович), другой – дворец в перспективе, вид с верхнего этажа общежития. Эта последняя работа, на которой раскинувшийся широко по горизонтали корпус Слободского дворца запечатлен с высоты на вертикально ориентированном кадре, характерен для стиля Шайхета и, без сомнения, принадлежит этому мастеру. На наш взгляд, это лучшее видовое фото Слободского дворца из всех нам известных. К сожалению, при типографской печати все фотографии сильно потеряли в качестве, а «выйти» на подлинники или негативы нам пока не удалось.
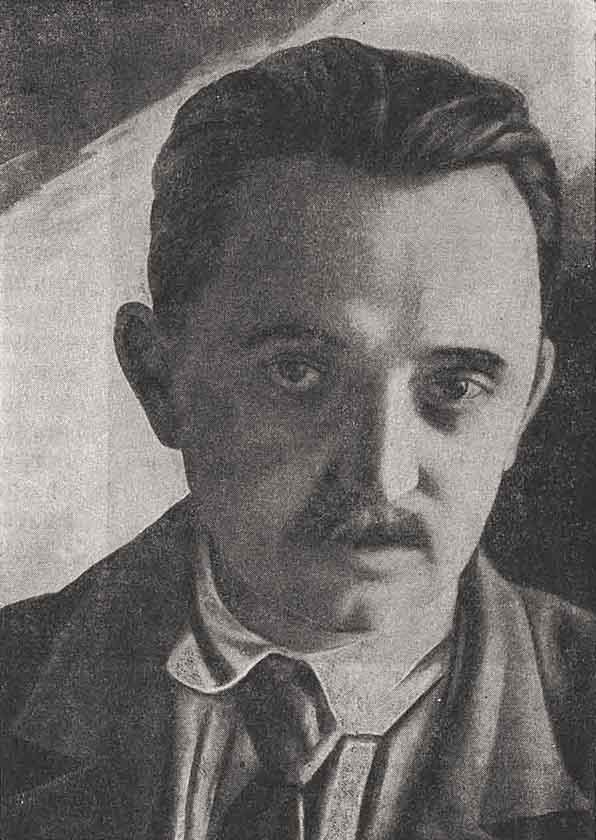
А.А. Цибарт. 1932 или 1933 г.
Фотография Елизаветы Игнатович (?). Из книги «Сто лет МММИ им. Н.Э. Баумана», в статье А.А. Цибарта
(типографская печать)
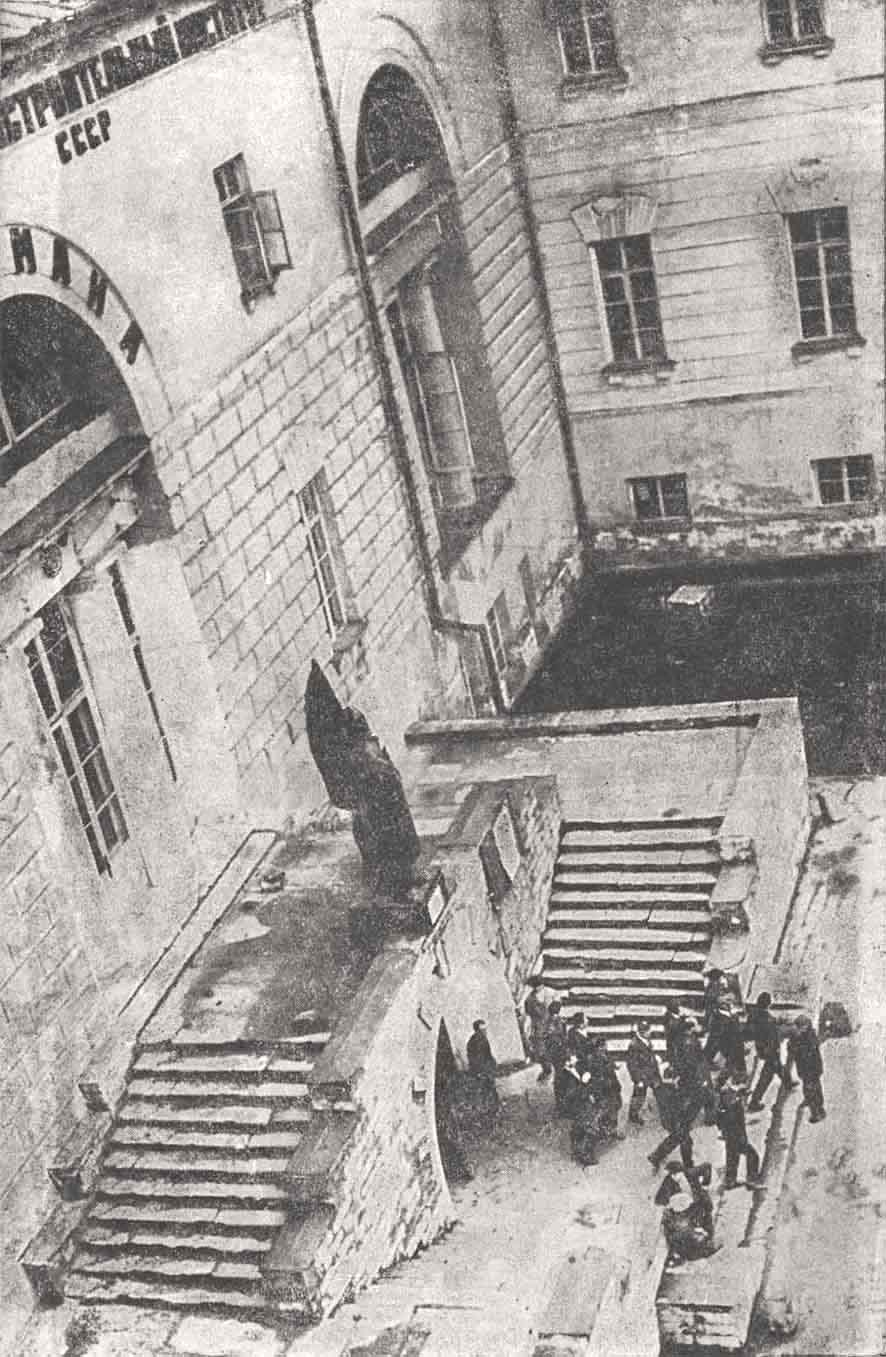
МММИ им. Н.Э. Баумана. 1932 или 1933 г.
Фотография Елизаветы Игнатович (?). Из книги «Сто лет МММИ им. Н.Э. Баумана», в статье А.А. Цибарта
(типографская печать)
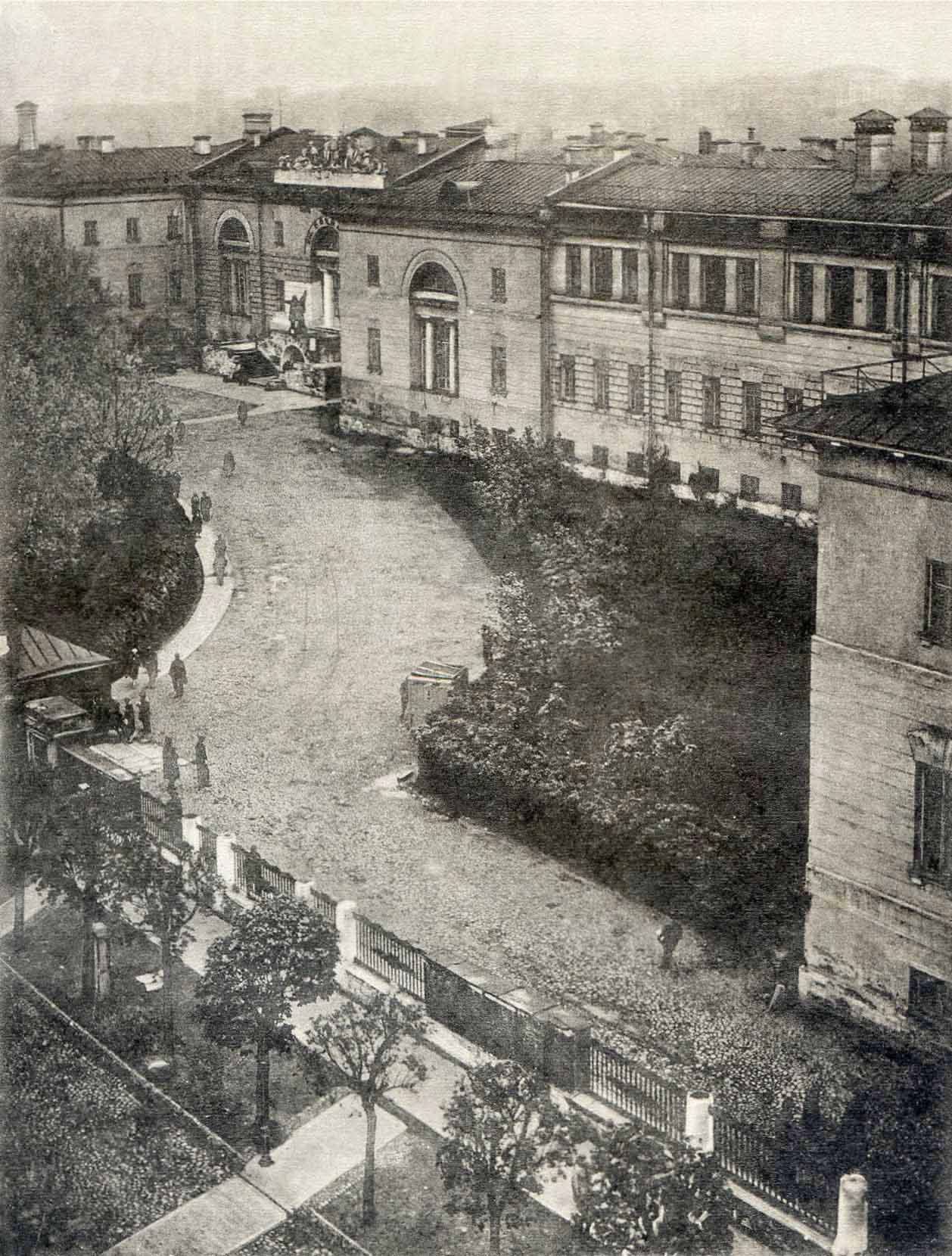
МММИ им. Н.Э. Баумана. 1933 г.
Фотография Аркадия Шайхета. Из книги «Сто лет МММИ им. Н.Э. Баумана», в статье А.А. Цибарта
(типографская печать)
...Уже в 1934-м году Сборник становится неудобен – один из его авторов, Г.А. Нехамкин, изгнан из института как «троцкист» (в 1937 г. будет расстрелян). К 1937–38 гг. об этой книге и вовсе придется забыть. «Посмотрите этот сборник, там найдете и портреты этих мерзавцев...» (партсобрание 4 декабря 1937 г., Зернов). «Этими мерзавцами» – «вредителями», «врагами народа», «членами организации правых» и т.п. – окажутся едва ли не половина фигурировавших в ней лиц, от директора Цибарта вместе с его недоброжелателем парторгом Кривиным до художника Доброковского; отправится в ИТЛ авиаконструктор А.Н. Туполев, интервьюируемый в Сборнике, будут расстреляны нач. Главмашпрома НКТП (в 1933 г.) В.Н. Крицман, представленный в нем фотографией, и автор статьи в Сборнике, член ЦК ВКП(б) А.М. Цихон и др.; что говорить о портрете непосредственного начальника Цибарта, расстрелянного «контрреволюционера» Д.А. Петровского на вкладке с предохраняющим изображение полупрозрачным листком, о гордости МММИ поощрением Бухарина...

Первая государственная награда Бауманского. Награжден также его директор
10 декабря 1933 г. – дата опубликования, а соответственно и вступления в силу, постановления ЦИК СССР (и ЦИК РСФСР) «О награждении МММИ им. Н.Э. Баумана и отдельных его работников»: ЦИК СССР награждает МММИ и его директора орденом Трудового Красного знамени, ЦИК РСФСР – награждает «отдельных работников» почетными званиями Заслуженных деятелей науки и техники РСФСР и Героев труда РСФСР (этих званий союзного значения не было). 17 декабря 1933 г. состоялось вручение орденов.
Именно эти даты фактически существовали для МММИ и Цибарта: «10 дек. [1933 г.] Я награжден орденом. / 17 дек. [1933 г.] Калинин мне вручил орден»; «10 декабря [1935 г]. Сегодня II годовщина награждения меня орденом» (Цибарт, дневник).
В общедоступных источниках, однако, можно найти три разных даты награждения «МММИ и отдельных его работников») – 29 октября 1933 г., 17 ноября 1933 г. (чаще всего), 10 декабря 1933 г. (плюс 17 декабря 1933 г. – дата вручения ордена). Эти даты отражают историю рождения Постановления в недрах ЦИК.
1) 29 октября 1933 г. – В материалах прокурорского дела 1941 года от о лишении «з/к Цибарта» ордена (ГАРФ ф. 7523 сч., оп. 60, д. 1404, лл. 1–7; Цибарт был лишен ордена 29 марта 1941 г.) указана дата награждения Цибарта орденом Трудового Красного знамени – 29 октября 1933 г., со ссылкой на приказ Президиума ЦИК СССР № 81 (текст приказа найти не удалось). Эта же дата, видимо, также предоставленная ГАРФ Комиссии по госнаградам при Президенте РФ, указана в Удостоверении Цибарта к государственной награде СССР (27 мая 2022 г. указом президента РФ В.В. Путина Цибарт восстановлен в правах на орден). Однако постановления о наградах должны были еще утверждаться ЦК ВКП(б).
2) 17 ноября 1933 г. – Событие, о котором в МММИ станет известно позже, лишь 10 декабря – постановление Президиума ЦИК СССР «О награждении МММИ имени Баумана и отдельных его работников» (утверждено Политбюро ЦК ВКП/б/ 14 ноября, принято Президиумом ЦИК СССР 17 ноября 1933 г.). Приводимое здесь постановление содержит некоторые юридические неувязки (звания Героя труда РСФСР и Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР присваивал ЦИК РСФСР, а не СССР), что, очевидно, и послужило причиной задержки с опубликованием Постановления.
«О награждении Московского механико-машиностроительного института имени Баумана
и отдельных его работников.
Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.
(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 14.XI.1933 г.)
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет:
I.
Учитывая революционные заслуги Московского механико-машиностроительного института имени Баумана в прошлом – непосредственное участие в революции 1905 года и октябрьских днях – и особые заслуги института в период восстановления народного хозяйства Союза ССР и плодотворное участие его в социалистическом строительстве в данное время – наградить Московский механико-машиностроительный институт имени Баумана ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.
II.
За исключительные заслуги в деле организации Московского механико-машиностроительного института имени Баумана и подготовку высококвалифицированных кадров специалистов из рабочего класса – наградить директора института Адольфа Августовича ЦИБАРТА орденом Трудового Красного Знамени.
III.
За долголетнюю особо плодотворную деятельность в Московском механико-машиностроительном институте имени Баумана присвоить звание героев труда мастеру лаборатории Р.О.М. Ивану Николаевичу НИКОЛАЕВУ и мастеру чертежно-модельного кабинета Александру Игнатьевичу ГУСЕВУ.
IV.
Присвоить звание заслуженных деятелей науки и техники профессорам Московского механико-машиностроительного института имени Баумана: П.К. ХУДЯКОВУ, А.Н. ШЕЛЕСТУ и И.И. КУКОЛЕВСКОМУ.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР [Калинин]
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР [Енукидзе]»
(сайт istmat.org)
Комментируя обоснования к наградам. – Участие ИМТУ в революции 1905 г. действительно было самым значительным: достаточно сказать, что штаб РСДРП находился именно в его стенах. «Октябрьские дни» – это время Октябрьской всеобщей (всероссийской) политической стачки 1905 года, в результате которой появился царский Манифест 17 октября, удовлетворивший все требования либералов, но не остановивший революцию и лишь подзадоривший, в частности, РСДРП (большевик Н.Э. Бауман погиб 18 октября на демонстрации, организованной по этому поводу на сходке в стенах ИМТУ). – В Октябрьском перевороте 1917 г., как это может показаться из текста, практически никто из ИМТУ, благодаря личному влиянию тогдашнего авторитетнейшего и обожаемого студентами ректора А.П. Гавриленко, участия не принимал: «Политика не должна быть в школе, ни с той, ни с другой стороны» (Памяти Александра Павловича Гавриленко, 1915, проф. А.И. Астров); «студенты [ИМТУ] почти не принимали участия в революционной работе и в подготовке к Октябрю. Исключение составляли лишь отдельные лица» (Юбилейный сборник, 1933, [член ЦК ВКП/б/] А.М. Цихон).
3) 10 декабря 1933 г. – Опубликование Постановления ЦИК СССР «О награждении МММИ им. Баумана и отдельных его работников» (текст Постановления см. выше); до указанной даты об этом постановлении в МММИ, как уже сказано, известно (по крайней мере официально) не было.
Газета «За коммунистическое просвещение» от 10 декабря 1933 г. приводит Постановление от 17 ноября почти что в пересказе, без даты и подписей. –
«ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ –
ИНСТИТУТУ имени БАУМАНА
Президиум ЦИК СССР постановил:
Учитывая революционные заслуги Московского механико-машиностроительного института им. Баумана в прошлом – непосредственное участие в революции 1905 года и в октябрьских днях – и особые заслуги института в период восстановления народного хозяйства СССР и плодотворное участие его в социалистическом строительстве в данное время, наградить Московский механико-машиностроительный институт им. Баумана орденом Трудового Красного знамени;
за исключительные заслуги в деле организации МММИ им. Баумана и подготовку высококвалифицированных специалистов из рабочего класса наградить директора института А.А. Цибарта орденом Трудового Красного знамени.
* За долголетнюю плодотворную деятельность в институте присвоено звание героя труда мастеру лаборатории И.Н. Николаеву и мастеру чертежно-модельного кабинета А.И. Гусеву и звание заслуженных деятелей науки и техники проф. П.К. Худякову, проф. А.Н. Шелесту и проф. И.И. Куколевскому.»
«Известия» и «Правда» в номерах от 10 декабря публикуют Постановление ЦИК СССР с подписями Калинина и Енукидзе и датой 17 ноября 1933 г., однако пункты III и IV Постановления (которые был полномочен принимать лишь ЦИК РСФСР, председателем коего также был Калинин) объединяются в один и публикуются отдельно, на других страницах, в обеих газетах без даты. – «Хроника»: «Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета в связи со столетием Московского механико-машиностроительного института им. Баумана присвоил звание героев труда [РСФСР] за долголетнюю особо плодотворную деятельность в институте мастеру лаборатории [Р.О.М. пропущено] Ивану Николаевичу Николаеву и мастеру чертежно-модельного кабинета Александру Игнатьевичу Гусеву и звание заслуженных деятелей науки и техники [РСФСР] профессорам института Петру Кондратьевичу Худякову, Алексею Нестеровичу Шелесту и Ивану Ивановичу Куколевскому» (Известия).
В «Известиях» от 18 декабря 1933 г. публикуется сообщение о вручении 17 декабря Президиумом ЦИК СССР гос. наград, в т.ч. орденов Трудового Красного знамени – МММИ им. Баумана и его директору А.А. Цибарту. –
«В ПРЕЗИДИУМЕ ЦИК СОЮЗА ССР
ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ
17 декабря на заседании Президиума ЦИК Союза ССР, состоявшемся под председательством тов. М.И. Калинина, вручены ордена Трудового красного знамени Московскому механико-машиностроительному институту им. тов. Баумана, директору института тов. Цибарту А.А. и старшему научному сотруднику Научно-исследовательского института резиновой промышленности тов. Левитиной Г.А.; ордена Ленина: директору завода № 39 тов. Марголину С.Л., рабочему – бригадиру этого завода тов. Моисееву И.Г., начальнику первой секции Научно-исследовательского института резиновой промышленности тов. Кузиной Е.Н., секретарю партколлектива автопробега Москва – Кара-Кум – Москва и водителю машины № 9 тов. Беневоленскому В.П., секретарю ЦК ВЛКСМ тов. Горшенину П.С., пом. начальника Политуправления НКПС тов. Васильеву В.В. и первому секретарю Закавказского крайкома ВЛКСМ тов. Григорян Г.В.; ордена Красного знамени: тт. Алферову И.П., Факторовичу М.С., Терехову В.И., Нефтереву И.Ф., Кеда И.Н., Захаркину И.Г. и Харькову И.М.; ордена Красной звезды: тт. Каган М.А., Аграновичу К.П., Стаханскому Н.М. и Степанченку В.А.
Тов. М.И. Калинин обратился к награжденным с краткой речью:
– Поздравляю вас с получением награды. Надеюсь, что она будет лучшим стимулом в вашей дальнейшей работе. Желаю вам всяческого успеха.
Тт. Марголин, Григорян, Каган, Нефтерев и представитель Московского механико-машиностроительного института им. Баумана тов. [В.Д.] Шевцов от имени награжденных заверили правительство, что новые задачи, которые станут перед ними в дальнейшем будут также с честью выполнены.
– Заверяю правительство, сказал тов. Марголин, – что в 1934 г. нами будет создана еще более совершенная материальная часть для полетов в стратосферу.
– От имени комсомольцев заявляю, – говорит тов. Григорян, – что мы не пожалеем ни сил, ни энергии для успешного развития социалистического строительства.»
22 декабря 1933 г. в институтском «Ударнике» – реакция руководства МММИ на награждение института орденом Трудового Красного знамени. –
«Ко всем студентам, профессорам, преподавателям, рабочим и служащим МММИ
Товарищи! ЦИК СССР наградил наш институт орденом Трудового Красного Знамени. Это очень большая награда, и ею должен гордиться каждый профессор и преподаватель, каждый студент и каждый работник МММИ.
Учить и учиться в краснознаменном лучшем из втузов Советского союза – большая честь для каждого из вас, и не только честь, но и ответственность.
Перед нами стоит огромная задача – дать социалистической стране лучшего инженера в мире, способного понять, усвоить и провести на деле политику рабочего класса нашей страны.
Мы получили переходящее знамя ЦИК СССР, но сейчас начался второй тур всесоюзного соревнования вузов и втузов, и уже недостаточно работать так, как мы работали в прошлом году. растет и крепнет наша социалистическая страна, вооружается новейшей техникой социалистическая промышленность и пред'являет все большие и большие требования к техническим вузам.
Для того, чтобы удержать знамя ЦИК СССР, нам нужно сейчас работать во много раз лучше и энергичней, чем прежде. ...
У нас еще много недостатков, немало их вскрыто во время чистки парторганизации МММИ. Много вопросов еще не разрешено. многие проблемы еще только поставлены. Не всегда еще высоко качество лекций, не всегда они хорошо подготовлены по содержанию, педагогически правильно построены, увлекательно и просто изложены, мало еще в них уделяется внимания последним достижениям новейшей техники. ...»
«Нам нужно добиться, чтобы отметки полностью соответствовали фактическим знаниям студентов. Нужно перестроить преподавание так, чтобы академический час использовался полностью, чтобы не было потерь времени на зарисовывание на доске чертежей, схем, таблиц, справочных данных и механического списывания этих материалов студентами, а для этого нужно, чтобы все необходимые чертежи и таблицы были приготовлены и розданы студентам заранее, чтобы еще до лекции студент имел на руках ее конспект.»
«Нельзя ограничиваться тем, что получаешь на лекции, нужно углублять свои знания, осваивать новейшие достижения науки и техники, нужно уже сейчас, находясь во втузе, научиться применять свои знания на практике для помощи промышленности в выполнении задач второй пятилетки, активно участвуя в работе по техпропаганде.
«Выполнить решение ЦК ВКП(б) об общественных нагрузках, "перераспределив нагрузки с таким расчетом, чтобы на каждого студента была возложена только одна общественная нагрузка, которая не должна превышать 4 часов в шестидневку, включая затрату времени на собрания и заседания не учебного характера" (из постановления ЦК ВКП/б/).
Широко развернуть работу по физкультуре, стрелковому спорту, организовать широкое ознакомление студенчества с художественной литературой и искусством.
Повести широкую борьбу за личную опрятность студента (зубная щетка, порошок, регулярное бритье, чистая одежда и т.д.) как за важнейший элемент культурного быта.
Чистка вскрыла недостаточно высокий уровень политического развития студенчества. Студенчеству нужно усиленно работать над своим политическим ростом, широко развернуть сеть политкружков, изучая марксизм, ленинизм и овладевая методом марксистской диалектики.»
«Работа аппарата института на сегодня не обеспечивает еще удержания за институтом переходного знамени. ... Нужно повысить ответственность отдельных работников аппарата. "Нельзя полагаться на приказы, без тройной проверки у нас все изгадят и ничего толком не сделают", говорил т. Ленин. ...»
«Товарищи! Приближается XVII партийный с'езд. Включившись в производственный поход, все мы взяли на себя много больших и серьезных обязательств. Выполнение этих обязательств – лучший ответ правительству на награждение орденом Трудового Красного Знамени. Будем работать так, чтобы получить место на красной доске передовых предприятий, пришедших с лучшими показателями к XVII партс'езду, чтобы переходное знамя ЦИК СССР осталось за нами и во втором туре всесоюзного соревнования. Помните, что за знамя теперь отвечает каждый профессор, преподаватель, каждый студент, рабочий и служащий института!
Директор института ЦИБАРТ.
Секретарь парткома ШЕВЦОВ.
Секретарь комитета ВЛКСМ ПОБЯРЖИН.
Председатель профкома ЦЫГАНКОВ.
Председатель СНР проф. ОРЛИН.»
«ОРГАНИЗАТОР ПОБЕД ИНСТИТУТА
(Биография тов. Цибарта)
Адольф Августович Цибарт родился в 1892 г. в семье литейщика. В 1910 г. поступил в МВТУ, которое окончил в 1917 г. В этом же году вступил в ВКП(б).
<фотопортрет>
С 1917 г. работал на ответственных руководящих партийно-хозяйственных постах (член ревкома, директор треста легкой промышленности, председатель ВСНХ Белоруссии, торговым представителем в Германии, в течение ряда лет член районной КК, председатель комиссии по чистке партии 1929 г. и 1933 г. и т.д.)
В 1929 г. вернулся в институт и стал работать деканом механического факультета МВТУ. При разделении МВТУ и организации Механико-машиностроительного института, был назначен директором его.»

Для А.А. это событие несомненно имело большое значение. В марте 1933 г., в луганском совхозе, куда он был откомандирован на февраль–март, за восемь месяцев до награждения, он даже записал в дневнике: «В Луганске сон о вруч<ении> мне ордена». А в дальнейшем не раз упоминает годовщину этого события – 10 декабря, однажды называет этот день «счастливым»...

Фотография из книги "МВТУ имени Н.Э. Баумана. 1830–1980"
Подпись: "Председатель Президиума ЦИК СССР М.И. Калинин, секретарь Президиума ЦИК А.С. Енукидзе
с работниками училища А.А. Цибартом, С.Т. Цыганковым, В.Д. Шевцовым. 1933 г."
(вероятно, в день награждения МММИ и его директора Цибарта. –
С.Т. Цыганков в это время – предс. профкома, В.Д. Шевцов – секр. парткома МММИ.
Между Цибартом и Калининым – Шевцов; стоит справа на фото, возможно, В.Н. Крицман, зам. нач. Главмашпрома НКТП СССР)
|
Информацию о трех представленных институтом к ордену профессорах (кроме директора) дает, без ссылки на источник, И.Л. Волчкевич. В протоколе заседания треугольника МММИ от 22 марта 1933 года (ГАРФ ф. Р-8060, оп. 1, д. 7, лл. 12–14), однако, профессора выдвигаются на звания Заслуженых деятелей науки и техники РСФСР – эти звания и были им присуждены. |
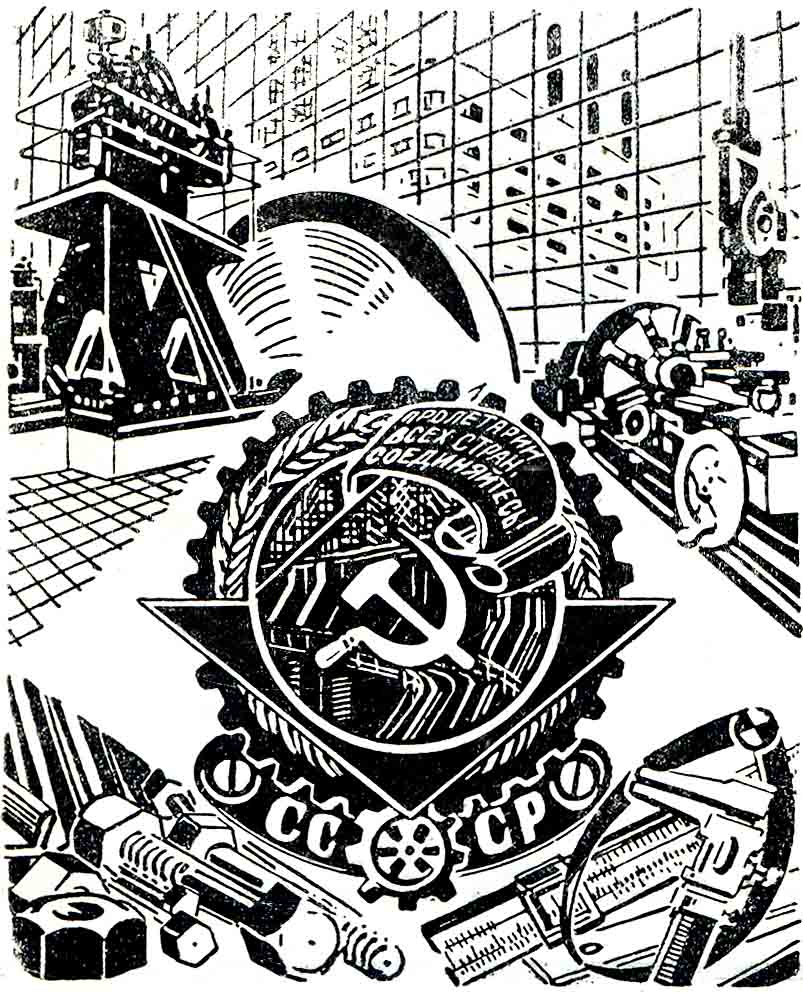
Немного о геральдике. – В юбилейном сборнике «Сто лет МММИ им. Баумана», изданном за несколько месяцев до награждения института и его директора, орден Трудового Красного Знамени изображен в оформлении статьи о проф. П.К. Худякове, т.к. он уже был его кавалером. Для тех, кто не узнает на иллюстрации орденского знака, напомним, что его вид в 1936-м году был изменен: в частности исчез характерный треугольник, пережиток раннесоветского авангарда. На обложках институтских изданий 1937-го года орден изображается уже в новом облике. То же и над главным входом в Слободской дворец – МММИ, на постаменте скульптуры Витали, красуется, один из трех, «не тот» орден.
«ВТУЗ находится на крутом подъеме. Мы идем вверх по большинству наших качественных показателей»
Год 1933-й завершается V-й партконференцией МММИ (29 декабря, ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 14).
Партконференция обещает повести институт «к новым победам, в целях повышения качества выпускаемых специалистов, в целях осуществления задачи "дать стране лучшего в мире инженера"» (л. 6). В протоколах, как обычно, много «большевистской критики и самокритики» – скорее, живых деталей жизни института. Но реальные достижения неоспоримы. Их отмечают со стороны (мы уже упоминали этот эпизод): присутствующий на конференции представитель ВКВТО тов. Раткинский находит в работе института «такие качества, которые ставят ваш Втуз выше других, он краснознаменный Втуз...» (л. 18).
Слово имеет директор Цибарт (лл. 37–39). Останавливается на недоработках (например, традиционное и неизбежное «не втянуты профессора в соцсоревнование»), и все же – «ВТУЗ находится на крутом под"еме. Мы идем вверх по большинству наших качественных показателей».
«Последний вопрос – это взаимоотношения с вышестоящими организациями. Эти взаимоотношения сейчас установились такие, каких не было никогда на протяжении нашей работы. Такие взаимоотношения поддерживают и помогают в работе, они помогают на месте устранять те недочеты, которые обнаруживаются в процессе учебы. Наши взаимоотношения с ГУУЗ"ом и Комитетом по высшей школе помогают нам в работе...» (Что ж, это действительно важное достижение. И то, что решить некоторые учебные вопросы института в вышестоящих инстанциях – это и значило решить их «на месте», – видимо, факт.)
«Мы будем работать еще больше для того, чтобы добиться еще больших успехов и идти впереди всех ВТУЗ"ов Союза.»
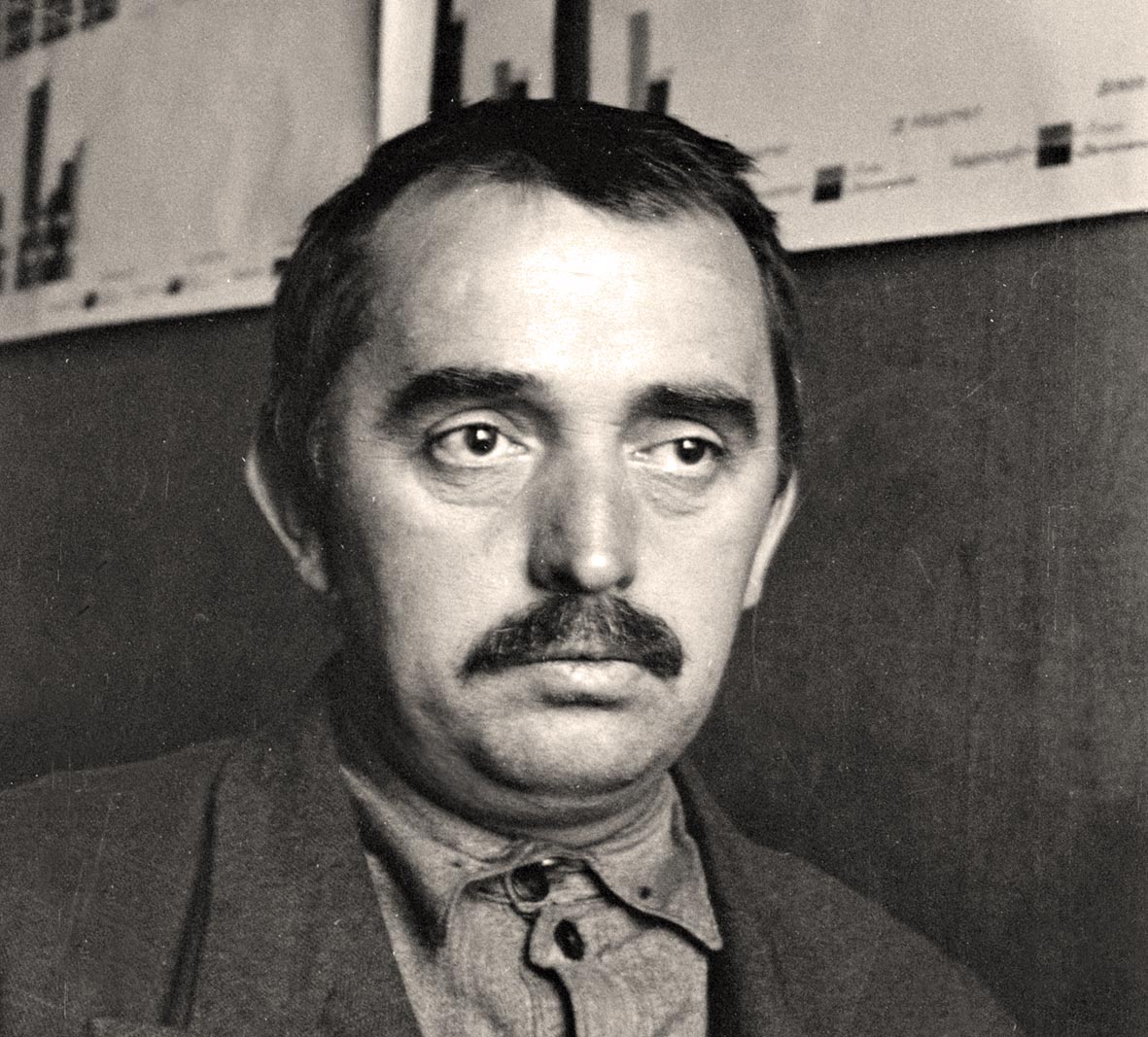
А.А. Цибарт в МММИ им. Баумана. 1933. Фрагмент фото, РГАКФД

"Делегация института им. Баумана, рапортовавшая II областному С'езду профсоюзов.
На фото – сидят слева направо: проф. Ф.К. Герке, Тугеев (секретарь комсомольской ячейки), Хонин (председатель
профкома),
Журавлев (секретарь парткома), А.А. Цибарт (директор), проф. А.Н. Шелест.
Стоят слева направо: Исарев (техпроп), Славин, Зернов, Иванова-Терентьева (лучшие ударники учобы),
Шишковский (пом. директора), Каплун (бригадир краснознаменной группы)."
(Фото из юбилейного сборника «Сто лет МММИ»)

Читальный зал библиотеки МММИ
(фото из книги: Анцупова Г.Н., Павлихин Г.П. Ректоры МГТУ имени Н.Э. Баумана, 1830-2003)
Библиотека находится в пристройке 1914–1929 гг. к юго-восточному крылу старого здания (Слободского дворца)
Любопытный факт. – Как было засвидетельствовано на партсобрании МММИ в 1937-м году (см. на сайте), у директора Цибарта имелся некий «тайный кабинет над библиотекой». Имелась в виду, видимо, существующая в этом месте и ныне библиотека, а «тайный кабинет» располагался не совсем «над», а вплотную к представленному на фото читальному залу библиотеки и на пол-уровня выше его, так что в зал приходится спускаться. В помещении бывшего «тайного кабинета» Цибарта находится в настоящее время кабинет директора библиотеки МГТУ (и в Бауманском о его прежнем назначении помнят).
:
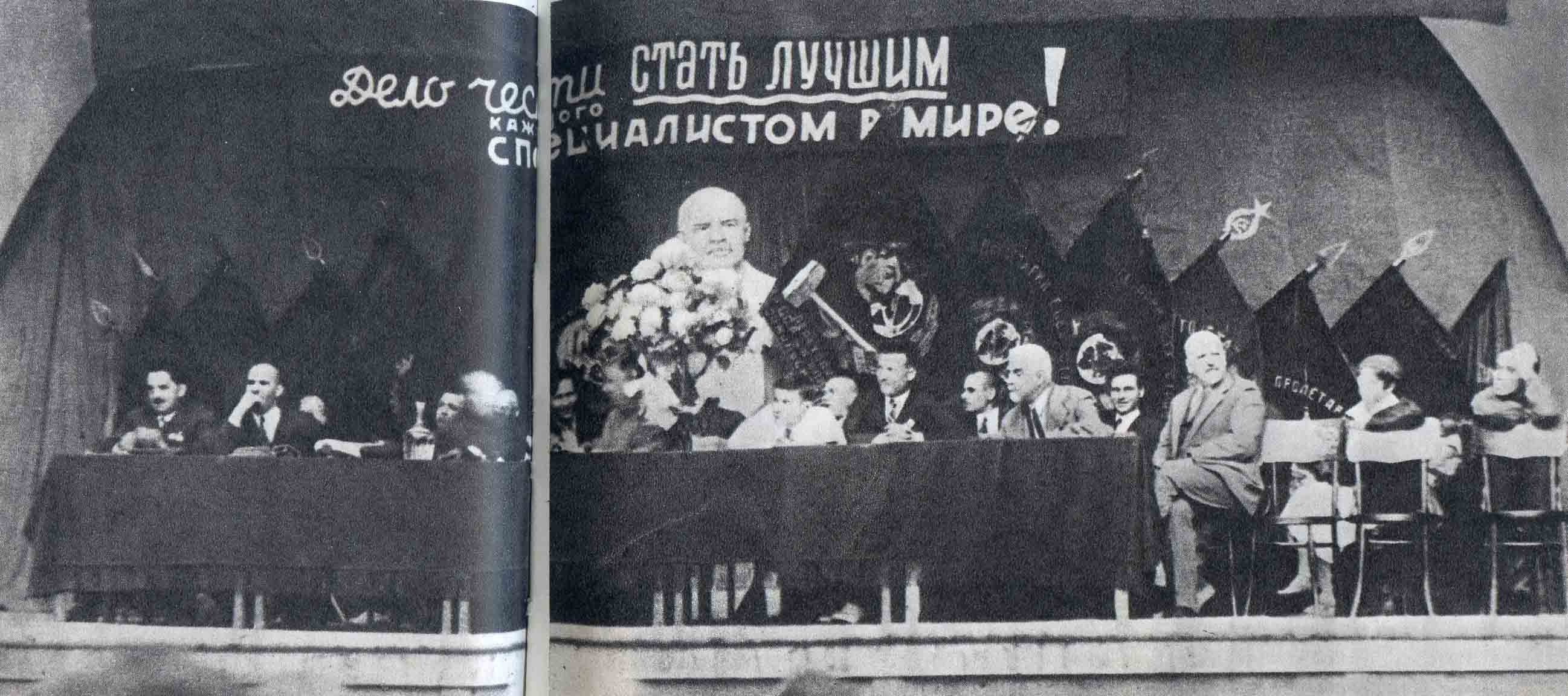
Президиум торжественного заседания, посвященного окончанию 1933/34 учебного года
Слева – А.А. Цибарт. – Фотография из книги "МВТУ имени Н.Э. Баумана. 1830–1980"

Фото ок. 1933 г. В кабинете директора (3-й этаж, центральная часть дворца). Слева направо:
(? – кто-то из руководства рабфака); В.В. Балабин, зам. дир. по учебной части МММИ; Ф.А. Яковлев, зам. дир. по админ.-хоз. части МММИ;
А.А. Цибарт, директор МММИ; (?)
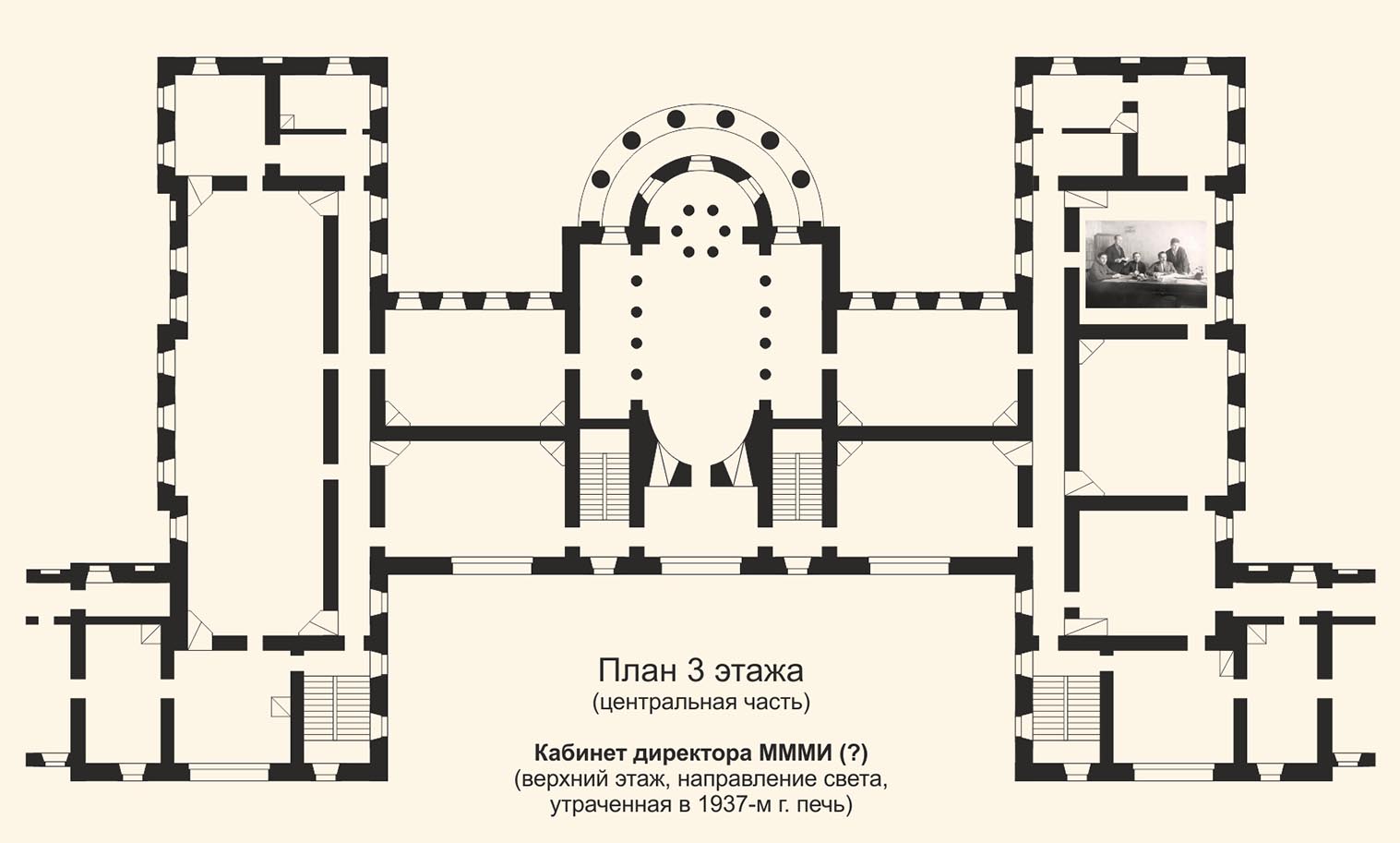
Идеология, мягко говоря, мешала делу, прямой задаче учебного заведения. В чем состояла истинная позиция партийца и директора Цибарта в этом вопросе, как ему удавалось мирить непримиримое, как реагировала на его действия институтская партийная среда?
Как известно, истинные предпочтения и подлинная миссия крупных функционеров проявляются, в том числе и для них самих, только тогда, когда для этого складываются подходящие условия: об их предпочтениях и миссии можно судить по тому, в каких именно начинаниях властей функционер оказывается наболее успешен. Благоприятные для настоящего дела условия во втузах появились лишь после 19 сентября 1932-го года, и тут-то директор Цибарт, по нашей оценке, действительно обессмертил свое имя в истории отечественного образования – в становлении Бауманского. Но «классовое чутье» в отношении Цибарта не подводило институтских «ценных товарищей», объективно убивавших втуз, и до этой даты.
Примечательно, что на всех этапах истории партии, как преступных, так и открывавших лазейки для добра, сам А.А. искренне мнил себя твердым партийцем.
Меж тем (что касается общих вопросов) однажды и он якобы признался комсоргу МММИ Головинцеву в том, что «ему не легко досталось пребывание в партии /были шатания и колебания, особенно в период коллективизации/» (ЦГАМ, ф. П-158, д. 44, л. 149). Впрочем, для искажения смысла высказывания Цибарта бдительному комсоргу достаточно было лишь чуть-чуть сместить акценты – если в линии партии немыслимо было сомневаться, то и при каждом ее крутом изломе (как в частности осуждения Сталиным «головокружения от успехов» в коллективизации) нельзя было не выражать удовлетворения, а значит и толики осуждения предыдущего этапа.
Цибарт участвовал в комиссиях по чистке партии, «сам исключал троцкистов». Но по крайней мере до той войны на уничтожение, которая велась с ним после ареста Петровского в марте 1937-го года, дальше чисток его война за чистоту рядов ВКП(б) не простиралась. Так, тов. Филимонов на партсобрании в декабре 1837-го года, исключившем А.А. из ВКП(б), обвиняет: «Вспоминаю все партийные собрания, которые здесь были ... всегда эти выступления [Цибарта] носили чисто деляческий характер, и не было ни одного выступления где он разоблачил бы хотя бы одного врага» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 43, л. 110).
(«Деляческий» здесь значит – деловой. Это ли, вкупе с неохотой приносить человеческие жертвы Сталину, не лучшая похвала?)
Советская убежденность Цибарта не делает его слепым к реальности. На заседании 1-й Партконференции МММИ 21 декабря 1930 года он говорит: «Успеваемость членов партии у нас очень низка, в хвосте плетутся у нас комсомольцы. На вопрос предварительной подготовки нам надо обратить особое внимание, так как сейчас это дело поставлено из рук вон плохо» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 1, л. 15). Можно понять это как упрек в адрес рабфаков и подготовительных курсов, но каким образом можно было «предварительно подготовить» уже в стенах вуза «почти полуграмотных» парттысячников? Такие слова могли вызывать в их среде только озлобление. – Впрочем, на партийных заседаниях все были достаточно откровенны, не только Цибарт. Констатация на парткоме «некоторые тысячники почти полуграмотны» принадлежит не ему. Но вот удивительное письмо 1930-го года в ВСНХ о недостаточной подготовке поступавших, а это значило в первую очередь столь дорогих партии тысячников, хотя в письме они и не упоминались, – направил Цибарт!
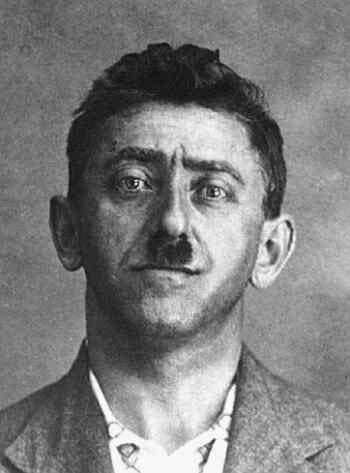
Чрезвычайно не ладил А.А., как упоминалось в рубрике о «деле Промпартии», с секретарем парткома ВММУ и МММИ (1930 – 30 июня 1931 г.) – «алмазным большевиком», бывшим военкомом дивизии и парттысячником М.Г. Кривиным. «Кривин, секретарь партийного комитета, через два месяца, как я [Цибарт] сюда пришел, поставил вопрос о моем снятии» (см. Партсобрание). Причина идейной вражды Кривина к Цибарту заключалась именно в «оппортунизме дирекции», т.е. в том, что Цибарт был недостаточно активен в «выкорчевывании вредительства» в институте после дела Промпартии, как и в проведении разрушительных директив ЦК ВКП(б) 1928–1929 гг. Приводившаяся выше цитата из протокола заседания парткома 23/IX-37 г., в которой суммируются выступления многих выступавших (стенограмм самих этих выступлений в деле почему-то нет) «в институте в 1930–31 гг. была группа во главе с Кривиным и Эдельштейном, которая проводила антипартийную линию на выживание из института старой профессуры, на раскол студенчества на два лагеря» (ЦГАМ, ф. П-158, д. 44, л. 121), плюс описание борьбы Эдельштейна, Шлямберга и других единомышленников Кривина против проф. Головина (см. в рубрике «Поворот на 180 градусов...») – это лишь часть из обнаруженных свидетельств радикальной позиции Кривина. Устранить «правого оппортуниста» Цибарта Кривину тогда не удается, точнее, ему не удается довести это дело до конца, поскольку в 1931-м году этот парторг уходит из института (становится членом ЦК Совконтроля), а столь рьяно продвигаемые им пролетаризация и борьба с «реакционной профессурой» вскоре умериваются самой властью – с реформой 19 сентября 1932 г. эта ортодоксальная «линия» быстро переосмысляется уже как «антипартийная». Нелюбовь же партийных активистов к А.А., вызванная им к себе в счастливое для них время Кривина, не стихает до конца: так, через пять лет, в 1937-м году П.М. Зернов и М.С. Ховах (впрочем рабфаковцы, а не парттысячники) активно продвигают Кривина на место Цибарта. (Но 28 июня 1937 г. вернейший большевик М.Г. Кривин был арестован за... «контрреволюционную троцкистскую деятельность», а 22 августа 1938 г. будет расстрелян. С момента ареста Кривина в парткоме МММИ его бывшие сторонники приписывают «связь» с Кривиным уже самомý Цибарту, а Цибарт припоминает им их реальную с ним связь.)
На фото – М.Г. Кривин, уголовное дело НКВД. Сайт «Открытый список»*
|
Вот интересный эпизод из жизни института, проясняющий отношения Цибарта и его всегдашних институтских оппонентов (ЦГАМ, ф. П-158, д. 44, лл. 100, 121, 122об, 124). 27 сентября 1937-го года партком МММИ разбирает «заявление на Зернова о его связях с врагом народа Кривиным». Автор заявления не назван. «...В заявлении указано, что Зернов и Ховах ходили к Кривину и предлагали ему дать согласие на работу в ин-те им. Баумана в качестве директора института.» Кривин тогда сказал: «моя кандидатура копируется [кооптируется?] в ГУУЗ, но не возражаю если будет стоять вопрос о директорской работе в ин-те». На вопрос к Зернову «кто был инициатором постановки вопроса о снятии директора ин-та Цибарта», тот отвечает: «Инициатором был Кривин, но для этого были все основания и теперь я считаю, что Цибарт не справляется со своей работой, что Цибарта надо снимать и тогда я был такого мнения». Высказался на парткоме, в числе прочих, т. Шевяков: «разговор с Максом ХОВАХ был и зря он отказывается. Я был в институте в июле месяце. Макс сказал так: недавно распространили слух, что Кривин арестован, но Кривин был на активе. По правде сказать мы сдрейфили, так как мы с Зерновым его предлагали на пост директора Ин-та». Все же «сдрейфили» эти товарищи не зря, арест Кривина последовал в ближайшие дни. Из обвинений, предъявляемых Зернову, проясняется в т.ч. позиция Кривина в начале существования втуза, и можно видеть, чему именно противостоял Цибарт в то, самое тяжелое для Бауманского, время. «Тов. тов. МАСЛИН, РАБИНОВИЧ, ШАУМЯН и друг. говорили о том, что в Ин-те в 1930-31 гг. была группа во главе с Кривиным и Эдельштейном, которая проводила антипартийную линию на выживание из Ин-та старой профессуры, на раскол студенчества на два лагеря. / В эту группу входили: Дыскин /троцкист/, Шлямберг /бундовец/, Этлин, Журавлев, Юдин, Зернов, Злотников и друг.». Разоблачают, в партийном духе, постоянные контакты Зернова с Кривиным. Цибарт высказывается: «я никогда не делал разницы в … поведении Зернова и Кривина». Тов. Шевяков говорит, что в 1930-31 гг. Зернов, Журавлев и Злотников «Кривина в институте превозносили»; «я не могу отделить Кривина от Зернова во всех действиях он был тесно с ним связан. У них была единая тактика. Никогда Зернов против Кривина не выступал и по всем вопросам институтской работы они разговаривали, в этом нет никакого сомнения». То же и во время работы Кривина в Комитете Сов. Контроля. В 1934 году «Зернов сказал, что Кривин предлагал ему работу в Ком. Сов. Контроля». Это уже прямая связь с врагом народа. Зернов оправдывается: «в 1934 г. от КСК [я] был назначен руководителем бригады, которая проводила обследование Коломенского завода и завода "Русский дизель". Кто меня рекомендовал в эту комиссию я не знаю. Знаю только, что меня вызвали в секретариат т. Куйбышева и предложили эту работу. Материалы обследования я сдал в воен. Контроль. В выводах я указывал на элементы вредительства на Коломенском заводе. Дальнейшей судьбой выводов я не интересовался...» Между прочим (говорит тов. Кулаков): «у Зернова нет элементов скромности большевика … из кожи лез желая быть избранным в партком и в Райком». В итоге, Зернову на том парткоме объявляют выговор и выводят из состава парткома в т.ч. «за хранение запрещенной и из"ятой из обращения литературы /"Логика фракционной борьбы"/ послужившей материалом для протаскивания контр-революционного троцкизма сестрой жены тов. Зернова». Однако поражение Зернова было временным; если к делу Зернова на парткоме причастен Цибарт, то на этом поле борьбы победить его было, конечно, невозможно. Столь же непотопляем оказался и М.С. Ховах. На предыдущем заседании парткома 31 августа 37 года разбиралось «заявление тов. ХОВАХ МС /член парткома/ о том, что у него арестован родной брат, бывший работник Киевского Обкома партии»; «тов. Ховах имел связь со своим братом, детство провели вместе. Позже переписывались, встречались работая в разных местах». Ховаха также выводят из парткома. Но уже в последующие месяцы оба деятеля, Зернов и Ховах, вполне активны, в частности в войне с Цибартом. Как видно, «вскрытие» троцкистов для партии не только самоцель, но и средство для устранения неугодных кому-то «сверху» и продвижения угодных, которые могли и выходить сухими из воды. Ибо в большинстве случаев, разбиравшихся на партсобраниях МММИ, всякие «связи с троцкистами», служебные или родственные, оказываются для обвиняемых фатальными, их исключают из партии (за чем чаще всего следует арест). К примеру, изгоняют из партии дочь старого большевика за связь с собственным мужем. «Все равно я покончу жизнь самоубийством себя и своего ребенка.» «Высказались Кунявский, Наугольнов, Фролова. ПОСТАНОВИЛИ: 1/ Лотоцкую А.М. члена партии с 1926 г. за многолетнюю связь с врагом народа Лотоцким, арестованного органами НКВД, с которым жила в течении 16-и лет и не распознавала в его лице врага – из партии исключить. 2/ Просить ОНО о взятии ребенка у Лотоцкой в детдом.» ...Когда же пришла пора для окончательной расправы над Цибартом, Зернов, сторонник Кривина, поясняет НКВД: «в период работы в ин-те разоблаченного врага народа Кривина, из людей работавших тогда и знавших его в ин-те сейчас имеется ряд лиц, включая и меня, т-к я тогда был членом парткома. Цибарт был членом парткома и бюро. Вместе с Кривиным в 2-х составах. Внешне казалось, что они ругаются, но я не помню ни одного случая, что бы Цибарт ставил о нем вопрос или вел борьбу по принципиальным вопросам. Сейчас он усиленно бравирует, что мол он вел с Кривиным борьбу. Я думаю, что то, что между ними было все это для отвода глаз. То же и теперь делает Цибарт, Жебровский и др.»... |
Итак, хотя в 1930–31 гг. линия парторга Кривина, молодого ударника Зернова и других отнюдь не была «антипартийной», но, к счастью, победила необъявленная линия Цибарта – на сбережение, в меру возможности, старых профессоров, квалифицированных преподавателей, и сдерживание террора студентов-партийцев. В этом его величайшая заслуга.
Легко можно себе представить, что та ложная ситуация, в которой по милости ВКП(б) оказывалась буквально полуграмотная партийная молодежь во втузах, неизбежно ставила ее перед альтернативой – либо терроризировать настоящих профессоров и учащихся (как оно описано у М. Поповского), либо испытывать постоянное унижение. Несмотря на усилия «алмазного большевика» Кривина и его команды, вполне осуществиться первому Цибарт в МММИ не позволил. Как следствие, наблюдалось второе. Вместо роли знаменосцев партии, хозяев, уполномоченных в том числе надзирать за неблагонадежной «профессурой», – «пролетариям на учебе» пришлось удовольствоваться незавидной ролью простых отстающих. Это припоминают Цибарту на последнем перед его арестом партсобрании в начале декабря 1937-го года (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 43, л. 106, тов. Дюков): «Цибарт должен быть вне рядов партии. Я должен сказать о выступлении Зернова [в его поддержку]. Я хочу указать, что я переживал, будучи в 31 году в институте. Меня с самого прихода в институт поразила та обстановка политической неряшливости и некоммунистического, непартийного подхода к пролетарской части нашего студенчества … В 31–32 году большое количество рабочих с производственным стажем, они форменно здесь опошлялись»...
Есть и менее принципиальные трения Цибарта с партийной общественностью. Например, на заседании парткома КрМММИ 1-го декабря 1934 года А.А. пеняют: «т. Цибарт, как директор, лично недостаточно занимался подбором кадров для аппарата ин-та и плохо заботился об увеличении партпрослойки среди рабочих и служащих, в том числе и на очень ответственных и важных в политическом отношении работах (типография, сектор учебных пособий). / Предложить т. Цибарт укрепить аппарат коммунистами, правильно расставив их в аппарате, обратив особое внимание на бухгалтерию, библиотеку, сектор учебных пособий и типографию». Это еще чисто оперативная критика, Цибарта ни в чем, кроме недосмотра, открыто не подозревают.
Настоящие, незабываемые обиды институтских партийцев на Цибарта, не допустившего в свое время «выживания из института старой профессуры» и прочих плодов пролетаризации, до поры в протоколах партсобраний прямо почти не отражаются.
Здесь исключительно интересен и важен один эпизод из отчета оперуполномоченного НКВД Н.Д. Горлинского, предоставленного им следствию через неделю после ареста Цибарта в декабре 1937 г.
(С марта 1932-го по март 1933-го года этот весьма известный в будущем деятель, генерал-лейтенант НКВД, учился в Центральной школе ОГПУ в Москве /см. Петров/ и, надо понимать, был каким-то образом прикреплен к МММИ им. Баумана; кстати, при МММИ числился рабфак ОГПУ /ул. Дзержинского, 13/, заведовал которым известный этнограф и агент ГПУ–ОГПУ А.Н. Липский /см. Вся Москва, 1931/. Оперуполномоченный Горлинский прекрасно осведомлен в делах и персоналиях Бауманского 1932–1933-х годов. Хорошо знают в Бауманском и его, вполне представляют его роль, причем, насколько нам известно, в штате МММИ его не было. – К теме Горлинского мы еще вернемся в рубрике «Архивное уголовное дело № Р-24817».)
В отчете Горлинского упоминается об изменении требований к учебе после 19 сентября 1932-го года сравнительно с периодом «пролетаризации», и описывается личная роль А.А. в этой перестройке в МММИ. – «В 1932 г., когда вышло постановление правительства о Высшей школе, которое обязывало всех директоров перестроить работу с лабораторного метода учебы на лекционный с индивидуальной проработкой дисциплин студентами и индивидуальной сдачей зачетов. Социальный и партийный состав студенчества в ин-те был тогда весьма сильный, к тому же по возрастному составу студ-во было в среднем по 30-40 лет и было много парт. и профтысячников. Цибарт дает распоряжение в виде опыта провести экзаменационную сессию ... В результате оказалось много ценных товарищей, получивших неудовл. оценки, по сессии, не по их вине. На это Цибарт ответил, что есть решение пр-ва и его надо проводить в жизнь, не бояться таких явлений» (ЦА ФСБ РФ, АУД Р-24817 т. 1, л. 55).
Далее Горлинский подробно описывает возникшее в связи с этим противостояние Цибарта и тогдашнего заведующего учебной частью МММИ В.В. Балабина. Последний составляет собственный вариант приказа о сессии, щадящий парттысячников, и пытается провести его в обход директора (лл. 57, 58). «Цибарт категорически настаивал на своем, и в гневе требовал выполнения его указания. Тогда Балабин пошел к секретарю парткома т. Серкину и посоветовался с ним. Серкин вместе с Балабиным отправились в райком партии к тов. Дедикову [Н.И. Дедиков будет расстрелян несколько позже и на него еще можно было ссылаться], который целиком согласился с порядком проведения зачетной сессии и предложил отстоять этот [Балабина] проект приказа, иначе может много отсеяться парттысячников, которые могут пострадать за счет прежней системы обучения. А Цибарт это проводил умышленно, чтоб избавиться от парттысячников, т.к. они его очень не любили и с ним всегда сражались. Другими словами, Цибарт прикрываясь постановлением правительства проводил вредительскую линию, выгоняя из ин-та лучших представителей рабочего класса, которые мешали ему в его вредительских действиях.» Цибарт «как будто бы борется за качество учебы», на самом же деле, конечно, вредитель. «Все действия Цибарта были направлены на формальное проведение в жизнь постановления правительства и в то же время на освобождение от лучшего студенчества имеющего большой партийный и производственный стаж».
Первая после 1929 г. сессия во втузах проводилась в июне 1933 г. Таким образом, устроенная Цибартом «в виде опыта» сессия, на которой могли пострадать парттысячники и которая настроила против Цибарта институтских партийных активистов, могла иметь место в традиционное для зимних сессий время. Она состоялась чуть позже – в феврале.
27 декабря 1932-го года, в разгар подготовки к этой «пробной» сессии, В.В. Балабин, видимо, делает попытку отстоять свою позицию на бюро парткома института. «СЛУШАЛИ. – О зачетных сессиях /т. Балабин/ ПОСТАНОВИЛИ. – Ввиду отсутствия т. Цибарта и Селезнева [замещавшего тогда секретаря парткома И.А. Серкина] – вопрос снять» (ЦГАМ П-158 оп. 1а, д. 11, л. 203). Выступить против директора в его отсутствие партком все-таки не решается.
Цибарт настоял на своем, и «пробная» сессия прошла, по свидетельству Горлинского, всерьез или почти всерьез. Неизвестно, каких послаблений для тысячников удалось добиться Балабину. Но краткая справка о его докладе на бюро парткома МММИ 1 февраля 1933 г. свидетельствует о том, что дело проходило не гладко: «5. СЛУШАЛИ: О проведении сессии /тов. Балабин/ ПОСТАНОВИЛИ: Доклад тов. Балабина принять к сведению, и то, что им по этому вопросу будет созвано совещание бригадиров, на котором будет подробная информация о предстоящих сессиях и проведение соответств. подготовительная работа. Сессии начнутся с 7/II по 11/II – что для них будут специальные дни по подготовке и т.д.»; далее из резолюции парткома: «IV. Учесть ряд серьезных недостатков в учебно-методических вопросах /учет успеваемости, проведение сессий и пр./ особенно в области: а/ выполнения решений правительства и НКТП о зачетных сессиях. Своевременная подготовка к ним, дача времени для подготовки к ним и установление единой системы...» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 16, лл. 36, 39).
Разумеется, архив МММИ должен был сохранить более подробные обстоятельства той сессии. Но тут мы столкнулись с удивительным фактом. Нет в нем никаких распоряжений Цибарта или кого-либо другого на этот счет: административные распоряжения за 1933-й год в архиве вообще отсутствуют. Но можно было бы рассчитывать на архив парторганизации МММИ – на парткомах все обсуждалось более чем активно. Цитированное выше дело ЦГАМ имеет крайние даты – 16 января – 22 декабря 1933 г. Однако первый документ в деле, лист 1-й, который мы в нем обнаруживаем, датирован не 16-м января, а 28 февраля (в нем утверждение Матиссена секретарем парткома вместо ушедшего Серкина); цитированный протокол заседания Бюро ПК от 1 февраля – с 35-й страницы. Листы дел перенумерованы: номер 1 листа появляется вместо зачеркнутого 63, а лист 2 (зачеркнуто: 78) – пленум парткома МММИ – датирован 28 мая 33 года. (На этом пленуме, в числе прочего, В.В. Балабин говорит о подготовке к сессиям, но злополучная февральская сессия не поминается ни словом.) Таким образом, десятки листов с 16-го января по 1-е февраля, и наверное многие другие из дела изъяты! Пропавшие листы наверняка несли информацию о партийно-административных боях за и против парттысячников, о том, был ли кто-нибудь них отчислен по результатам этой неофициальной февральской сессии или нет, других обстоятельствах. Кем и когда изъяты листы, можно только гадать, но одно кажется самым вероятным: уничтожить пытались именно эту информацию.
Итак, известно о знаменательной февральской 1933 г. сессии, засвидетельствовавшей истинное отношение Цибарта к постановке учебы и к «ценным товарищам», только благодаря Горлинскому. Институтский архив о ней предпочел «забыть». «Ценные товарищи», конечно, не забыли.
Ненависть парттысячников к Цибарту – лучшая его характеристика.
|
За Балабиным, очевидно, была та правда, что серьезная проверка знаний действительно не входила в те условия, на которых парттысячников приглашали во втузы; кроме того, она могла оказаться и опасной. За Цибартом – понятно, та, что в вузе надо учиться. Добавим к этому, что об излишней суровости Цибарта в этой ситуации говорить не приходится. Пострадать от экзаменов для тысячников могли не просто слабые студенты, а те, кто учиться заведомо не мог и желал, причем самая злостная их часть. Во всяком случае, парттысячники в институте отнюдь не исчезли. Для справки. – В МММИ на 1 октября 1931 г. насчитывалось 465 парт- и профтысячников, что составляло 20,7% от общего числа учащихся (Юбилейный сборник, Акимов); в 1933-м году «в передовой шеренге партколлектива МММИ» еще было «200 закаленных парттысячников» (Юбилейный сборник, Зернов). В среднем подготовка тысячников была недопустимо низкой, если не нулевой, об этом уже говорилось выше. Последние «закаленные» тысячники заканчивают МММИ в 1937-м году. Выпускники из тысячников пополняли ряды советских руководителей, а также партийных и профсоюзных активистов самого́ МММИ. Примеры, когда из них выходили серьезные специалисты, нам неизвестны. Другое дело администраторы и государственные деятели: например, директор Коломенского завода с конца 1930-х гг., вскоре нарком тяжелого машиностроения (и далее см. соответствующие справочники), герой соц. труда В.А. Малышев пришел в училище с третьей парттысячей и кончил МММИ в 1934-м году. (К нему в числе прочих «пересидчик» Цибарт предполагает обратиться за помощью в освобождении из лагеря уже после войны – «он у нас учился», – но без особой надежды.) |
Но далее. В цитированной уже статье в «Известиях» А.А. пишет, что среди поступивших в МММИ им. Баумана в 1935-м году лишь 8% членов ВКП(б) (тогда как в 1929/30 уч. г. их было принято 49,7% – см. Юбилейный сборник, Цибарт). Это следствие «омоложения состава поступающих» (а сам термин «омоложение» есть удобное переименование фактически проводимой депролетаризации втузов, завершения эпохи парттысячников и постепенного закрытия рабфаков). А.А. как будто видит в этом проблему, но создавать какие-то преференции при поступлении для партийцев отнюдь не предлагает. Напротив, он ждет того времени, когда «удельный вес молодежи среди студенчества достигнет своей высшей точки и уравновесится в будущем, когда высшая школа начнет принимать без экзаменов успешно закончивших среднюю школу, а студенты прошлых наборов, в частности, парт- и профтысячники, покинут стены института». Думается, пожелание Цибарта принимать школьников во втуз без экзаменов направлено не столько против экзаменов как таковых, сколько отражает протест против времени, когда без экзаменов шли во втузы «закаленные пролетарии». Даже в 1937-м году, когда тысячников в МММИ уже не было и поступавшие с рабфаков сдавали экзамены, три четверти всех «неудов» по учебе получали студенты-коммунисты («Наряду с наличием некоторых успехов в борьбе за авангардную роль коммунистов в учебе. Общее по ин-ту за полугодие неудов. 4,5% коммунисты 3,4%». – Партсобрание 4–13 марта 1937, ЦГАМ ф. П-158, д. 39, л. 12).
Понятно, что среди успевающих в школах уже не может быть обеспечен «правильный» социальный состав, а покинуть стены института предстояло именно «закаленным пролетариям»... Если иметь в виду тот энтузиазм, с которым институтские партийцы в свое время проводили «пролетаризацию» МВТУ – «Втуз был завоеван рабочими окончательно и бесповоротно. И от этой истории завоевания пролетариатом МВТУ, ставшего МММИ им. Баумана, неотделима история борьбы и побед партийной организации института»; «новый студенческий состав отличался от старых кадров училища не только возрастом, но и богатым опытом революционной борьбы и партийной работы» и т.д. и т.п. (юбилейный сборник, П. Зернов) – то легко себе представить, с каким недобрым чувством они встречали преобразования во втузе, во главе которых стоял Цибарт. Это чувство только ждало повода вылиться в действия. В 1937-м году такой повод представится, и реванш институтской клики «закаленных пролетариев» состоится.
В истребованном Горлинским от Зернова донесении в НКВД содержится и такая информация: «существовала и остается в учебных планах линия на игнорирование по существу общественно-политических дисциплин. Это можно видеть хотя бы на двух примерах: а/ на диамат и ленинизм отводится время по 60 ч., б/ директор этими вопросами и постановкой дела политического воспитания по существу не занимается и не занимался» (ЦА ФСБ РФ, АУД Р-24817 т. 2, л. 39). Этот же деятель говорит на партсобрании 4 декабря 1937 г.: «Помните, в 35-36 году, какой был отсев. Ушли из института до 60% коммунистов. И я не думаю, чтобы т. Цибарт мог это об'яснить иначе, кроме того, что это есть факт, который свидетельствует о вредительстве в институте, причем в самом решающем участке»...
|
Автор приведенных разоблачений – «тот самый» Зернов, – один из будущих организаторов «атомного проекта», начальник КБ-11 в Арзамасе-16, почетный гражданин Сарова. Разумеется, его функции в КБ-11 были исключительно административно-хозяйственными – обращаясь к Ю.Б. Харитону, он говорил «ваша наука», – «нашей» назвать ее он не мог. Впрочем, надо сказать, что в качестве администратора он Харитона вполне устраивал. – С другими заслугами генерал-лейтенанта инженерно-танковой службы Зернова можно ознакомиться в любом соответствующем справочнике. Он был в высшей степени признан властью, лауреат Ленинской и двух Сталинских премий, дважды Герой социалистического труда. Его не погубило даже быстрое обрушение построенного во время войны, под его руководством, Керченского моста. Разумеется, решение строить мост принадлежало Сталину, да и ошибку в расчетах совершил не Зернов, поскольку мост возводился из завезенных немцами готовых конструкций, – и все же этот факт удивляет. Можно представить себе, скольких человеческих жертв стоил этот напрасный труд, но это – специфика сталинского способа «взятия крепостей», и Зернов, видимо, был человеком, наилучшим образом приспособленным к этой специфике... В любом случае, какими бы замечательными ни были будущие заслуги Зернова перед государством, это не добавляет веса его претензиям к деятельности Цибарта как директора института: о чисто «партийном» характере этих претензий (от большевистской критики учебных программ до подозрений, что Цибарт внедрял в институт польских шпионов) каждый может судить сам по приведенным здесь текстам. То же можно сказать и о претензиях Ховаха и Головинцева, в разное время руководивших кафедрами в МВТУ, и других его недоброжелателей. |
Все это интересные и, может быть, важнейшие штрихи к портрету А.А. Цибарта как директора, а для нас и главный «нерв» нашего повествования. Его конфликт с партийной командой института, к которой он и сам принадлежал, тем более примечателен, что в коммунистических убеждениях и лояльности власти самого́ А.А. сомневаться не приходится. Судить о настоящей роли Цибарта в его время и в истории МГТУ в целом можно только по плодам – слова, убеждения и, увы, отдельные поступки были правоверно-большевистские. «Есть ли у меня партийные взыскания за 8 лет моего пребывания в институте? Я таких взысканий не помню. Взысканий у меня не было, и отклонений от генеральной линии партии также не было» (см. Партсобрание). Или его краткая формула, не предназначенная для публики: «не шатался» (Дневник). А чего стоит его возмущение К.К. Стриевским (председателем ЦК Союза рабочих тяжёлого машиностроения, кстати, расстрелянным в 1938-м году), – тот упустил в своем выступлении по вопросу о привилегиях отличникам достаточно полно сказать в т.ч. «о большевизме и большев. методах изуч. маркс.-ленин. методологии» (Дневник 29 ноября 1935 г.)! Трудно было оказаться бо́льшим большевиком, чем Стриевский: как вспоминала дочь последнего, «в шкафу [в доме Стриевского] были и буденовка и маузер, подаренный отцу в гражданскую, и золотые часы с дарственной надписью "За подавление кронштадтского мятежа"»... И при всем том живая любовь к науке, о которой мы знаем из личных писем и дневников А.А., да и печатных статей, к родному Техническому училищу и его «знаковым» людям сделали А.А. в партийной среде «чужим среди своих»... Профессиональная состоятельность выпускаемых институтом специалистов – для него главная, сама собою разумеющаяся задача. Безусловно проводя «линию партии», какой бы она ни была (в противном случае нам не пришлось бы рассказывать о директоре Цибарте), но, обладая профессиональной квалификацией, питая настоящую любовь к делу и уважение к ученым, он, при своих выдающихся административных способностях, делает для заведения всегда лучшее из ситуативно возможного.

В столовой МММИ им. Баумана, 1933. Фото с сайта pastvu.com (вероятно, из архива В.Е. Невижина)
«Профессорская столовая» в цокольном этаже, центральная часть здания.
Сцена какой-то вечеринки партийно-хозяйственного актива института. Многие из присутствующих явно не соответствуют привычному облику ученых.
«Старых» профессоров не видно. Вполне узнаваем секретарь парткома в 1931–32 гг. Журавлев, сидят у стены, возможно, Цибарт
и парттысячник профорг Шевцов, в некоторых фигурах можно предположить партийцев
доцента, бывш. анархиста Иоэльсона-Гродзянского (?), аспирантов рабфаковца Шаумяна (?) и бывш. красного партизана Дубасова,
студента-комсомольца В.Е. Невижина
В МММИ им. Баумана и развиваются, и берут истоки многие нынешние научные школы: об этом см., напр., в выпущенной к 175-летию втуза объемной книге биографических очерков «Основатели научных школ Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана». Если наш очерк посвящен, скорее, лишь обстоятельствам, в которых складывалась подлинная история МГТУ того периода, в том числе и ужасающим и неприглядным, то люди этого ряда воплощали саму эту подлинную историю. Сведения о них лучше черпать в специальной литературе, но все же хотелось бы, чтобы имена тех из них, кто работал во втузе времени директорства Цибарта, прозвучали и здесь. Ограничимся самыми краткими и чисто фактологическими цитатами из сборника.
|
Проф. П.К. Худяков работал во втузе с 1877 по 1935 год (год его кончины). В 1928 году – удостоен зания Героя социалистического труда, награжден орденом Трудового Красного Знамени. «Возглавлял кафедры "Прикладная механика" и "Сопротивление материалов".» «Выдающийся педагог, один из организаторов ИМТУ как высшей школы машиностроителей в России.» |
Еще один, случайный пример, взятый с сайта «Кафедра ИУ2 МГТУ им. Н.Э. Баумана "Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации"», интересен в числе прочего тем, что один из упоминаемых в нем ученых, акад. Пилюгин, учился в МММИ в 1930–1935-х годах.
|
«...Становление научной школы "Гироскопические системы" в МГТУ относится лишь к началу 30-х годов, когда конструкции отечественных летательных аппаратов стали настолько совершенными, что стали возможны полеты на дальние расстояния, на больших высотах, в облаках и тумане. Для таких полетов нужны были приборы автономной ориентации и автоматические системы управления, что, в свою очередь привело к необходимости подготовки специалистов по авиационным приборам и системам. Такая подготовка была поручена МВТУ [МММИ] им. Н.Э. Баумана, где в 1933 г. было начато обучение по специальности "Авиационные приборы", а несколько позже (в 1938 г.) организована одноименная кафедра.» «Высокая квалификация преподавателей и фундаментально поставленная подготовка специалистов по авиационным приборам и системам позволили заложить основы научной школы, которую в дальнейшем успешно развивали первые выпускники кафедры, в числе которых были будущие видные ученые и руководители научно-производственных коллективов: Н.А. Пилюгин, Е.Ф. Антипов, Е.В. Ольман, И.А. Михалев, Д.С. Пельпор, Н.П. Никитин и другие.» |
* * *
В связи с темой школ – очень важно для нас прямое упоминание о Цибарте в новейшей литературе по истории МВТУ. Таких упоминаний мало, – не говоря об огромных лакунах в делах канцелярии МММИ, созданных по-видимому тогдашними партдеятелями института, и скрывших от исследователей многие важные факты из жизни МММИ, сама эта фамилия до сих пор будто табуирована; вместо «директор Цибарт» привычно ограничиваются «директор». – Это профессиональная биография О.А. Ерманского, меньшевика, правда удостоившегося поощрения Ленина – специалиста в области научной организации труда (НОТ) и автора самого этого термина. «После очередного ареста в 1931 году и последующего снятия обвинений О.А. Ерманский в декабре 1931 года получил приглашение от А.А. Цибарта – директора МММИ им. Н.Э. Баумана на педагогическую работу в качестве профессора кафедры экономики и организации производства» (см. Фалько). В 1933-м году Ерманский становится заведующим этой кафедры, некоторые его выступления на совете института 1934-го года сохранены в архиве канцелярии МММИ (а в 1937-м арестован, затем освобожден и в 1940-м снова арестован, погиб в лагере в 1941 г.). В 1935-м году А.А. упоминает в дневнике о своем посещении в МММИ «знаменитой лекции» Ерманского (о НОТ). Как видно, политическая скомпрометированность кандидатур на должности в институте А.А. не останавливает.
Меж тем, работая в МММИ, Ерманский осмеливается критиковать (по существу) такое сакральное советское изобретение, как ударничество/соцсоревнование, и подвергается нападкам в партийной печати...
Эта тема только что затрагивалась и затрагивается во многих местах нашего очерка, а здесь только некоторые важные замечания.
До постановления СНК СССР от 13-го января 1934 года авторитетное уведомление «профессор» (как и «доцент») перед именем преподавателя имело совершенно различную цену. Дело в том, что ученых степеней (кандидата и доктора наук), необходимых для получения званий доцента или профессора, при советской власти к тому времени не существовало: эти степени, вместе с защитой соответствующих диссертаций, были отменены после 1917 г. в числе прочих, как это воспринималось тогда, «кастовых различий», так что профессиональная квалификация преподавателей никак не свидетельствовалась научным сообществом. Сами же звания сохранились, «профессорами» и «доцентами» назначала администрация вуза – зачастую профессионально неквалифицированная – исходя при этом, разумеется, отнюдь не только из (как это называлось тогда) «академического признака». Кафедры (в 1930-м году) делились на «профессорские» и «доцентские», т.е руководимые учеными с номинальными званиями не ниже профессорского или доцентского. Остальные преподаватели, о которых чуть ниже – ассистенты (эту должность по кафедрам физики и математики получил в 1936-м году и А.А. Цибарт).
Однако, как бы ни называть их, фактическое различие в профессиональном уровне преподавателей никуда, естественно, не уходило и отражалось в неформальных и понятных всем званиях «старый» (квалифицированный, но «классово чуждый» и обычно «реакционный») и «молодой» («свой, советский») преподаватель, «старый» и «молодой» профессор. Причем «старые» – далеко не только те, кто уже имел соответствующие ученые степени и звания до революции, но и те, кто в прежнее время хотя бы окончил ИМТУ или другой втуз и имел тогда опыт преподавательской или производственной инженерной работы.
Хотелось бы повторить здесь замечание из другой рубрики очерка, что, когда читатель старых газет обнаруживает в них сообщения вроде тех, что профессора вузов и МММИ в частности требуют какого-либо очередного «врага народа» расстрелять, или такого-то преподавателя уволить и т.д., он не должен думать, что к этому обязательно были причастны реальные профессора.
Собственно профессорами самого́ ИМТУ в МММИ 1930–1932 гг. были, кажется, только (уцелевшие после ленинского разгона профессоров ИМТУ и последующих сталинских «дел») засл. профессор ИМТУ П.К. Худяков и (умерший в 1931–м году) А.И. Сидоров (что до А.П. Котельникова, то он до революции был профессором Киевского политехнического института); совместительствовал в МММИ профессор ИМТУ А.А. Отт и, возможно, многие другие. Коренные «бауманцы» И.И. Куколевский, А.Н. Шелест, Л.П. Смирнов, Н.Р. Брилинг, Е.К. Мазинг, В.Е. Цыдзик, Л.Г. Кифер, И.И. Сидорин, Ф.К. Герке, А.С. Бриткин, Л.К. Рамзин, Н.Н. Рубцов, И.М. Беспрозванный, М.А. Саверин, С.П. Сыромятников (список скорее всего неполон) были в ИМТУ преподавателями или только успешно закончили его и работали в профессиональной области. Другие «старые» профессора без степени получили образование и работали не в ИМТУ; например, весьма заметный в истории МММИ Г.А. Осецимский – выпускник Санкт–Петербургского горного института, О.А. Ерманский (в 1931 г. приглашен Цибартом в МММИ) – в свое время видный меньшевик, окончил Политехнический институт в Цюрихе.
Невообразимое с нормальных позиций, официально, открыто и предельно грубо обозначаемое положение «старой профессуры» в тогдашних вузах – это классовый враг, подобный истребляемому тогда «кулачеству» (эта аналогия вполне явно присутствует в партийных дискуссиях, в частности на парткомах в ВММУ). «Старую профессуру» приходится терпеть за неимением возможности без нее обойтись, т.е. ее надлежит, под бдительным присмотром партийцев и в их числе «партийно-пролетарских» студентов, «привлекать к работе» (!), ограничиваясь лишь выборочной травлей и выживанием того или иного ее представителя. Панегирики власти, которыми виднейшие из «старых профессоров» вынуждены периодически разражаться, и даже получаемые некоторыми из них, напр. проф. Худяковым, ордена (а как же!) сути этого отношения не меняют.
С 19 сентября 1932-го года, начала реформы Кржижановского (постановления ЦИК СССР «Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах»), отношение к «старой профессуре» существенно изменяется. Теперь это, в первую очередь, не «классовый враг», даже не «зубры» и «схоластики» (это тогдашние презрительные именования знатоков теоретической стороны инженерного дела), а официально признаваемое «мощное профессорское ядро», которым институту следует гордиться. И то, что бо́льшую часть лучших ученых «оппортунисту»-директору ВММУ/МММИ удалось к этому времени сохранить, вопреки активности институтских фанатичных большевиков – признанная авторами реформы заслуга института (см. Юбилейный сборник, Кржижановский). В конце 1932 – 1933-м годах МММИ им. Баумана всеми силами возвращает «разбазаренный багаж» (выражение аспиранта-преподавателя Жебровского и других) – выдворенных из прежнего МВТУ и уже нового ВММУ/МММИ его «старых» и «реакционных» специалистов. 19 марта 1934-го года в МММИ впервые в Союзе учреждается ученый совет вуза («Совет КрМММИ»), в котором, несмотря на обязательное председательство в нем «красного» директора втуза, именно «старые» беспартийные ученые, главным образом проф. И.И. Куколевский, играют первые роли. Тем не менее различие между «старым» и «молодым» профессором окончательно не стирается и не исчезает из употребляемой лексики. Тлеет и недовольство в радикально-большевистской части институтской партийной среды, раздражение даже самим фактом существования ученого совета КрМММИ (по выражению аспирантов-преподавателей Чутуева и Ховаха, «говорильни»). Это тление в 1937-м году, после ареста нач. ГУУЗа Д.А. Петровского, разразится в пожар, но уже не столько для профессоров, сколько для лучших администраторов, в первую очередь директора втуза Цибарта.
Итак, 13 января 1934 г. возвращаются отмененные после революции «кастовые различия» – ученые степени (кандидата и доктора наук). Крупнейшим старым ученым докторские степени присваиваются без защиты диссертаций. Признанные таким образом, в 1935–1937 гг., доктора технических наук в МММИ – «царские» профессора Худяков и Котельников, профессора МВТУ-МММИ Куколевский, Шелест, Брилинг, Цыдзик, Кифер.
...Путь же «молодого» преподавателя – из «кадров для кадров, готовившихся большевистскими темпами» на смену «старой» (синоним: «реакционной») профессуре – в основном «партийно-пролетарская» аспирантура (подробнее об аспирантуре см. в след. рубрике). Даже после реформы 19 сентября 1932-го года, на 1 января 1934-го, из 59 аспирантов 45 были коммунистами, двое – комсомольцами, остальные 12 беспартийных, несомненно, прошли особо суровый классовый ценз. Важно хорошо представлять себе, что член ВКП(б) 1930-х годов в вузах – далеко не то, что «одомашненный» карьерный партиец шестидесятых – восьмидесятых. Это мог быть и вчерашний чекист, председатель ревтрибунала, чоновец, красный партизан («сменивший шашку на рейсфедер», как выразился автор статьи «На штурме Перекопов науки» в Юбилейном сборнике) – во всяком случае человек, по предыдущей биографии которого невозможно заподозрить наличия в нем каких-либо научных склонностей. С некоторым преувеличением, но к части этих преподавателей приложимо было и такое замечание из сатирической статьи в журнале «За промышленные кадры»: «А у нас примерно существует такого рода вопрос: какое у вас образование? Если нигде не учились, то не преподаете ли?» (Р. Сергеев. Злые заметки. ЗПК 1935, № 2).

Фото из статьи "На штурме Перекопов науки", Юбилейный сборник, 1933.
Ячейка красных партизан и красногвардейцев насчитывала в 1933-м г. 41 человек
Лучшие советские ученые также возникли из этой «партийно-пролетарской» среды – другой не было.
Слишком четко отделить круг «старой» профессуры от «молодой» все-таки невозможно. Например, М.А. Саверин, выпускник ИМТУ 1914-го года, был и «старым» и «своим, советским» профессором; крупнейшие специалисты – проф. А.Н. Шелест, окончивший ИМТУ в 1915-м году, безусловно «старый», тогда как профессор И.М. Беспрозванный, окончивший его в 1911-м, но кандидат в члены ВКП(б) с мая 1932 г., удостаивается однажды поощрительного эпитета от ГУУЗ «молодой».
* * *
О персональных отношениях А.А. с учеными института можно судить, например, по книге о профессоре Алексее Нестеровиче Шелесте (см. П.А. Шелест). Это взаимные уважение, доверительность и общая забота о пользе дела. Скажем, в 1932-м году проф. Шелест независимо от директора – что, казалось бы, по административным понятиям невозможно – ведет переговоры с Орджоникидзе. Речь шла о передаче НКТП тепловозной лаборатории. (Хотя лаборатория тепловозных машин системы Шелеста была создана в 1927-м году именно при МВТУ и располагалась в главном здании МВТУ – МММИ, к 1932 году ее ведомственная принадлежность и перспективы существования оказались неопределенными.) Видимо, имела место комбинация «мнение специалиста – не разобравшийся в сути дела директор – проницательный нарком», и разыграна она блестяще, дело выиграно. Вспоминается замечание А.А. из письма к дочери из лагеря: «Иногда маленькая записка, предварительный разговор может иметь решающее значение»...

В другой раз А.Н. Шелеста «вызывает директор» и показывает ему письмо из Рабоче-крестьянской инспекции, в котором тот полностью оправдан в весьма опасном для него споре (по поводу преимущества тепловозов над политически предпочтительными электровозами), и даже выражена благодарность «за правильную ориентацию» и «услугу государству». Думается, без какой-то активности А.А., состоявшего в это время в районной Контрольной комиссии (эти партийные комиссии были тесно спаяны с Рабкрином), не обошлось и здесь.
Последнее упоминание об А.А. в этой книге о деловых и добрых отношениях Шелеста и Цибарта свидетельствует прямо. «Весной 1936 г. Алексея Нестеровича вызвали к директору МММИ Адольфу Августовичу Цибарту, который предложил ему стать деканом факультета тепловых и гидравлических машин ... "Я так и думал, что вы будете возражать [говорит Цибарт в ответ на сомнения перегруженного работой профессора]. Но у нас нет выхода. Кафедры этого факультета возглавляют маститые ученые, и назначить сюда деканом надо человека, пользующегося авторитетом, за которым бы пошли все остальные. Факультет имеет большие возможности стать одним из лучших". Шелест вынужден был согласиться, но ... попросил назначить ему хорошего заместителя, который бы вел всю текущую работу по деканату. Профессор тепло попрощался с директором, не подозревая о том, что тот вскоре будет арестован»...
Отношения действительно были теплыми – если об этом не забывает упомянуть, спустя десятки лет, сын ученого.
О хороших отношениях Цибарта и Шелеста можно узнать и из совсем непохожего источника – упоминавшейся выше записки Н.Д. Горлинского; оперуполномоченный НКВД предлагает следствию по делу Цибарта присмотреться к доброму десятку сотрудников института, с которыми особенно тесно общался А.А., и главным образом к Шелесту: «сомнительного качества ученый, а может и больше»... (Судить о «качестве» Шелеста как ученого курсант школы ОГПУ, покинувший среднюю школу в возрасте 11 лет, конечно никак не мог, но в партийной среде под «качеством» специалистов разумелась в первую очередь их лояльность. А здесь он, кроме собственных впечатлений, безусловно ориентировался и на недоброжелательное отношение к Шелесту наиболее рьяных институтских партийцев, очень заметное в стенограммах парткомов.)
Все же о какой-то приватной дружбе с А.Н. Шелестом в своих дневниках А.А. не упоминает. Хорошими или по меньшей мере рабочими отношения А.А. как директора были, по-видимому, со всеми «архимедами» – основным составом старых специалистов. Хотя среди тех людей института, кто бывает у А.А. дома и упоминается в его дневниках, имен «архимедов» и не встречается.
Специфику времени полностью отражала ситуация с аспирантурой.
В Положении «О порядке и условиях зачисления в аспиранты и выдвиженцы при втузах ВСНХ СССР» указывалось: «В целях обеспечения социально-классового состава, в аспиранты принимаются в первую очередь члены ВКП(б) и ВЛКСМ и рабочие (в том числе и батраки), колхозники, крестьяне-бедняки. Из числа окончивших втузы преимуществом пользуются студенты-выдвиженцы».
(Упомянутые в Положении «студенты-выдвиженцы» – это студенты рабоче-крестьянского происхождения, и в первую очередь коммунисты и комсомольцы, заранее «выдвигаемые» парторганизацией и администрацией для подготовки в аспирантуру и обучаемые по специальным программам. Необходимость этого института, очевидно, определялась общим курсом ВКП(б) на снижение уровня техобразования, – набирать будущих научных работников из общего потока учащихся было практически невозможно.)
Преимущество, которым согласно Положению пользовались перечисленные категории кандидатов в аспирантуру, было, разумеется, абсолютным. Как выше уже упоминалось, 1 марта 1930 г. в МВТУ было признано необязательным, для зачисления в аспирантуру, наличия у кандидата каких-либо научных работ...
Меж тем, высокие директивы о необходимости научной работы во втузах, о подготовке ими «научных кадров» следуют регулярно. При общей направленности власти на избавление образования от теоретического «балласта» (слово Петровского), это может показаться удивительным. Видимо, пролетарскими должны были стать не только «кадры», – власти грезилась какая-то еще невиданная, особого рода, пролетарская наука, которую и должны были делать пролетарские кадры. С одной стороны, власть полагалась на зарубежный опыт (отсюда практически неисполнимые требования к знанию новыми «кадрами» языков), с другой – на «приближение науки к производству» и «производственное обучение» аспирантов, как и студентов. Наука «должна пойти на заводы и фабрики» (как скажет Орджоникидзе в 1932-м году).
Особая роль этих аспирантов подчеркивается в «Резолюции 1-ой партконферении М.М.М.И. им. Н.Э. Баумана» 21 декабря 1930 г.: «Идеологическое перевооружение профессорско-преподавательского состава на Марксистско-Ленинской основе, а главное подготовка кадров для кадров (аспиранты) из коммунистов и пролетариев, расширение их состава и организация большевистскими темпами их подготовки – должно являться одной из основных забот Парткома, Дирекции и СССР» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 1, л. 23).
Но наука есть наука. Большевистские критерии отбора в аспирантуру вели к тому, что среди аспирантов обычным было отсутствие интереса и способностей именно к научной работе, а среди профессоров – отсутствие заинтересованности в этих аспирантах. Самым естественным применением сил аспирантов в вузе становились партийные, профсоюзные и административные должности.
Это нежелание предполагаемых будущих ученых заниматься научной работой составляло постоянную проблему для администрации. «СЛУШАЛИ: об аспирантах докл. Требелев. / Дискуссия. ЦИБАРТ – Положение аспирантов действительно тяжелое. Основная причина того, что аспиранты не работают – это не нагрузка административной работой, а нежелание [заниматься научной работой]. Неправильный подход был при подборе аспирантов, игнорируем совершенно мнение профессоров. Не учитываем совсем академического признака. Освободить аспирантов от работы пом<ощниками> зав<едующих> спец<иальностями> нельзя, некем их заменить. Создаем лучшие условия для их работы. / ШЕВЯКОВ – работа аспиранта в качестве пом. зав. спец. не мешает его научной работе, это даже имеет свои положительные стороны. Аспиранты не отрываются от училища. Основная причина – нежелание работать научным работником. / ЗЛОТНИКОВ – …профессора плохо встречают аспирантов, они являются беспризорными...» (Заседание Бюро ячейки ВКП/б/ от 10 октября 1930 г. – ЦГАМ Ф. П-158, оп. 1а, д. 3, л. 67).
...«Игнорируем совершенно мнение профессоров, не учитываем совсем академического признака»...
Надежды партии, однако, возлагаются именно на свою «партийно-пролетарскую» аспирантуру. На заседании рабочей пятерки Бюро ячейки МММИ 27 ноября 1930 г. («алмазный большевик» Кривин присутствует, Цибарт – нет), обсуждая «невысокое качество значительной части преподавательского состава», постановляют «отсеять все негодное, сократить таким образом преподав. состав за исключением аспирантов» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 3, л. 98). Если только Кривин не имеет в виду старых преподавателей, то «негодного для преподавания» в то время в вузах было действительно много. Повторим цитату: «А у нас примерно существует такого рода вопрос: – какое у вас образование? Если нигде не учились, то не преподаете ли?» (ЗПК 1935 № 2 /январь/. Р. Сергеев. Злые заметки)...
Примечательно, что не получаются из этих аспирантов (наиболее идеологически выдержанных) и производственники. Получаются, скорее, партийные заводилы. Их роль на заводах выразительно описал молодой аспирант и преподаватель Бауманского, известный в будущем ученый Г.А. Шаумян на партсобрании МММИ 3 февраля 1933-го года (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 16). Речь идет о недавнем времени, когда по указанию Орджоникидзе аспиранты должны были уйти на производство. – «Аспиранты пошли по заводам», и «некоторая часть аспирантуры, к нашему великому сожалению, наши бывшие товарищи, которые были авторитетами, сбились с верного пути. Они глядели кругом – этот работает, тот работает. Они пошли на завод, однако они там не начали работать, понимать машину, но это был для них как бы чуждый элемент, они начали писать в газету, ерундить, заниматься всякой путаницей, а когда конструкторов завода спрашивали об этих ребятах, они позорно о них отзывались. Так говорили о тов. Эдельштейне, который работал на заводе "Красный пролетарий", после его ухода, его фактически выгнали и не пустили на завод. Конструктора старики, которые там работают, сказали, что эти лица не работники – Эдельштейн с Павловым. О Павлове так сказали: "ну, Павлов, если хочет может работать, у него язык не подвижный, а об Эдельштейне прямо сказали, что он работать не может, – "это – говорун"". Это мелочи. Но факты говорят, что эти люди не стали работать на заводе...» (лл. 42об, 43).
Неблагополучие с аспирантурой видят и самые ревностные проводники линии партии, но их рецепты оздоровления ситуации способны только ее ухудшить. Это видно, например, из «Резолюции по докладу т. Злотникова "Очередные задачи аспирантуры" на собрании аспирантов МММИ» от 17 февраля 1931 года (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 7, л. 21). На первом месте остаются обеспечение правильного партийно-классового состава аспирантов, борьба с «профессорской монополией», «внедрение марксистко-ленинской методологии в технические науки» и «выкорчевывание из нее схоластики», и т.д. и т.п. ...
«1. XVI С"езд ВКП/б/ поставил в центре внимания всей партии и рабочего класса задачу усиления систематической борьбы за кадры. |
Столь же тяжелое впечатление, что и доклад т. Злотникова, производят «Итоги и выводы комиссии М[естного]КП(б) по обследованию состояния подготовки аспирантов и выдвиженцев в М.М.М.И.», датированные 11 ноября 1931-го года (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 7, лл. 136-139). Комиссия собиралась «в составе т.т. Гаврюшина, Дзюба, Дыскина, Козлова и Эдельштейна»: некоторое представление о последнем можно составить уже из вышеприведенного пассажа Г.А. Шаумяна, подобную же роль в МММИ играл М. Дыскин, видимо, и другие члены комиссии... «Крайними», похоже, по мнению этой комиссии оказались профессора.
«В эпоху реконструкции, когда техника решает все, подготовка научно-технических кадров является одной из актуальнейших задач социалистического строительства. Подготовка научных кадров МММИ протекает в условиях классовой борьбы с реакционной частью профессуры, сопротивляющейся подготовке научных кадров из рабочих, коммунистов, что проявляется не только в слабом организационно-методическом руководстве, но особенно в нежелании передать учебно-педагогический опыт и знания новым пролетарским научным кадрам. |
Казалось бы, все должно измениться после 19 сентября 1932 года. Из Постановления ЦИК СССР:
«1. Дальнейшее комплектование аспирантуры производить только из числа успешно окончивших высшие учебные заведения по представлению кафедр и советов вузов и втузов.
2. Всю подготовку аспирантуры сосредоточить в наиболее мощных втузах и вузах, прикрепив каждого аспиранта к кафедре, установив для аспирантов систематические научные задания и обеспечив уже в 1933 г. для каждого аспиранта индивидуальный учебно-производственный план работы, введя обязательность сдачи зачетов, а перед окончанием – защиту научной диссертации.
Запретить снятие аспирантов с научной работы и мобилизацию их на различные кампании.
3. Увеличить до 500 руб. в год ассигнование на теоретическое обучение каждого аспиранта.
4. Установить срок учебы аспирантов в пределах от 2 до 3 лет в зависимости от специальности...»
С институтом «выдвиженцев» – студентов, обучающихся по особым программам для поступления в аспирантуру – было покончено. После прощания с «бригадным методом» и пр. в особых программах не было необходимости. Студенты начинают готовиться в аспирантуру за полгода до окончания втуза, согласно проявленным ими способностям и желанию.
Первые аспиранты направляются на стажировку за границу – от МММИ, в составе группы из 4-х человек, это инженеры Э.И. Гофман и В.Я. Камков (ЗПК 1933 № 2–3).
К январю 1934-го года МММИ, как один из «опорных втузов по подготовке аспирантуры», готовил аспирантов по 17 специальностям (см. Бюллетень ВКВТО; впрочем, МЭИ готовит их по 21 специальности). МММИ «будет готовить научную смену по двигателям внутреннего сгорания, паровозам, тепловозам, холодильным машинам, аппаратам и установкам, гидравлическим двигателям и насосам, обработке металлов резанием, текстильным машинам, подъемно-транспортным устройствам, точной механике, литейному производству, кузнечно-штамповочному производству (технология и агрегаты), прокатно-волочильному производству (технология и агрегаты), теории машин и механизмов (прикладная механика), контролю процессов производства и исследованию материалов и полуфабрикатов, сварочному производству (технология и агрегаты), сопротивлению материалов и деталям машин» (ЗПК 1934 № 4 /февраль/).
И однако, по существу в этой области реформа Кржижановского продвинулась мало. Губительная забота ВКП(б) о будущих научных кадрах не ослабла и с Постановлением ЦИК. В результате продолжавшегося обязательного партийно-классового подхода при наборе в аспирантуру, ситуация во многом повторяла ту, что отмечалась на партбюро МММИ еще в 1930-м году. Пусть «академический признак» при наборе в аспирантуру и стал учитываться, но все так же слишком многие из аспирантов не имели интереса к научной работе, а профессора, соответственно, все так же проявляли мало интереса к таким (псевдо) аспирантам. При этом, если в период до 19 сентября 1932-го года аспиранты могли рассчитывать на административную карьеру, то после этой даты от них ожидалась уже в первую очередь научная работа, – трудностей с набором в аспирантуру это не уменьшило. Не исчезла и бытовая неустроенность аспирантов – жизнь «заводских работников той же квалификации» была для них привлекательней. Полагаться оставалось только на административный ресурс, никак не вяжущийся со спецификой научного творчества.
Так, в конце 1933-го года комиссия райкома по партчистке Бауманского описывает ситуацию следующим образом. – «Материальное положение аспирантов вполне удовлетворительное /средний заработок аспиранта – 500 – 600 руб./.» Однако «Партком не сумел, свои правильные по существу решения в подготовке аспирантов, провести в жизнь, обеспечить контроль за их выполнением и создать условия для реализации этих решений. В результате чего, ряд ценных в научном отношении товарищей /Бауман и др./ ушли на производство, порвав с Институтом. Часть осела на административной работе, и только небольшая часть сумела организовать свою научную работу. Как итог, из оставленных в 1929 году 125 человек аспирантов, к моменту партийной чистки в институте осталось только 87 человек»; «Проведя успешно задачу комплектования аспирантуры в части партийного и социального состава, Институт в недостаточной степени привлек к выдвижению в аспирантуру профессорско-преподавательский состав, не использовав в необходимой мере его оценку оставляемых в аспирантуре, чем оттолкнул частично его от процесса подготовки научных кадров и что привело к высокому /23%/ проценту отсева по неуспеваемости»; «Значительное затруднение в овладении техникой представляет явно неудовлетворительное знание иностранных языков большинством аспирантов» (ЦГАМ ф. П-84, оп. 1а, ед. хр. 208, лл. 58, 59, 60).
Разумеется, перечисленные беды в Бауманском – общие для всех вузов. Специфика научной деятельности остается непостижимой для радикального партийного чиновничества и после 19 сентября 1932-го года. Можно сказать безо всякого преувеличения, что ВКП(б) делает все для того, чтобы люди с научным призванием в аспирантуру не попадали, а рождающийся в ком-либо из набранных аспирантов интерес к науке был задушен. Инструменты партии в этом деле – партийно-классовый принцип набора в аспирантуру, при котором «академический признак» так и не стал основным, и сочетающаяся с этим принципом нелепая идея «производственного инженера» («как если бы существовал другой какой-то инженер, не производственный» – Луначарский). Последнее означало попросту обязательную работу аспирантов на производстве.
Эта ситуация вполне определенно обрисована в статье проф. А. Дыховичного в журнале ВАРНИТСО и СНР «Фронт науки и техники» (1934, № 1, «К вопросам подготовки аспирантуры»). Статья написана по материалам совещания областных секций научных работников (СНР). Упоминаются в ней и последнее место «академического признака» при наборе в аспирантуру, и опасения ученых, что аспиранты, отвлекаемые на годы для работы у станка, «забудут то, что знали, потеряют вкус к научно-исследовательской работе». Эти опасения, конечно же, совещанием «со всей решительностью отметаются как в корне неправильные», – решительность проистекала из директив партии, все еще преследовавшей сталинский мираж особого советского инженера, «наживавшего» бы знания «не от книжки», – но они названы, и такие слова, как «вкус к научной работе», ощущаются в той безвоздушной среде, в которую погружается современный читатель, как глоток кислорода... И кое-какие лазейки для сохранения аспирантами возможности научной работы предлагаются.
«Созванное в конце ноября 1933 г. совещание ряда областных секций научных работников при ЦБ подитожило собранные секциями на местах материалы, характеризующие состояние подготовки аспирантуры. ... |
В 1934-м году положение, если и улучшается, то незначительно. Как пишет «Высшая техническая школа» (1934 № 1, проф. А.М. Беркенгейм), «Плохо обстоит дело с аспирантурой. Прежде всего необходимо подчеркнуть, что институт аспирантов до сих пор еще чрезвычайно разнороден по уровню подготовленности, по способности вести эту работу. ВКВТО [Всесоюзный комитет по высшему техническому образованию] уже обратил на это дело серьезное внимание, и по его инициативе проведена проверка всех аспирантов, в результате которой немало было удалено из аспирантуры». Согласно результатам обследования ВКВТО «на 1 сентября 1934 г. в МММИ числилось 59 аспирантов, из них членов ВКП(б) – 45 чел., членов ВЛКСМ – 2 чел. и беспартийных 12 чел.; работающих на производстве кандидатов в аспиранты в МММИ не имеется». «Материально-бытовое обслуживание аспирантов МММИ плохое. Особенно тяжелы жилищные условия»; так, аспирант Соляник говорит: «...я живу в 1-м общежитии в комнате площадью 20 кв. м, где кроме меня живут еще два аспиранта и жена одного из них». Условия «значительно худшие, чем у заводских работников той же квалификации», и они «ведут к довольно значительному уходу из аспирантуры» – в среднем 15% в год (ЗПК 1935 № 3 /февраль/).
В 1935-м году большевистская идея обучения на заводах, «окунуть ученых в реальную жизнь», своих позиций не сдает. С ситуацией прошлого года в МММИ, когда кандидатов в аспирантуру, работающих на производстве, не имелось, должно быть покончено. «В директивном письме по поводу организации нового приема в аспирантуру [нач. ГУУЗ НКТП] т. Петровский писал директорам втузов в феврале 1935 г., что не меньше 40–50% в новом приеме должны составлять товарищи, работающие или уже успешно проработавшие 2–3 года на производстве...» Естественно, что «контрольная цифра не выполнена ни МММИ ни МЭИ». «Набор в аспирантуру с производства действительно представляет некоторые трудности», признает автор цитируемой статьи (ЗПК 1935 № 14 /июль/, Л. Трейвас). Но ведь и оставшаяся половина кандидатов не могла набираться строго по их способностям, призванию к научной работе, начатым исследованиям. Отсюда «...характерно, что набор кандидатов, который, при наличии прекрасного во всех отношениях кадра среди оканчивающих МЭИ и МММИ, не представляет никакого затруднения, тем не менее далеко не выполнен ни в том, ни в другом институте». Очевидно, что профессорам слишком трудно было удовлетворяться не теми кандидатами в аспиранты, с которыми они считали бы перспективным работать: «отдельные кафедры [в МММИ] вовсе не выдвинули аспирантов, да и не искали их. Так, по непонятным [слишком понятным?] соображениям не хотят выделять аспирантов кафедра гидромашин (проф. Куколевский) и кафедра холодильных машин (проф. Цидзик [Цыдзик]) в МММИ». Требуется вмешательство администрации: «директор МММИ тов. Цыбарт [так в тесте] обещает, что по этим кафедрам будет выделено по 1 аспиранту, 1 кандидат по гидравл. машинам и 2 по холодильным машинам»...
Профессора МММИ, начавшие преподавать во втузе уже при советской власти, справляются с ситуацией лучше «царских» профессоров. В журнале «За промышленные кадры» констатируют (ЗПК 1934 № 8 /апрель, Г. Беляков/): «Старейший втуз, – он имеет в своем составе десятки высококвалифицированных виднейших профессоров. Некоторые из них имеют всесоюзное и европейское имя. И однако лучшее качество подготовки аспирантуры мы имеем не на тех кафедрах МММИ, которые возглавляются наиболее именитыми профессорами, а там, где руководит молодая профессура (например проф. Беспрозванный)»; также в этом контексте Беляков упоминает проф. Тихомирова.
1936-й год – примерно те же проблемы, что и раньше: административная и хозяйственная работа аспирантов вместо научной, совмещение учебных занятий с работой на заводах, конечно, недостаток средств. Ситуация довольно подробно описана в статье В. Белугина «Аспиранты и их подготовка (на примере КМММИ)» (ЗПК 1936 № 13 /сентябрь/).
«В текущем году комиссия ГУУЗ НКТП проверяла состояние аспирантуры при КМММИ им. Баумана.» |
Основной состав профкома, комитета ВЛКСМ и парткома, администрации МММИ в 1937-м году (и, конечно, далее) – все те же «партийно-пролетарские» аспиранты.
В 1937-м году широко известные в будущем аспиранты Бауманского П.М. Зернов и М.С. Ховах делают научные сообщения на Научно-технической конференции МММИ. Теперь от амбициозного работника требуется профессиональная квалификация. Но не приходится думать, что они тяготели к профессиональному, а не идейному флангу аспирантуры. Активные сторонники, в финальном для директорства Цибарта году, исключения Цибарта из ВКП(б) и изгнания его из втуза, – они продвигают на его место отнюдь не какого-нибудь крупного специалиста (как, кстати, должно было быть после постановления СНК и ЦК ВКП/б/ 23 июня 1936 года), а парторга МММИ 1931-го года М.Г. Кривина, успешно выживавшего в том году из института «старую профессуру». Даже если считать «законченное высшее» парттысячника реальным, – ни на научном, ни на производственном поприще член ЦК Совконтроля Кривин никогда не подвизался...
* * *
Несомненно, что ситуация с аспирантурой в МММИ не была худшей, чем в других втузах Союза: ее пороки определялись общими тогдашними установками.
И в любом случае – если не для «статистических», то для наиболее устремленных учащихся с настоящим призванием к научной работе все эти условия (кроме конечно классового ценза) оказывались в конце концов преодолимы. В доказательство можно сослаться на замечательное количество выдающихся ученых, воспитанных в тот период в Бауманском. Перечислять их здесь нет смысла.
Атмосфера настоящего дела порождает и своих настоящих людей, даже из самой благонадежной с точки зрения ВКП(б) среды. Потрясает и вдохновляет тот факт, что восстание в 1933-м году против «линии на выживание старой профессуры из института», проводимой в т.ч. «партийно-пролетарской аспирантурой», было начато также аспирантами, и со столь же идеально безупречными партийно-классовыми анкетными данными: это Г.А. Шаумян, К.И. Жебровский, М.Н. Ларин, И.С. Веремейчук, П.С. Сельдяков, М.П. Кружилин, И.И. Ененко, [?] Рабинович [Равикович – ?] и, как засвидетельствовал тогда парторг И.А. Серкин, «целый ряд других товарищей». (Подробно об этом восстании см. в рубрике «Первый год реформ в Бауманском: 19 сентября 1932 года – 1933 гг.».)
Вопросы же, скольких еще ученых страна недосчиталась, и какого научного уровня не достигла, будем считать праздными, «сослагательного наклонения история не знает».
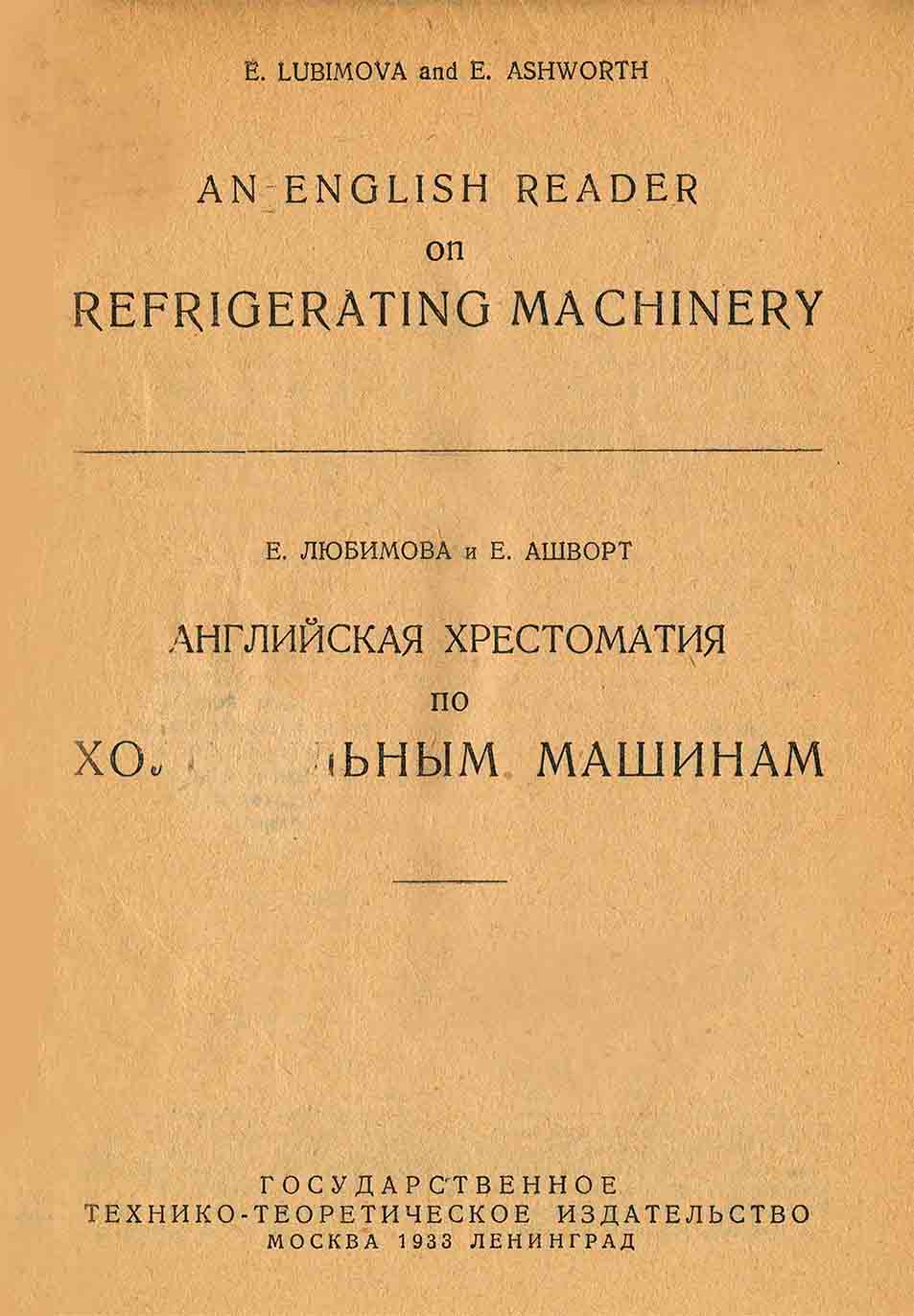
Возлагая, в деле «индустриализации», особые надежды на заграничный опыт, еще на июльском пленуме 1928 г. партия поставила задачу «сделать для студентов втузов обязательным знание по крайней мере одного из иностранных языков». Имея в виду контингент учащихся во втузах, также предопределенный партией (на 70% то должны были стать, и стали, идеологически выдержанные «пролетарии», не имевшие минимально необходимой довузовской подготовки), задача была практически невыполнимой. И все же, конечно, преподаватели делали свое дело.
Кажется, предмет особых забот нового директора – иностранные языки.
В МВТУ существовал кабинет иностранных языков; в феврале 1930-го года, ввиду предстоящего раздробления МВТУ, преподавание языков «децентрализуется» и препоручается деканатам – будущим втузам. С этого времени на механическом факультете, ставшем 20 марта 1930 г. ВММУ, действует кафедра иностранных языков, заведующий кафедрой Э.Ф. Фрей (преподаватель немецкого языка), позже (о чем 3.03.1932 упоминается в приказе Цибарта) ей руководит преподаватель (немецкого языка) доц. Е.Р. [Евдокия Робертовна] Юргенсон (см. ЦГАМ, ф. Р-1992, оп. 4 д. 1 л. 16, д. 6 л. 90; сайт МГТУ; Адресно-справочная книга «Вся Москва» в т.ч. за 1936 г.; Справочник для поступающих в МММИ, 1937 г.).
Как и в других вузах, в МММИ существовали группы для тех студентов, кому приходилось начинать изучение языка с нуля (эти занятия, по немецкому языку, посещала и супруга А.А.)...
Кафедра имела два отделения – немецкое и английское. Обязательным было изучение одного из этих языков (в ИМТУ – двух). Французский язык в некоторых втузах того времени преподавался как факультативный, в объеме, достаточном для чтения специальной литературы со словарем. Но, хотя сам Цибарт знал французский и интересовался французской инженерной школой (см. Автобиография; Заметки директора), о работе такого факультатива в МММИ у нас сведений пока нет.
Задача кафедры, очевидно, слишком трудна. 13 января 1932 г. партком МММИ принимает резолюцию «О состоянии преподавания иностранных языков в МММИ» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 11, л. 37). «...За истекшие три года после решения [ноябрьского 1929 г.] Пленума Ц.К. обеспечен охват всего студенчества изучением иностранного языка /немецким, или английским/, среди значительной части студенчества имеется сдвиг в сторону освоения их» – констатирует партком – однако «...установка на внедрение "пассивного знания языка", практика выпуска студентов не сдавших зачетов по языку» и пр. дают в итоге «крайне низкие результаты изучения языков...». Мешают, в числе прочего, и длительные отлучки студентов на «напрерывное производственное обучение» – отмечается «отсутствие каких-бы то ни было мероприятий по линии организации работы со студенчеством по изучению языка во время пребывания на НПО».
Интенсифицируется в это время изучение английского.
В частности, а может быть и в особенности этого требовала специальность «холодильное машиностроение». – В 1933-м году под редакцией доц. Е.Б. Иоэльсона институт выпускает английскую хрестоматию по холодильным машинам. В предисловии к Хрестоматии Цибарт вспоминает втузовские инициативы первого года существования МММИ (см.): «Группа студентов сентябрьского набора 1930 г. холодильной специальности, зная, что для холодильщиков узловым вопросом в данный момент является овладение техникой американского холодильного машиностроения, что вопрос об освобождении нас от отсталых конструкций германских компрессоров, ведущих к перерасходу энергии, металла и строительных материалов, является политическим вопросом, связанным с преодолением сопротивления рутинеров, бюрократов и классовых врагов, выдвинула в порядке встречного плана предложение о замене предусмотренного в учебном плане немецкого языка английским, не считаясь с добавочными трудностями (немецкий язык был части студентов уже знаком, проходить его было бы легко)». «...Как бы ни был хорош учебник, как бы ни старался преподаватель, иностранные языки не могут быть изучены без того, чтоб учащийся уделил этому весьма большое время, и притом регулярно. В этом отношении следует рекомендовать вниманию втузов интересный опыт ... сентябрьского набора 1930 г. холодильной специализации МММИ, которая ввела перед официальными занятиями, начинающимися в 8 ч. утра, добровольное групповое занятие с 7 ч. 40 м. до 8 ч. по английскому языку...».
В 1934-м году на изучение иностранного во втузах с 5-летним сроком обучения отводилось 200–220 часов в учебный год (1934 № 9). Однако «нулевые» группы еще существовали («придя во втуз из рабфака [где язык преподавался], студент в большинстве случаев попадает в группу, где ряд лиц не изучал ранее иноязыки» – см. ЗПК 1934 № 9), а «дирекции втузов, признавая "теоретически" значение иноязыков, но выросшие на сознании, что "втуз все равно языку не научит", практически этому вопросу уделяют мало внимания» (ЗПК 1934 № 11). «Средняя школа, хотя прием 1934 г. и дал лучшие показатели по сравнению с прошлыми годами, еще не уделяет должного внимания вопросам преподавания иностранных языков. Это крайне вредно отражается на изучении иностранных языков во втузах и техникумах»; «Сильно мешает делу изучения иностранного языка отсутствие стабильных учебников иностранного языка» – таким оставалось положение и в 1935-м году (ЗПК 1935 № 15 /август/, ВТШ 1935 № 6, и др.).
Меж тем, еще в постановлении ВКВТО от 13 апреля 1934 г. (§ 8 п. а) говорилось: «...для первых двух лет обучения во втузах должен быть создан общий, а не специализированный учебник, для третьего же и четвертого года выпускаются учебные пособия (хрестоматия), ориентируемые на следующий тип вузов: индустриальный, транспортный, сельскохозяйственный и экономический»...
Таким образом, по меньшей мере до 1934–1935 гг. кафедры иностранных языков во втузах еще не могли работать полноценно. Об этом прямо говорят во Всесоюзном комитете по высшему техническому образованию: «... ВКВТО признано целесообразным учреждение в нескольких опорных втузах в опытном порядке к а ф е д р п о и н о с т р а н н ы м я з ы к а м. На первый взгляд это мероприятие может показаться непонятным, так как "кафедры" уже существуют во втузах и вузах. Но здесь имеются в виду кафедры, пользующиеся теми же правами и несущие ту же ответственность, как и кафедры по другим дисциплинам. Это решение, нужно сказать, затрагивает одно из самых больных мест в преподавании языков – их "особое" (в неблагоприятном для них смысле) положение в общем учебном плане» (ВТШ 1934 № 1 /октябрь/, В. Эльманович, Преподавание иностранных языков). В Бауманском, как опорном втузе, это решение, конечно, было проведено.
Лишь с начала 1935-го года иностранный язык во втузах включается в зачетные сессии.
«Несомненно важно и решение, согласно которому, начиная с 1936/37 учебного года, при поступлении во втузы и вузы должны быть введены испытания по иностранным языкам» (ВТШ 1934 № 1). Однако приемный экзамен по иностранному языку в Бауманском (как и во всех втузах) ввели только в 1937-м году (см. Справочник для поступающих...).
Требования Комитета к знанию языков после окончания курса нельзя назвать завышенными: «ВКВТО дана определенная установка, согласно которой целью преподавания иностранных языков во втузах и вузах системы ВКВТО является: 1) научить студента читать и понимать главным образом научно-специальную литературу с минимальной помощью словаря и 2) создать у студента достаточный базис для дальнейшего практического усвоения разговорного языка». Между умением читать на иностранном и умением на нем говорить существует пропасть: «в настоящее время по окончании курса студентам отрезана всякая возможность пользоваться изучаемым языком при сношениях с иностранцами» (там же). Эта проблема обсуждается и далее: «Проблема устной речи остается неразрешенной задачей в наших высших учебных заведениях. Раздаются даже голоса, что научить говорить школа не может и не стоит делать бесполезных попыток. С другой стороны, остается правильным положение, что без уменья говорить вообще нельзя знать удовлетворительно иностранного языка» (ВТШ 1936 № 4, А.Н. Одарченко, Проблема устной речи на иностранном языке).
Ситуация была уникальной: с одной стороны, втузы наполнялись учащимися, вовсе не изучавшими языки ранее (в то время как освоение чужого языка бывает по-настоящему эффективным лишь с первых лет жизни, «втуз все равно языку не научит»), – с другой, партия рассчитывала на заимствование зарубежных технических достижений. (Ставшая оголтелой борьба с «низкопоклонством перед Западом», которой лучше запомнится партия, начнется позже.) «Интересно отметить, – говорится в выпущенной к 175-летнему юбилею МГТУ им. Баумана книге (см. Федоров, Павлихин), – что в эти [1930-е] годы в учебном процессе МММИ им. Н.Э. Баумана были широко представлены достижения зарубежных стран по соответствующим отраслям. Практически во всех учебных лабораториях имелись иллюстративные материалы по новейшим зарубежным разработкам. Кроме того, в каждом дипломном проекте был небольшой раздел, посвященный иностранной технике по тематике выполняемой работы...» – Из Постановления президиума Комитета по ВТО при ЦИК СССР: «При даче заданий по дипломному проектированию (работам) указывать необходимую иностранную литературу, обеспечив реальную возможность получения таковой, и, начиная с 1935 г., при защите дипломных проектов (работ) производить проверку того, в какой степени студент овладел этой литературой» (ЗПК 1934 № 9 /май/)...
Эпизод борьбы в МММИ за иностранные языки в это время – в очерке заведующей кафедрой Е. Юргенсон «Вечер иностранных языков» (ЗПК 1935, № 7 /апрель/, сс. 58–59). Этот примечательный вечер, организованный деканатом общетехнического факультета и кафедрой иностранных языков МММИ, состоялся в конце декабря 1934-го года. О вероятном участии в нем Цибарта в очерке нет ни слова – видимо, в редакции или в самом институте побоялись привлекать внимание к его польско-немецкому происхождению. – Результатом вечера было, в числе прочего, создание шести разговорных кружков в МММИ, «кадров инкоров», немецко- и англоязычного хоров, издание бюллетеней на иностранных языках...
«Было все: и инструктор, и аккомпаниатор, и помещение, и ориентировочная программа... Комсомольцы дружно взялись за работу, и все зашевелилось и ожило. Репетиции стали посещаться дружно, хор увеличился до 60 чел., прибавились индивидуальные номера и сорганизовался веселый и интересный комсомольский джаз. «Студенты, принимавшие участие в постановке, за небольшим исключением, ранее не умели сказать двух слов, так как учились языку всего 60 час. Но благодаря фонетической тренировке на репетициях, благодаря специальной работе, проведенной и инструктором т. Эйфеленом и групповым преподавателем, у них налицо заметный сдвиг в области произношения и приобретения разговорных навыков. «Студент IV семестра т. Кицкий вынес на себе львиную долю работы, не жалея ни сил ни времени ...» «Студенческая самодеятельность была так разнообразна и обширна, что, к сожалению, не удалось дать все номера из-за позднего времени. Но эти номера не пропадут, мы их дадим в выпускной вечер факультета 29 апреля. Из другой статьи в ЗПК (Либерман, 1935 № 12 /июнь/): «...Деканат общетехнического факультета в нескольких группах начал практиковать задания студентам на немецком языке. В группах 302, 311, 401 и др. преподаватели теоретической механики одну из задач, даваемых студенту на дом, диктуют на немецком языке. На следующем занятии все выступления, реплики, вопросы, ответы у доски, относящиеся к этой задаче, также ведутся только по-немецки. |
23 марта 1935 г. в «Комсомольской правде» упоминают, в числе прочего, о иноязыках в Бауманском: «В Московском механико-машиностроительном институте на старших семестрах кафедры организуют кружки по переводу иностранной литературы. Один из таких кружков при кафедре сварочного производства уже подготовил перевод по контактной сварке. Этот сборник составили 12 студентов из переводов с английского и немецкого языков. Такие же кружки работают сейчас над сборниками по сварным конструкциям и по газосварке. / Всего из 120 студентов, которых обслуживает кафедра сварочного производства, 35 студентов вовлечены в кружки по переводу иностранной литературы». В 1936-м году ОНТИ выпускает сборник зарубежных статей по сварным конструкциям: «Переводы статей, вошедших в настоящий сборник, и подготовка их к печати осуществлены группой комсомольцев студентов факультета сварочного производства КМММИ им. Баумана. Группой руководил студент Мадатов, а в составе ее были товарищи: Анисимов, Бродский, Гнесин, Дворецкий, Лапицкая, Рожкова и Спектор. Вся работа этой группы проделана не в плане выполнения учебных занятий, а без чьих-либо указок и понуждений, в порядке развития и укрепления научной студенческой самодеятельности» (ЗПК 1936 № 11–12).
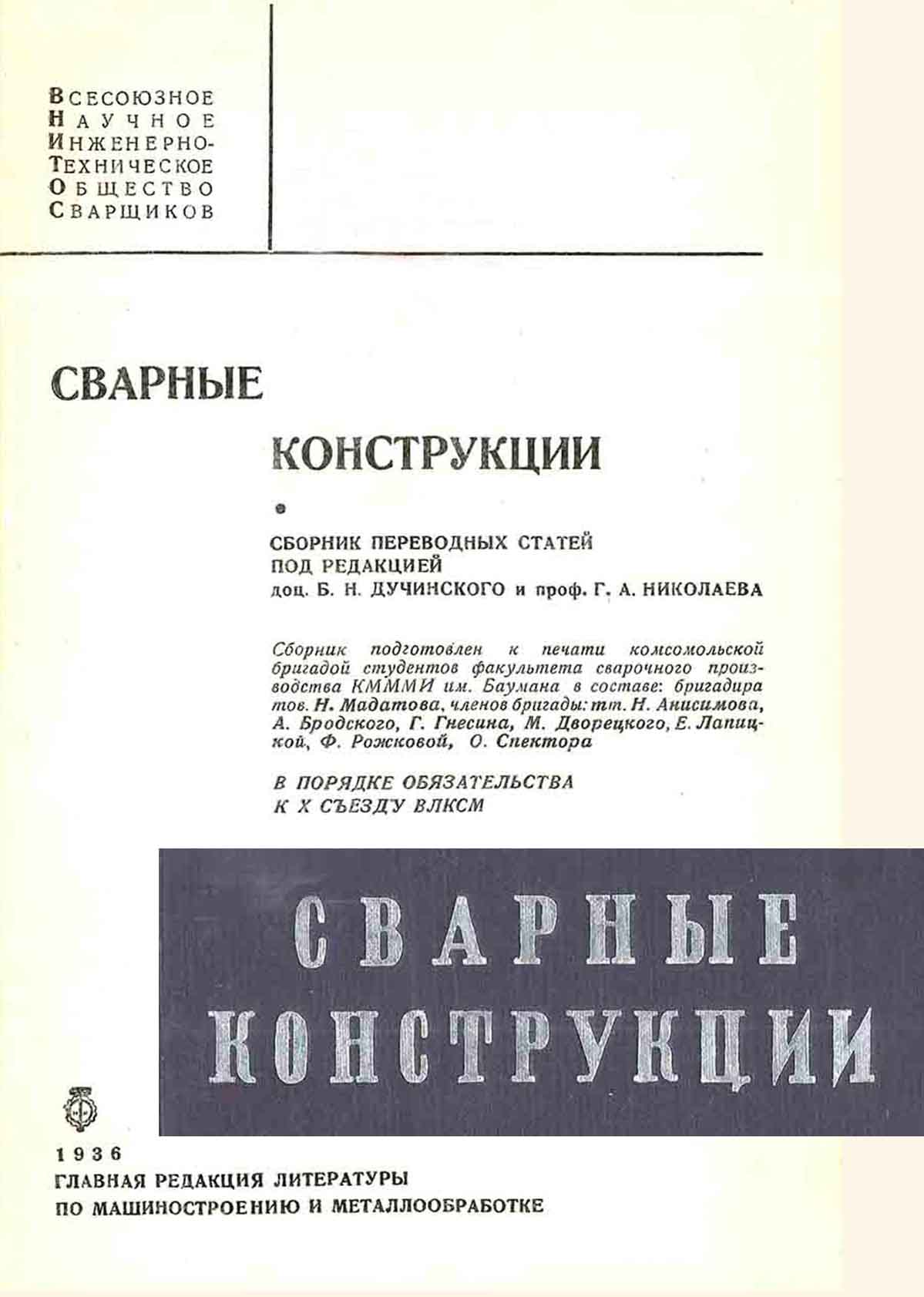
Видимо, начиная с поворотного 1932/33 учебного года в МММИ действуют студенческие научно-исследовательские кружки – или «группы содействия» кафедрам института. Теме кружков посвящена статья во «Фронте науки и техники» (ФНТ № 1936 № 1, М. Соломонов, Опыт работы студенческих научно-исследовательских кружков /в МГУ и МММИ им. Баумана/). Такие группы в МММИ существуют при кафедрах – сварочного производства (о ее работе, тесно связанной с кафедрой иностранных языков, уже кое-что сказано в предыдущей рубрике), двигателей внутреннего сгорания, термодинамики, холодильного машиностроения, паровозов, гидравлики; большую работу делает «межгрупповой» кружок по реактивным двигателям, есть и другие подобные кружки. Как отмечает автор статьи, число студентов, входящих в научные кружки, к 1935-му году, до запуска «стахановского движения», было сравнительно невелико (думается, столько, сколько их и должно быть при отсутствии специальных кампаний); «в организации групп содействия и других видов научно-исследовательских кружков обязаны принять более активное участие кафедры, методический кабинет и дирекция института».
«В Московском механико-машиностроительном институте им. Баумана работает сеть студенческих научных кружков, называемых здесь "группами содействия" при кафедрах. Цель этих групп – с одной стороны, повышение технического образования студентов, достижение ими уровня инженерной квалификации, развитие способности к самостоятельным техническим изысканиям, к наиболее рациональным методам работы, к изобретательству и, с другой, оказание всемерной помощи кафедрам и заводам, с которым данная кафедра наиболее связана. |
Физкультура и спорт – объект постоянного внимания в СССР и во втузах наркомтяжпрома в частности; по журналу Главного управления учебными заведениями НКТП «За промышленные кадры» можно проследить за этой темой гораздо детальнее, чем это сделаем здесь мы.
О рождении кафедры физкультуры в Бауманском, точнее еще в ВММУ, уже говорилось выше (в рубрике «1930 – 1932: прежним курсом...»): проект приказа Цибарта по ВММУ «О введении предмета физической культуры в учебный план высшего механико-машиностроительного училища» «на основании постановления Правительства от 19/VII-1929 г. и директив ЦК ВКП/б/» подготовлен Цибартом еще за неделю до создания самого́ ВММУ! (ЦГАМ ф. 1992, оп. 4, д. 2, л. 1.)
Физические упражнения, говорится в обосновании приказа, «не только не являются фактором, влияющим на утомляемость студента, а наоборот, устраняющим утомляемость, появляющуюся в процессе академических занятий».
18/XII-1930 г. Цибарт издает сам приказ – о введении в учебный план занятий по физкультуре на 1-м и 2-м годах обучения (л. 92).
Занятия в Бауманском будут проводиться на физкультурной площадке у Яузы (на месте нынешнего основного корпуса МГТУ), по два часа в неделю. В 1931-м году «учебный день состоит из 8 академических часов с перерывом на обед и физкультурного часа». Цибарт интересуется у студентов, не утомляет ли их физкультура, и получает ответ – нет.
Зимой 1934-го года в МММИ учреждается постоянная спортивная школа. Она «состоит из классов с основными и подготовительными группами по следующим видам спорта: 1) спортивно-атлетическая гимнастика; 2) спортивные игры с группами – волейбол, баскетбол, футбол, ручной мяч, теннис, хоккей, безбол [так], 3) легкая атлетика, 4) водный спорт – плавание, гребля на академических судах, 5) тяжелая атлетика – бокс, поднятие тяжестей, 6) владение тяжелым оружием – рапира, эспадрон, 7) лыжный спорт – равнинный, горный, 8) класс танца – национально-народные танцы, ритмопластические танцы, европейские танцы, массовые народные танцы. / В основные группы спортивной школы принимаются студенты, полностью сдавшие нормы ГТО 1-й ступени» (ЗПК 1934 № 10 /май/).

Проводится физкультурная конференция (конкретных сведений о ней пока не найдено).
7 июля 1934 года – зрелищное и важное событие. «На стадионе Автозавода им. Сталина открылась первая Всесоюзная спартакиада втузов тяжелой промышленности. На зеленом квадрате футбольного поля выстроились студенты-физкультурники 24 втузов Наркомтяжпрома. Тт. Горшенин (ЦК ВЛКСМ), Аболин (ВЦСПС), Григорьев (Высший совет физической культуры), Петровский (начальник Главного управления учебными заведениями НКТП) и другие обходят колонну физкультурников, приветствуя участников спартакиады. Короткий митинг. Товарищ Петровский объявляет спартакиаду открытой...» (Правда от 8 июля 1934 г.). Спартакиаду почтил своим присутствием и Орджоникидзе: он с Петровским и Косаревым (секретарем ЦК ВЛКСМ) запечатлен на фотографиях на трибуне стадиона.
В следующем году издается книга, иллюстрированный сборник статей разных авторов – «Всесоюзная спартакиада втузов тяжелой промышленности». Вступительная статья Д.А. Петровского – «Новое поколение». «И пролетиариат красной столицы радостно встретил спортсменов-студентов, прибывших со всех концов великой советской страны, чтобы показать свое мастерство в физической культуре, в спорте. Особенно любовно глядели на спортивную студенческую молодежь старые рабочие. Они воочию видели, какие богатырские кадры выращивает пролетарская власть, – единственная власть в мире, способная обеспечить гармоническое воспитание молодого поколения. В странах фашизма ведется бешеная борьбы против науки, против техники. По образному выражению Ильи Эренбурга, в германской высшей школе высшая математика заменяется высшей шагистикой. Вождь германского фашизма Адольф Гитлер откровенно противопоставляет физически здорового человека умственно развитому человеку. А в стране Советов идет развернутая борьба за науку и технику. И эта борьба ведется на основе всестороннего развития физических и умственных способностей подрастающего поколения. И когда мы смотрели на здоровых студентов-спортсменов, перед нашими глазами невольно вставал тот "истасканный, истеричный хлюпик", называемый русским интеллигентом, о котором писал Владимир Ильич Ленин. Какая пропасть между крепкими, жизнерадостными сыновьями и дочерьми советской страны и теми "Обломовыми", которых мы знали в былые годы!» (От аполитичной оценки Цибартом физкультуры как «фактора, устраняющего утомляемость, появляющуюся в процессе академических занятий» автор далек совершенно. Физическая сила возводится в ранг идеологии, она нужна советскому студенту как таковому.) «...Бодрую молодежь мы видели на студенческой спартакиаде, среди участников которой не было места ни внукам Онегина, ни племянникам дяди Вани...»
Видимо, только что открытая в МММИ спортивная школа еще не дала своих результатов. Со спартакиадой у Бауманского чуть было не вышла большая неудача. «К сожалению, необходимо, однако, констатировать, что борьба за физическую культуру еще не стала массовой. В этой области мы наблюдаем определенное отставание руководства втузов, которое особенно резко выступило в стенах МММИ. Этот мощный институт не смог обеспечить себе в московских состязаниях право на участие в спартакиаде. Это право ему было предоставлено с учетом его серьезных научно-учебных достижений. Оказалось, что достаточно было институту немного налечь на физкультуру, чтобы его студенты заняли 5 место во всесоюзных состязаниях» (Петровский, Втузы...). Итак, приличное 5-е место. Награды победителям: за победу в многоборье – «КМММИ – всем участникам команды по готовальне и счетной линейке»; в беге на 100 и 1000 м – Логинов (КМММИ) – полевая сумка и грамота.
Чиновники от Высшего совета физической культуры предлагают сделать физкультуру одним из важнейших предметов в вузах...
Обязательность норм ГТО означает, что и прекрасно успевающий по профильным предметам студент может быть, в случаен их несдачи, отчислен. Нам достоверно известны случаи (правда, самые ранние из них относятся к концу 1940-х годов), когда вполне здоровые студенты МАрхИ не могли сдать некоторых норм ГТО, и это вело к тяжелым травмам и даже инвалидностям. А по слухам 1970-х, в МВТУ кого-то и исключали. |
В 1936-м году проходит Зимняя спартакиада, совмещенная с прочими мероприятиями зимних каникул. «...Лыжный поход КМММИ тематически весьма интересен. Это – поход по черте Новой Москвы, будущей Большой Москвы. Маршрут выбран чрезвычайно удачно и с общественной, и с физкультурной стороны. Второй большой лыжный поход – Подольск – Москва. Во время этого похода проводилась сдача норм ГТО 2-й ступени...» «В общежитиях же ... организована массовая сдача норм на ворошиловского стрелка, широко развернута лыжная, конькобежная работа, волейбол, баскетбол» (Ю. Владимиров /Варлам Шаламов/. Зимние каникулы 1936 г. ЗПК 1936 № 3).

В Бауманском – замечательная шахматная команда. «Шахматная команда КМММИ приехала в гости к шахматистам ЛИИ. Товарищескую встречу шахматисты ЛИИ, несмотря на наличие в их команде трех игроков 1-й категории, проиграли со счетом 9:11. / ЛИИ несколько реваншироваться удалось лишь в блитц-турнире, в котором приняли участие 7 москвичей и 4 ленинградца, причем ленинградцы заняли 3 места из 6 первых. / Вот результаты турнира: 1-е место – т. Змеев (ЛИИ), 2-е – т. Лебедев (МММИ), 3-е и 4-е – т. Калинин (ЛИИ) и т. Касинский (МММИ), 5-е т. Скибневский (ЛИИ) и 6-е т. Строганов (МММИ)» (ЗПК 1936 № 5 /апрель/). Сыграть с командой Ленинградского индустриального института было особенно интересно: аспирант ЛИИ в это время – Михаил Ботвинник (ему посвящает статьи в ЗПК В. Шаламов).
«Создав первую ударную группу с сокращенным на пол года сроком обучения,
группа состоя в основном из парттысячников, получивших подготовку лишь на курсах подготовки и 4-х рабфаковцев – вечерников,
сумела развернуть борьбу за темпы и качество учебы...»
МММИ Приказ № 377 20/VI–31, директор Цибарт
«...Профессура и преподаватели, спаянные со студенчеством в один мощный коллектив, дрались за высшую награду в соревновании –
Красное знамя ЦИК СССР, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и "Комсомольской правды"»
А. Ямский. Лучший втуз Советского Союза
Вообще говоря, относиться к идее соревнования в учебе можно по-разному. Даже такой критически настроенный по отношению к советизму автор, как И.Л. Волчкевич, оценивает движение соревнования/ударничества во втузе скорее положительно: с его точки зрения это была «хорошая идея», но «доведенная до абсурда». Действительно, учеба, в отличие от творчества, не может стимулироваться только интересом (который избирателен и не приходит по расписанию) – она требует самопринуждения, дисциплины, не обходится без «зубрения» (это слово, между прочим, со страстью реабилитирует такой ученый, как профессор Императорского Петербургского университета Л.И. Петражицкий), так что какой-то внешний стимул учебе может быть полезен.
В любом случае, соревнование в тех формах, как они сложились в вузах, ни тем более само соцсоревнование – идея не руководства МММИ. Самое разумное, что мог сделать в то время директор – патриот втуза, это постараться вывести свой втуз в его «первую шеренгу».
Соцсоревнование / ударничество в МВТУ–ВММУ–МММИ (с 1929-го по 1932-й год).
Три триместра за два
Март 1929-го года – запланированное рождение в СССР «социалистического соревнования»: первый договор о соревновании заключили обрубщики трубного цеха завода «Красный выборжец». Сигнал к началу соцсоревнования был подан совсем незадолго до этого события – 20 января 1929 г. в газете «Правда» помещается забытая (написанная еще в 1918-м году) статья Ленина «Как организовать соревнование?». (Правда, в этой чудовищной статье речь шла отнюдь не о свободном соревновании трудящихся как о стимуле к труду – работа освобожденного от капиталистов населения «на себя» должна стать безусловно принудительной, и дело лишь за «учетом и контролем», осуществлять которые должны «практики-организаторы из рабочих и крестьян». Они-то и должны соревноваться в изобретении методов принуждения и устрашения «тунеядцев», в т.ч. из рабочих: «... В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы ... В другом — поставят их чистить сортиры. В третьем — снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами, чтобы весь народ, до их исправления, надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвертом — расстреляют на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве...» и пр. – Мирно звучащий заголовок оказался важнее содержания.) — На то, чтобы соревнование пришло в вузы, потребовалось времени больше. В МВТУ оно начинается к концу года, – и в 1930-м переходит, уже в готовых формах, в ВММУ–МММИ.
Еще в бытность Цибарта «красным деканом» мехфака МВТУ (29 января – 20 марта 1930 г.) складываются, под руководством его партячейки, формы соцсоревнования и ударничества. На собрании парткома 6 февраля, на котором Цибарт не выступал или не присутствовал, его секретарь тов. Михайлов говорит: «Вопрос о ударничестве должен быть проведен среди факультета сейчас-же»; «тов. Алексеев указывает, что многие группы не знают, как начать работу по соц-соревнованию» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1, ед. хр. 70, л. 100). «О ударных бригадах / Информ. тов. Резника. Тов. Резник указывает, что на 1-м курсе имеется стремление у некоторых товарищей ударным порядком сократить свою учебу. Товарищи предлагают из 3 группы холодн обработки создать 4ую ударную группу, которая-бы сумела догнать 1 курс более раннего приема. / Тов. Романов. Указывает на нецелесообразность выделения такой группы, которая явится каким-то отшельником в общем плане обучения. Ударничество нужно понимать как исполнение всех заданий, постановку в смысле качества. / Тов. Михайлов. Возражает тов. Романову. Имеется партийная установка, чтобы этому стремлению оказывать поддержку. Нам нужно обсудить этот вопрос, можем-ли мы обеспечить товарищам январского приема более ускоренный темп работы. / Постановили. Вопрос не обсуждать, а к 25 февралю деканату подготовить материалы для возможности организации на 1м курсе январского приема ударных групп» (л. 133об). 28 февраля 1930 г. тов. Бараш в отчете ячейки ВКП(б) теплотехников «указывает» в т.ч. что «в работе ударных групп был недостаток тот, что в группах для учебы в ударной бригаде выделили ребят. Среди ударников есть ребята дезорганизующие работу, когда вместо занятий ударники играют в шахматы по 8 или 9 часов, чем могут заняться в свободное время» (л. 135)...
В будущем ВММУ/МММИ соревноваться должны и студенты и преподаватели, как коллективно, по группам и кафедрам, так и индивидуально. Студенты соревнуются за успеваемость, дисциплину, лучший конспект и пр. В духе общего лозунга «завершить пятилетку в четыре года» обязуются закончить три триместра за два, преподаватели составляют соответствующие программы, дают лишние часы консультаций, иногда прямо в общежитиях.
Между прочим, идея сокращать по личным инициативам и без того сокращаемый в это время срок обучения понимания у руководства еще долго не встречает. Так, «тов. Шверник в блестящей речи на заседании V пленума пролетстуда от 17 декабря 1930 г.» указывает, что «такие предпосылки со стороны отдельных товарищей, если только они связывают сокращение срока обучения в высших учебных заведениях с соцсоревнованием, – их нужно отмести как негодные, которые неизбежно приведут нас к понижению качества продукции высших учебных заведений... Мы ни в коем случае в порядке соцсоревнования не должны сокращать срока обучения». Шверник перечисляет втузы, пошедшие по этому порочному пути, особенно достается МЭИ, – но МММИ в этой связи не упоминает (ЗПК 1931 № 1).
Последнее не случайно: дирекция МММИ отнюдь не желает снижения качества своей «продукции» сверх прямо предписанного ВКП(б). И в этом вопросе она даже заходит в конфликт с институтской парторганизацией (от которой почти неотличима). «Об ударничестве – больные факты, – негодует на бюро ячейки ВКП(б) ВММУ от 21/Х-30 г. председательствующий Цыганков, – дирекция запрещает окончание досрочно»; резолюция заседания допускает это лишь в порядке исключения: «К вопросам ударничества и соц. соревнования ставку ставить на повышение качества учебы и как исключение после детальнейшей проверки предоставить возможность досрочного окончания» (ЦГАМ ф. П-158 оп. 1а, д. 3, лл. 75, 76)... В дальнейшем, видимо, поступают еще более «блестящие» указания, чем указание первого секретаря ВЦСПС Шверника, и сомнительные достижения в соревновании продолжают подаваться как победы.
Есть, кажется, и полезный, во всяком случае любопытный опыт – «академбои», своего рода викторины между студентами на лучшее знание проходившихся предметов. «Передовые ударники профессора и преподаватели руководили академбоями студентов, которых в МММИ за год было около 150» (Лучший втуз...).
|
«Академбои» проводятся кое-где и сейчас. Заметив в интернете информацию, что они появились гораздо позже, приведем то, что о них сказано в брошюре «Лучший втуз...» и журнале «За промышленные кадры». – «Академбои. Эта прекрасная форма углубления и закрепления знаний нашла в институте большое применение. За время соревнования в институте проведено около 150 академбоев. Они охватили всю массу студенчества и всегда давали неплохие результаты. Успех академбоя решает тщательная подготовка к нему. Для самопроверки и академбоев профессора и преподаватели, а иногда и просто сильные в академическом смысле товарищи составляли специальные вопросники. Эти вопросники очень подробно охватывают тот или иной курс какого-нибудь предмета и включают в себя все основное, что должен знать каждый студент. Например, вопросник по физике, составленный профессором Васильевым, состоит из 105 самостоятельных вопросов. / Вопросник по деталям машин, разработанный профессором Савериным, имеет 8 разделов и свыше 50 вопросов. / Предмет динамики разработан доцентом т. Обморшевым в виде 30 тем-заданий и 60 контрольных вопросов и т. д. / Все эти вопросники размножались типографским способом, и каждый студент мог приобрести их как ценное пособие непосредственно для участия в академбоях и для систематической самопроверки знаний. Академбоями руководили лучшие профессора и доценты института.» – «Прежде чем задать вопрос, "нападающий" должен заявить, кому он желает его направить. / После ответа на поставленный вопрос "нападающий" (задающий) и "обороняющийся" (отвечающий) сейчас же меняются ролями. Тот, кто раньше спрашивал – отвечает, кто отвечал – спрашивает. Каждый член бригады во время боя бывает два раза "нападающим" … и два раза "обороняющимся"»; «После того, как все члены бригады, группы приняли участие в бою, преподаватель направляет каждой бригаде добавочно еще один вопрос, на который бригада отвечает коллективным порядком. Выразителем мнения бригады является один член бригады, которого указывает штаб». Оценки ответов – 1, 1/2 и 0 очков, сумма очков определяет бригаду-победителя (подробнее о правилах академбоев см.: ЗПК 1932 № 1, с. 45). |
Сохранился приказ директора Цибарта от 20 июня 1931-го года о поощрении преподавателей, принявших участие в помощи соревнующимся студентам (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 5, л. 38). Приказ засвидетельствовал, между прочим, начало институтского соцсоревнования еще в «старом» МВТУ – это декабрь 1929-го года, – а также одну из целей соревнования (которой сам Цибарт еще недавно сопротивлялся) сократить срок обучения. Вот отрывок из него:
«МММИ ПРИКАЗ № 377 20/VI–31
По инициативе парттысячников и рабфаковцев-рабочих, поступающих из года в год все в большем количестве в Ин-т в конце 29 года впервые опыт социалистического соревнования и ударничества предприятий, начал внедряться и в стенах ВТУЗ-а.
В декабре 29 года инициативная группа товарищей поставила целью организовать ударную группу с сокращенным сроком обучения. В конце января такая группа была оформлена по специальности Станкостроения и с 12 февраля 30 г. приступила к занятиям.
Параллельно с этой группой на дизельной специальности инициативной группы «Д» 61 организовалась вторая ударная группа, начавшая работать с 20-го февраля 30 г.
Заслушав сообщения бригадиров групп «Ст» 63 и «Д» 61 об их полторагодичной работе, констатирую:
Группа «СТ» 63 явилась застрельщиком и инициатором социалистического соревнования и ударничества в ин-те.
Создав первую ударную группу с сокращенным на пол года сроком обучения, группа состоя в основном из парттысячников, получивших подготовку лишь на курсах подготовки и 4-х рабфаковцев – вечерников, сумела развернуть борьбу за темпы и качество учебы успешно выполняя свои повышенные производственно-учебные планы.
Группа сумела добиться таких результатов лишь при суровой борьбе за трудовую дисциплину, сплоченной и коллективной работе группы, правильной организации работы бригад внутри группы, вовлечением в активную работу преподавательского состава группы, активной работе на предприятиях над делом организации практики как системы производственного обучения и организации на базах НПО занятий по повторению пройденных теоретических занятий.
Только эти условия дали возможность группе полностью выполнить свои планы, выполнив за 5 триместр программу 6 триместра нормальных академических групп...»
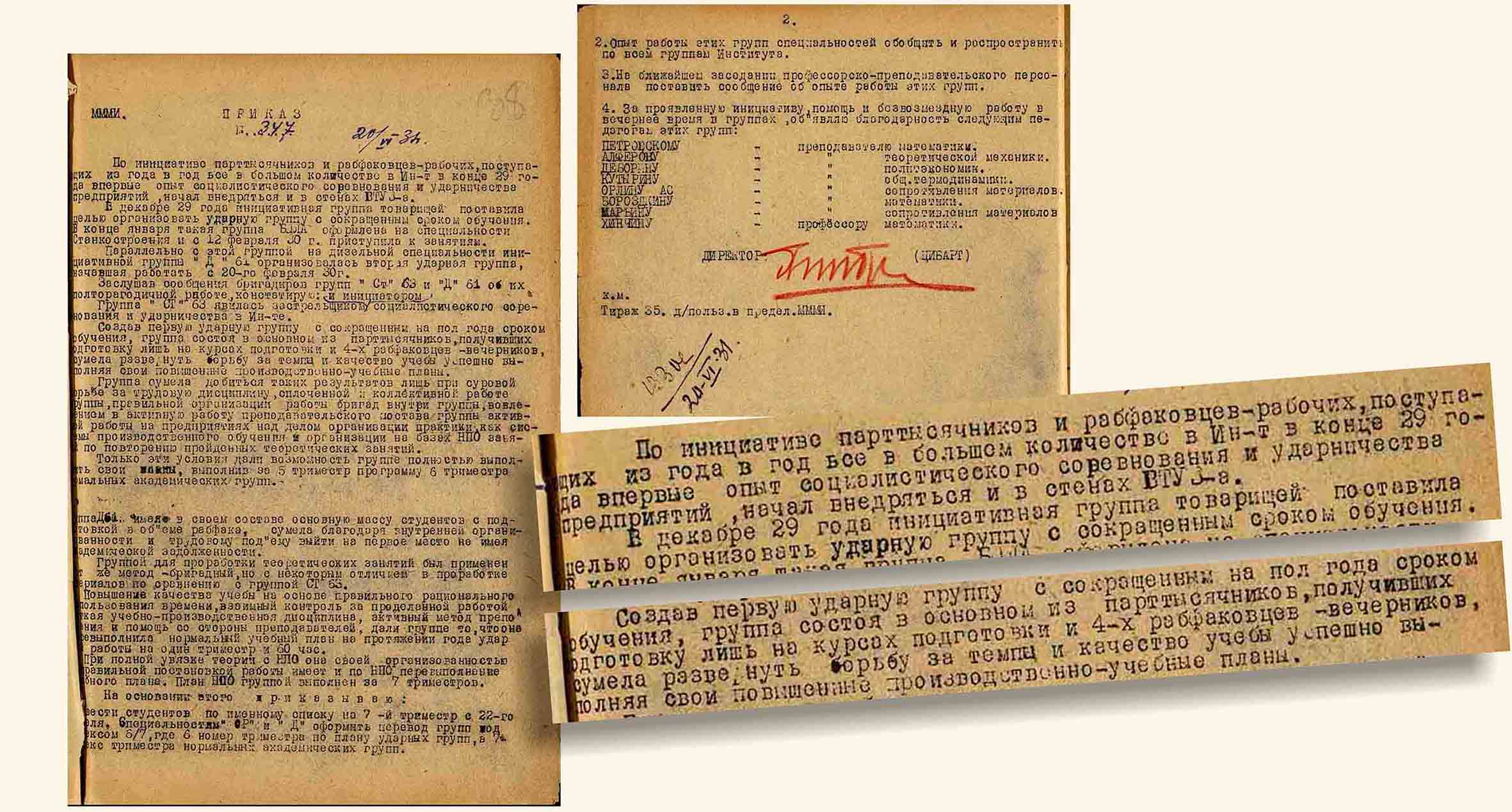
Напоминание о неподготовленности «парттысячников и рабфаковцев-рабочих, поступающих из года в год все в бо́льшем количестве в институт», и при этом становящихся «застрельщиками» в борьбе «за темпы и качество учебы» – в общем бравурном контексте явно излишне, выглядит чуть ли не как ироничное или встревоженное... Стоило ли при отсталости парттысячников еще и сокращать для них срок учебы, занимать профессоров переписыванием учебных планов и т.п.? Или расстаться с парттысячниками как можно раньше – это лучшее, чего можно было желать?.. Но политическая, квази-религиозная составляющая действа была важнее реалий.
«...После решений пленумов ЦК ВКП(б) в институте под руководством парткома и профкома началось соревнование между отдельными группами и целыми факультетами. Весь институт очень хорошо помнит и знает группу конструкторов станков, которая под руководством Миши Каплуна первая в институте [неточность: еще в 1929 г., в МВТУ до разделения] об"явила себя ударной и обязалась закончить учебу на два семестра раньше срока, не снижая качества учебы. Группа состояла преимущественно из парттысячников, пришедших в институт сравнительно с небольшой подготовкой. Поэтому взятые группой обязательства, за выполнением которых следило все студенчество института, были особенно тяжелы. Но большевики умеют преодолевать трудности. Миша Каплун, прошедший отличную комсомольскую школу, принес в институт боевой задор, настойчивое желание бороться за свое слово и умение коллективно побеждать...» (см. Лучший втуз...).
«Миша» для истории МММИ – не эпизодический персонаж. И работать ему предстоит не заводским инженером. Уже в 1935-м году М.М. Каплун – ни много ни мало – заместитель заведующего отделом науки в Московском комитете ВКП(б), а в 1937-м, после ареста Д.А. Петровского, станет исполняющим обязанности начальника ГУУЗ НКТП, непосредственным руководителем директоров втузов... Надо сказать, отношения между директором Цибартом и ударником Каплуном (об этом речь еще пойдет в своем месте) с самого начала были плохими. На самом деле, должной настойчивости в проведении решений пленумов 1928 и 1929 гг. Цибарт не проявлял. Как и в вопросе о сокращении сроков обучения в ходе соцсоревнования, не было ее и в борьбе с «реакционными» не-партийными специалистами, – в той «линии на выживание из института старой профессуры», которую проводил в числе прочих будущий ответственный по науке Каплун, и кое-как (в меру возможного, но все-таки!) сдерживал Цибарт.
Энтузиазм, даже в партийной среде, не рождается без принуждения и запугивания. «...Отмечая, что до настоящего времени значительная часть коммунистов и комсомольцев не участвует в ударничестве, конференция подчеркивает, что не участие их в ударничестве необходимо рассматривать как проявление правого оппортунизма на практике» (I Партконференция МММИ 21 декабря 1930 г., ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 1, л. 15). Преподаватель Аргов Михаил Айзикович, из рабочих, исключен из ВКП(б) и уволен за то, что «пропагандировал в течение года идеи контрреволюционного троцкизма», причем одна из его контрреволюционных идей – якобы «идеи соцсоревнования не применимы в условиях института» (материалы по чистке парторганизации МММИ 1933 г., ЦГАМ ф. П-84, оп. 1а, ед. хр. 209, л. 42). Студент Аркадий Кириллов имеет партийный выговор «за утверждение на группе, что ударничество в институте чепуха» (л. 70). – Еще одно обязательное проявление энтузиазма – подписи на гос. займы. Студент Петр Кальян, служивший ранее в аппарате ЦК ВЛКСМ Азербайджана, получает в МММИ партийный «выговор, утвержденный РКК Сталинского района за отказ подписаться на полную стипендию на заем» (л. 57об). Всех подобных случаев мы здесь, конечно, не отмечаем.
Так или иначе, но соцсоревнование набирает обороты. Внутри института ему тесно. Еще в 1930-м году МММИ состязается с Энергетическим институтом, о чем говорится в приказе Цибарта от 22 ноября: «администрацией приняты обязательства по соцсоревнованию с ВЭИ и превращению втуза в течение особого квартала в ударный втуз...» (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 2, л. 67). Речь в этом приказе шла уже о дополнительных обязательствах – принятом от МЭИ «вызове» перейти к 1 января 1931 г., в порядке ударничества, на сокращенный срок учебы.
Первое, Второе и Третье
всесоюзное социалистическое соревнование вузов, втузов и техникумов (1932/33, 1933/34, 1934/35 уч. годов).
Триумф
И вот – с начала эпохи восстановления образования – главный для МММИ им. Баумана этап соцсоревнования, в результате которого институт получит все возможное публичное признание.
Практически сразу после опубликования переворотного постановления ЦИК 19 сентября 1932-го года, на второй день – 21 сентября, в МММИ им. Баумана озвучивают идею всесоюзного конкурса втузов и техникумов на его лучшее воплощение. Борьба (считать ли ее адекватной по методам или нет) должна вестись уже за подлинное качество учебы. (О реформе 19 сентября 1932 г. см. в разделах «Поворот на 180 градусов...» и «Первый год реформ в Бауманском...».)
«Заседание Бюро ПК ВКП/б/ МММИ им. Баумана, совместно с активом от 21/IX-32 г.» Присутствуют – Серкин (секретарь парткома), Набоков, Цибарт, Куликов, Ларин, Ермаков, Селезнев, Зарудный. (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 11, лл. 169, 170) 2 ноября 1932 г. на парткоме развивают и уточняют эту идею.
«...4. О развертывании соцсоревнования и конкурса /т. Набоков/ «перед Институтом стоит огромнейшая задача реализовать историческое решение ЦК партии и правительства об учебных программах и режиме в высшей школе, конечной целью которого является дать Советской стране полноценного специалиста, способного стать действительным командиром социалистической промышленности...» Думают о том, как стимулировать ударников нового соцсоревнования – тоже любопытная тема! «V. Установить следующие преимущества: Торопятся с новыми учебными планами и программами, со свертыванием НПО, готовятся к настоящим зачетным сессиям, перестраиваются с триместровой на нормальную семестровую систему, отменяют «переходные планы» (т.е. планы перехода на четырехлетний срок обучения): «СЛУШАЛИ: об учебных планах и программах /т. Балабин/ (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 11, лл. 179, 182, 185, 186) |
Официальное именование нового соревнования – «Всесоюзное социалистическое соревнование между вузами, втузами и техникумами СССР на лучшее и скорейшее проведение постановления ЦИК [от 19 сентября 1932 г.] о программах и режиме в высшей школе».
Хотя соревновались все вузы, как будто и не предполагалось, что занимать главные призовые места в этом особом соревновании могут какие-либо заведения, кроме технических. Ведь и в само́м постановлении ЦИК от 19 сентября 1932 г., лучшему исполнению которого посвящалось соревнование, прямо говорится о подготовке инженеров и общетехнических дисциплинах. В Бауманском, в обиходной речи, так и звучало – «соревнование втузов». Это – примета эпохи «индустриализации»: вузы не-технического профиля были ВКП(б) попросту неинтересны. Так, Всесоюзный комитет по делам высшей школы (т.е. по делам всех вузов), образован только в 1936-м году из существовавшего Всесоюзного комитета по высшему техническому образованию, а журнал этого комитета «Высшая школа» – из «Высшей технической школы». Да и то можно предположить, что эта логичная реорганизация совершилась лишь потому, что партии, заставлявшей тогда ученых переписывать учебные программы и пособия под «стахановское движение», необходимо было отстранить влиятельнейшего защитника науки Г.М. Кржижановского от председательства в этом комитете. |
«В своем обращении ко всем профессорам, преподавателям и студентам высших учебных заведений и техникумов, принятом на общевузовском митинге, бауманцы говорили: "Мы, пятитысячный коллектив профессорско-преподавательского состава и студенчества Московского механико-машиностроительного института им. Баумана, предлагаем об’явить всесоюзное социалистическое соревнование вузов, втузов и техникумов на лучшее качество их работы, на выполнение решения правительства СССР об учебных программах и режима в высшей школе и техникумах. Мы просим "Комсомольскую правду", по примеру соревнования ФЗУ, организовать соревнование высших школ и техникумов. Мы считаем, что в социалистическом соревновании должны участвовать все вузы, втузы, техникумы, заводы по НПП, издательские организации, отделы кадров наркоматов на улучшение руководства вузами, научно-исследовательские институты, профессора, преподаватели и т. д. Мы считаем, что всесоюзное соревнование должно базироваться на развертывании внутреннего соревнования внутри вузов между студентами и преподавателями, между группами, аспирантами, кафедрами, лабораториями, между отдельными преподавателями и между вузами"...» «Этот исторический документ вместе с аналогичным обращением Московского энергетического института вызвал волну энтузиазма всего студенчества и послужил сигналом к выступлению в великий поход за качество учебы в вузах, втузах и техникумах СССР, оформленный в первое всесоюзное соревнование высших учебных заведений» (см. Лучший втуз...).
С организационной стороной и полной программой первого соревнования можно ознакомиться, например, в издании 1932-го года «Всесоюзное социалистическое соревнование вузов, втузов и техникумов».
Для руководства соревнованием при «Комсомольской правде» был создан Центральный комитет под председательством секретаря ЦИК СССР А.С. Енукидзе. В задачу Комитета входили организация и обмен опытом соревнования, контроль и проверка выполнения показателей, присуждение премий (см. Всесоюзное...).
Первое всесоюзное соревнование «на лучшую реализацию решений ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г.» было объявлено «Комсомольской правдой» и оргбюро студсекций при ВЦСПС 16 ноября 1932 г.

«Соревнование проводится до конца учебного года, т. е. до 1 июля 1933 г., с тем, чтобы показатели и успехи учебных заведений, достигнутые ими в процессе соревнования, стали системой работы в дальнейшем...» (см. Всесоюзное...).
В числе условий и целей соревнования, обозначенных его Центральным комитетом, – следующие. Они отражают как решения самого ЦИК, так, явно, и те более частные задачи, которые уже ставил перед собой МММИ.
«Пересмотреть программы и учебные планы ... обеспечив в программах прохождение общетехнических и специальных дисциплин по вузам 80–85 проц.»; «полностью изжить переходные планы»; «ввести факультативные (не обязательные) дисциплины».
«Пересмотреть список баз НПП...»
«Добиться перестройки метода учебы в соответствии с решением правительства, развития самостоятельной работы, организации зачетных сессий, усиления лабораторных и графических работ под руководством преподавателя, применения лекций, семинарских занятий и т. д. (вытесняя лабораторно-бригадный метод в его "современной фактически сложившейся форме" [цитата из постановления ЦИК]»
«Заместить должности заведующих кафедрами лицами, имеющими профессорское звание, а также должности зав. лабораториями, кабинетами, учебными частями, научно квалифицированными специалистами, обеспечив установление твердого единоначалия.»
«Добиться создания и расширения собственной продовольственной базы (огороды, свиноводческое, кролиководческое и птицеводческое хозяйство»; «добиться снижения стоимости питания студентов». «Для профессорско-преподавательского состава организовать особые столовые», «обеспечить преимущественное снабжение и питание ударников как среди студентов, так и профессорско-преподавательского состава».
«Развернуть сеть политкружков...»
«Добиться, чтобы каждый студент имел только одну общественную нагрузку.»
«Организовать пошивочные, починочные мастерские и прачечные...» «Широко организовать культурный досуг студенчества, в частности использование выходного дня (спектакли, посещение театров, кино, научные лекции, диспуты, прогулки, гулянья и проч.).» (См. Всесоюзное...).
Итак, Первое всесоюзное соревнование вузов, втузов и техникумов стартовало в 1932/33 учебном году. «...Профессура и преподаватели, спаянные со студенчеством в один мощный коллектив, дрались за высшую награду в соревновании – Красное знамя ЦИК СССР, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и "Комсомольской правды"» (см. Лучший втуз...).
(Профессура, дравшаяся за награду – так в тексте.)
Подробно о ходе 1-го соревнования в МММИ можно ознакомиться в книге А. Ямского (Г. Нехамкина? М. Акимова?) «Лучший втуз Советского Союза», в ее II-м разделе «В борьбе за всесоюзное первенство» (см. на сайте).
«Вместе с ростом индивидуального и коллективного соревнования росла и армия ударников МММИ. Если к январю [1933 г.] в их числе было немногим меньше половины всех студентов, то к концу учебного года институт пришел с громадным количеством студентов-ударников – почти полторы тысячи человек (67 проц.). И это ударники не только по названию. В институте был очень жесткий подход к тем, кто добивался носить это почетное звание. За малейшее нарушение дисциплины, за недобросовестное отношение к выполнению домашних работ группа немедленно лишала студента звания ударника. Несмотря на это количество ударников в институте из месяца в месяц растет...» «Имена лучших из лучших ударников МММИ, отмеченных и премированных в специальном приказе Наркомтяжпрома за подписью т. Орджоникидзе, стали через печать известны всему Союзу. / Вот они славные герои учебы: тт. Шевцов, Матисен, Серкин, Кривин, Журавлев, Долгов, Наугольный [Наугольнов], Величко, Зернов, Аравин, Фоминых, Манин, Юдин, Иванова-Терентьева, Цыганков, Фишмер, Панкратов, Набоков, Хонин, Чикиш, Бабчиницер, Собчук, Васильев, Столбов, Хейман [Хейнман], Демидов, Пронин, Гоцман, Шенкман, Малышев, Лесин, Сарычев, Детовский, Иовтуповский, Абрамов, Зарудный, Мусаткин.»
«Нечего говорить о том, что ударники в институте получают обеды повышенного качества, ибо ударнику в МММИ – главная доля забот и внимания.» «В своих заботах о студенчестве вообще партком и профком на первый план ставят заботу о студенте-ударнике. И вот начинается борьба за превращение первого общежития при институте [в Бригадирском переулке] в образцовое, лучшее в Москве общежитие ударника. И здесь бауманцы вышли победителями: общежитие действительно превратилось в образцовое, способное выдержать любое, даже самое придирчивое, наступление какой угодно комиссии. Корпус ударника, собственно говоря, уже вышел за пределы общепринятого понятия о студенческом общежитии. И если его можно так именовать, то уже с непременным добавлением вроде "прекрасное", "великолепное" и т. д.» Материальному поощрению ударников посвящен «специальный заем "За качество учебы", с успехом реализованный студентами.»
Упорно «вовлекаются» в соцсоревнование профессора. «271 профессор и преподаватель института были участниками индивидуального соревнования и имели договоры. Профессиональная организация, непосредственно руководившая соревнованием студенчества, сумела вовлечь в это почетное дело три четверти всего профессорско-преподавательского состава. Разве это не блестящий итог первого соревнования в МММИ?» (см. Лучший втуз...)...
Специфически несуразным предстает соцсоревнование в отношении «профессорско-преподавательского состава». Если учащемуся и могут быть полезны какие-то внешние стимулы, не то состоявшемуся ученому, для которого его дело составляет его собственную страсть. Вот например, как оправдывает соревнование «вовлеченный» в него профессор МММИ Г.А. Осецимский (ЗПК 1933 № 7); мы непосредственно видим «классического» профессора в тех реалиях. «...Эта активность не может не давать своих последствий, и она необходима. Я это наблюдал лично на самом себе. Мне казалось, что я делаю то, что могу, мне казалось, что я трачу то время, каким я располагаю. Для чего же мне тогда соревнование нужно, когда я и так отношусь к своим обязанностям хорошо? Как будто бы никакого соревнования мне не нужно. Я одно время был в этом убежден и мне казалось, что соревнование – это потеря времени, так как у меня отнимают то время, которое для меня ценно и которое я иначе тратил бы [курсив наш – А.А.]. Но когда я ближе столкнулся с соревнованием, то убедился, что в это время, которое я трачу на соревнование, мне указывают на некоторые ошибки, которые у меня имеются... Если соревнования нет, то нет стимула.» Профессор благоразумно нашел для себя пользу в неизбежном, но не верится, что, если бы неизбежность вдруг отпала, то он испытал бы по этому поводу сожаление.
Итоги соревнования были объявлены 17 сентября 1933 года. Всесоюзное переходящее знамя ЦИК СССР, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и «Комсомольской правды», денежную премию в размере 100 тыс. рублей (а также премиальные преподавателям и студентам-ударникам, грамоты и проч.) получил, как лучший втуз Советского Союза, Московский механико-машиностроительный институт им. Н.Э. Баумана.
За первым соревнованием следует второе. (Говорящие и пишущие об этих соревнованиях часто пользуются словом «туры», но, строго говоря, то были именно отдельные соревнования.)
Начало Второго соревнования – 17 ноября 1933 г.
Эпизод: к концу 1933-го года по январь 1934-го – в ходе Второго всесоюзного соревнования – в общий поток соревнования примешивается «новая волна». «Рабочий класс, колхозное крестьянство миллионами включаются во всесоюзный производственный поход к XVII Съезду нашей партии не на словах, а на деле показывая свою преданность партии и ее вождю т. Сталину...» «Четырехтысячный коллектив Московского механико-машиностроительного института им. Баумана включился в производственный поход им. XVII Съезда партии. / Студенчество, профессорско-преподавательский состав, рабочие и служащие института, призывая все учебные заведения Союза включиться в производственный поход им. XVII Съезда, берут на себя ряд обязательств. / В подарок XVII Съезду организовать сбор 200 студенческих и профессорских предложений по рационализации учебного процесса, самостоятельной работы и повышения качества учебы. / Двадцать студентов, оканчивающих институт, обязуются сдать свой дипломный проект к XVII Съезду не менее чем на отметку "хорошо" и "отлично". / Издать к XVII Съезду 4 учебника и т.д. / Следуйте почину бауманцев. Повышением качества учебы встретим большевистский съезд» (ЗПК 1933 №№ 12, 11). В январе 1934-го года (ЗПК № 1) аспирант Г. Хейнман (вскоре репрессированный как «троцкист») сообщает: «включение МММИ им. Баумана в производственный поход им. XVII партсъезда совпало с награждением института Орденом трудового красного знамени и началом второго тура социалистического соревнования втузов»; «производственный поход им. XVII съезда внес новую волну социалистического соревнования в ряды краснознаменцев-бауманцев»; «факультеты соревнуются на право рапорта общеинститутской партконференции»... По результатам похода имени XVII партсъезда МММИ им. Баумана получает премию в 15000 руб.
Результаты соревнования объявляются в Колонном зале.
«1 октября в Колонном зале Дома союзов (Москва) под председательством т. А.С. Енукидзе состоялось заседание пленума Всесоюзного комитета по соревнованию вузов, втузов и техникумов.
На этом заседании были подведены итоги Второго всесоюзного соревнования высших школ и техникумов, а также оглашены списки учебных заведений, получивших премии и почетные грамоты.
Пленум комитета, совместно с присутствующими академиками, профессорами, преподавателями и студентами послал приветствие ЦК ВКП(б) на имя тт. Сталина и Кагановича, приветствия тт. Молотову, Калинину и Косареву.
Первая премия присуждена Московскому краснознаменному механико-машиностроительному институту им. Н.Э. Баумана.
Вторую – разделили Московский энергетический институт и Ленинградский горный институт.
Третью – Харьковский авиационный и Московский авиационный, Харьковский машиностроительный и б. Ленинградский машиностроительный.
Четвертую премию получил Ленинградский химико-технологический институт...» (ЗПК 1934 № 18).
В журнале Всесоюзного комитета по высшему образованию «Высшая техническая школа» (1934 № 3, сс. 27–30) победе МММИ посвящается статья. Приводим ее полностью.
Е. Будничук Грандиозный размах второго всесоюзного соревнования вузов, втузов и техникумов, охвативший сотни тысяч студентов и тысячи профессоров и преподавателей, закончился вторичной победой коллектива Московского механико-машиностроительного института им. Баумана (МММИ). |
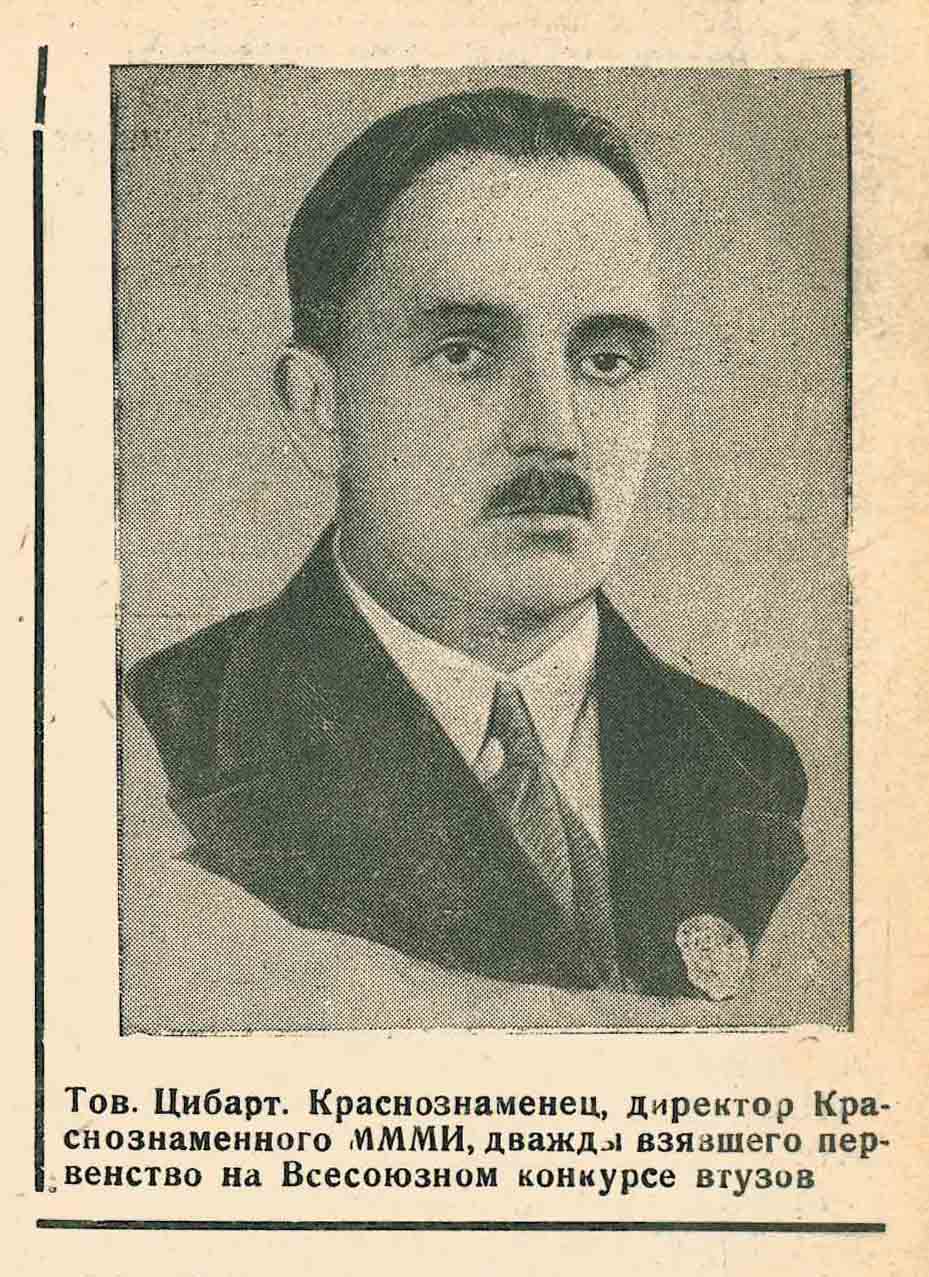
А.А. Цибарт. Журнал "За промышленные кадры" 1934 № 21/22, с. 61
С новым, 1934/35 учебным годом начинается Третье соревнование.
Из программы нового соревнования: «Целью третьего Всесоюзного социалистического соревнования высших школ и техникумов Советского Союза является закрепление тех успехов, которых добились учебные заведения в осуществлении решений правительства в процессе прошедшего двухлетнего соревнования и развертывания дальнейшей борьбы за окончательное осуществление декрета ЦИК Союза ССР от 19 сентября 1932 г. "Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах", а также мероприятий по улучшению культурного и материально-бытового положения студенчества, вытекающих из решений ВКП(б) о Новочеркасском Индустриальном Институте»; «Социалистическое соревнование высших школ и техникумов в 1934-35 учебном году происходит по республикам, краям и областям»; «Соревнование проводится до 1-го сентября 1935 г., включая подготовку учебного заведения к новому учебному году» (см. 3-е Всесоюзное...).
Заметно желание организаторов сделать соревнование действительно полезным для студента, преподавателя, для учебы и научной работы во втузах.
|
«... б) Соревнование кафедр и научно-исследовательская работа «Развертывание подлинного социалистического соревнования студенчества и профессуры, борьба с шаблоном, бюрократическим крючкотворством и формализмом являются решающим условием успешной работы каждого учебного заведения. |
...В 1935-м году, к шоку («тяжелому удару») для Цибарта, ЦК Комсомола лишает МММИ первенства в Третьем всесоюзном соревновании втузов. Знамя переходит Энергетическому институту, 2-е и 3-е места не назначаются, МММИ назван в числе лучших и премирован. (Подробнее ниже.)
Этого, заметим, следовало ожидать уже в силу того значения, в т.ч. пропагандистского, которое власть придавала энергетике – а даже, может быть, и потому, что председателем Комитета по высшей технической школе был «главный энергетик СССР», академик и крупнейший советский деятель Кржижановский; в это время МЭИ отстраивался и получал новое, роскошное по тем временам здание, тогда как МММИ пришлось законсервировать строительство обещанного Орджоникидзе нового корпуса... Одним словом, марка лучшего втуза СССР для МЭИ явно напрашивалась. Подготовка такого решения по линии НКТП, которую можно проследить по журналу ГУУЗа НКТП «За промышленные кадры», целенаправленно велась. Остается только удивляться тому, что для Цибарта это решение все-таки не казалось неизбежным.
«...У нас отняли красное знамя, – говорит позже Цибарт. – И знаете за что отняли? Считали, что мы имеем большие достижения по линии производственной, а отняли знамя за слабое развитие политико-воспитательной и культурно-бытовой работы» (см. Партсобрание).
Подчеркнем: не учебной.
|
Странно, что А.А. этого не замечал, но желание высокого руководства «размочить счет» в пользу МЭИ, в третьем и последнем соревновании, было очевидно. Первые сигналы к тому были еще во втором соревновании: в 1934-м году ЦК машиностроения НКТП выпускает письмо, в котором говорится, что первенство МММИ под угрозой: «вы все читали письмо, которое опубликовано в Ударнике [газете МММИ]. В этом письме нас обвиняют в зазнайстве, что мы ослабили темп работы и т.д. В значительной мере это соответствует действительности, нам нужно подтянуться» (говорит Цибарт на партконференции МММИ 11 апреля 1934 г.). Появляется какое-то критическое выступление «Комсомольской правды», где МММИ также обвиняют в «элементах зазнайства и самовлюбленности» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 25, л. 45). В 1935-м году, во время третьего соревнования, в журнале ГУУЗа «За промышленные кадры» постоянно проскакивают придирчивые замечания в адрес МММИ. Основаны они, как всегда в таких случаях, на фактах, но таких, которых вряд ли могло не быть в других втузах. Когда-то в МММИ стоял в руководстве НИК не имевший достаточного образования работник – «директор института решил, что это самая подходящая кандидатура для конкретного руководства научно-исследовательской работой», – «дело это уже относится к минувшим дням. Но напомнить о нем не мешает» (ЗПК 1935 № 2). Неизбывные жалобы руководителей научных тем в институтах на администрацию: «...вместо того чтобы помочь нам развернуть до необходимых пределов свою работу, от нас непрерывно оттягивают средства» (№ 3). «Студенты бауманцы и торфяники не могут использовать великолепных зимних природных условий для спорта и игр. И не потому, что в институтах нет лыж, коньков и другого зимнего спортивного оборудования. А только потому, что нет места для хранения инвентаря. / У бауманцев, начиная с июля, строится помещение для хранения лыж – лыжная станция», но «для окончания строительства требуется всего один килограмм гвоздей и несколько досок. Создается впечатление, что хозяйственные организации института (отдел снабжения, строительный отдел) делают всяческие усилия к тому, чтобы затормозить работу ФК кафедры» (№ 3). Хронически больной вопрос, как и вообще в советское время – быт... «Коровий брод – это особый, ни с чем несравнимый студенческий мир. ...Студенческая столовая МММИ находилась в том же помещении, где она была во времена ИМТУ, когда студентов было в несколько раз меньше... И ватман – это традиционный советский предмет дефицита. «Больной вопрос – и снабжение учебных заведений чертежной и рисовальной бумагой. ... Год назад наш крупнейший механико-машиностроительный институт – КМММИ им. Баумана – для проектов по деталям машин вместо ватмана рекомендовал пользоваться бумагой для обоев. Ряд таких примеров можно было бы продолжить» (ЗПК 1935 № 17)... Сразу же после этого фельетона – очень теплые статьи о МЭИ. «В Московском энергетическом институте им. Молотова больше сотни студентов, идущих на сплошных "хорошо" и "отлично"» и т.д. Итог критики закономерен. «В итоге 3 тура Всесоюзного соревнования учебных заведений КМММИ вынужден был уступить свое первенство своему соседу – Энергетическому институту им. Молотова. Жюри конкурса специально отметило, что руководители института не использовали своих возможностей для создания в КМММИ образцовой культурной обстановки.» «В моем [Петровского] приказе от 16/VI 1935 г. я указал директору Краснознаменного механико-машиностроительного института т. Цибарту на то, что "в столовой нет культурной обстановки, в 1-м общежитии по утрам не бывает воды, а в 3-м общежитии также имеет место ряд ненормальностей, как то: мусор, недостаточное количество освещения, в антисанитарном состоянии места общего пользования".» «Одновременно проверка установила, что по-прежнему лампочки "исчезают" из коридоров и уборных, а порой также "исчезают" ножи, вилки, ложки и прочие предметы из столовой...» (ЗПК 1935 № 22 /ноябрь/, «В КМММИ нет внимания к нуждам студенчества»). О почетном 2-м месте МММИ в соревновании втузовских студенческих столовых 1934-го года, как и о высмеянной тем же ГУУЗом отчаянной борьбе институтской столовой за свои ложки и вилки, блистательно забыто... «...Худший враг прогресса – это самоуспокоенность. Это прекрасно доказано на примере Краснознаменного Московского механико-машиностроительного института им. Баумана. Два года институт держал в своих руках переходящее красное знамя ЦИК СССР, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и "Комсомольской правды". И владел им по праву. В течение двух лет институт неуклонно улучшал свою работу. На третьем году институт снизил темпы своей работы в надежде, видимо, на то, что никто его все равно не обгонит. Но институт ошибся в своих расчетах. Его сосед – Московский энергетический инситут им. Молотова – сумел развернуть достаточно интенсивную работу по учебно-производственной линии, общественно-политическому воспитанию и улучшению культурно-бытовых условий студенчества, и всесоюзное красное знамя по втузам присуждено ему в этом году. Надо думать, что Энергетический институт, учитывая печальный опыт своего соседа не только не ослабит, но усилит в дальнейшем свою работу...» (ЗПК 1935 № 24 /декабрь/, Б. Либерман). |
Между 7 и 17 декабря (судя по содержанию записей Цибарта в дневнике), в Колонном зале Дома Союзов, уже без Енукидзе (еще в июне тот исключен из ВКП/б/, работает начальником кавказских курортов /а в 1937 г. расстрелян/), подводятся итоги Третьего соревнования.
Второго и третьего мест Комитет по всесоюзному соревнованию уже не назначает. В его резолюции (см. ЗПК 1935 № 24 /декабрь/, «Лучшие премированы») лишь говорится: «признать следующие высшие школы и техникумы лучшими учебными заведениями Союза ССР, добившимися по сравнению с другими больших успехов в деле организации всей своей работы» – и перечисляются 17 лучших вузов, включая МММИ, по алфавиту. «Наградить указанные учебные заведения почетными грамотами Комитета соревнования и выдать каждому из них денежную премию»; награждаются также отдельные преподаватели и работники вузов. (Цибарт был награжден пианино, которое при его аресте в 1937-м году конфисковано не было, и сохранилось в обнищавшей семье...)
И относительно первого места:
«За достигнутые успехи в 1934/35 учебном году в учебно-производственной работе, общественно-политическом воспитании и улучшении культурно-бытовых условий студенчества присудить переходящее красное знамя ЦИК СССР, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и "Комсомольской правды", находившееся в Московском краснознаменном механико-машиностроительном институте им. Н.Э. Баумана, Московскому энергетическому институту им. В.М. Молотова».
О возможности такого решения ЦК Комсомола Цибарту становится известно еще загодя. Однако, узнав в доверительной беседе от нач. ГУУЗа Петровского, еще до объявления результатов, что Орджоникидзе на самом деле не придает соцсоревнованию втузов «никакого значения», даже «слушать о нем не хочет» (!), и следовательно возможное лишение первенства на отношение НКТП ко втузу это не повлияет, А.А. вполне успокаивается (в своем месте об этом будет рассказано немного подробнее)...
Так сказать, не МММИ для соревнования, а соревнование – для МММИ!
И вовсе не нуждался в социалистическом соревновании втузов сам товарищ Серго.
...Впрочем, хотя потеря МММИ знамени Лучшего втуза и была предсказуема, удар остался ударом. «Звонил Петровский. Была очень тяжелая беседа, чтобы я <не> падал духом в связи с отнятием у нас знамени. Будет нас всячески поддерживать. Просил 19 и 20 пройти по общежитиям и об"ективно сказать, чего не хватает, 21 декабря» (см. Дневник)...
Видимо, решения ЦИК СССР 19 сентября 1932 г. власть посчитала реализованными и четвертого соревнования уже не было. Начинался «новый, высший этап ленинско-сталинского социалистического соревнования» – «стахановское движение».
Чудесное продолжение соцсоревнования: «стахановско-бусыгинское движение» и абсурдизм во втузах.
«Все учебники надо пересмотреть и по-новому составить.» Ерманский, Шаумян, Беспрозванный и другие.
Почетный нагоняй Бауманскому и Цибарту ▲
«Подумай какое огромное преступление перед революцией
совершают все те, кто сознательно или бессознательно повинны в этом разбазаривании сил»
О.А. Ерманский. Письма о рационализации
«Мешали старые технические нормы и люди, стоявшие за спиной этих норм»
«...Наши инженерно-технические и хозяйственные работники,
успевшие уже порядочно поотстать от стахановского движения, сделали бы хорошо, если бы они перестали цепляться
за старые технические нормы и перестроились по-настоящему, по-научному, на новый, стахановский лад»
Сталин. Речь на Первом всесоюзном совещании стахановцев
«...Инженеры учились, овладевали высотами техники, а между тем новую эру в технике возвестили не они,
а возвестили ее Стаханов и Бусыгин, которые не обучались ни в каком вузе»
Д.А. Петровский. Доклад на заседании совета КрМММИ
«...Многие профессора еще скептически смотрели на стахановское движение,
надеясь, что волна спадет, жизнь войдет в свои берега, и учебники останутся теми же, что были раньше.
Но волна поднималась все выше, становилась мощной, грозной, сметая на своем пути все старое, заскорузлое,
и новая жизнь заиграла во втузах и техникумах...»
Д.А. Петровский. Новые кадры сталинской эпохи
Говоря о сталинских репрессиях, по существу нельзя забывать и о так называемом «стахановском движении», жертвой которого явился, адресно, пролетариат. Показаний самого́ пролетариата, испытавшего на себе всю тяжесть этой кампании (означавшей для рабочего неожиданное и ничем не обоснованное резкое увеличение требований к ежедневной выработке) – по понятным причинам, в печатных источниках нет. Но преступность (лучше сказать дикость) сталинской «стахановской» кампании весьма наглядно видна, что и не удивительно, именно в ученом аспекте – в том, что происходило во втузах вокруг научной дисциплины технического нормирования.
Несложно представить себя на позициях тогдашнего специалиста по нормированию. Достаточно взглянуть с них на политические и псевдоученые тексты того времени, посвященные «стахановству», чтобы картина нелепости и произвола «движения» выступила самая ясная.
Итак. Очевидно, что любая правильно определенная норма выработки не знает категории «перевыполнение», только – нарушение. Ибо верхний предел всякой такой нормы – это порог, за которым, на сколько-нибудь протяженном отрезке времени, сам труд будет наносить ущерб, – ущерб здоровью рабочего, исправности техники и качеству продукции, итоговой экономической эффективности предприятий. По этим критериям он и рассчитывается. За исключением разве что условий военного времени, когда задача сохранения здоровья людей и долговечности машин практически не стоит – любого руководителя предприятия, потребовавшего от работников систематической работы сверх норм, следует отдать под суд, а любого «ударника», явившегося по собственному почину – остановить. Причем бедность страны, недостаточная техническая оснащенность заводов и задачи развития промышленности должны это правило только ужесточать.
Но партия с ее абсурдистским «стахановским движением» произвольно задирает «нормы» (в кавычках) выработки. При той же или несколько худшей технике, советская промышленность становится в одночасье, надо понимать так, намного более эффективной, чем европейская и американская... Важно подчеркнуть, что действовавшие на тот момент нормы, которые по манию вождя преодолело «стахановское движение», были теми же, что и в мировой практике: лучшая техника была в основном импортной, и советская наука технормирования была (как только и может быть) той же, что и мировая – труды Тейлора, Кроненберга и других «буржуазных ученых», которых никто не мог бы заподозрить в потакании лени рабочих, составляют ее органическую часть.
МММИ им. Баумана, его ученые – одна из важнейших арен борьбы здравого смысла и безумия. Работа Г.А. Шаумяна «Закон производительности рабочих машин» (и ее продолжение «Высокопроизводительные рабочие машины» – см. Социалистическая реконструкция и наука 1933 № 10, скан на сайте, и 1935 № 4), и книга О.А. Ерманского «Письма о рационализации», 3-е издание которой вышло в 1934-м году, незадолго до запуска «стахановского движения», – это убийственная критика всякого «ударничества». С противоположной стороны, прямо предписанные ВКП(б), вынужденные «открытия» И.М. Беспрозванного (и других) по части стахановских «норм» – его, как говорилось тогда, «научное обоснование».
Эффективность производства – это не вопрос наличия или отсутствия особого энтузиазма работников, здесь, понятно, в первую очередь необходима и даже достаточна их добросовестность, тогда как энтузиазм не имеющих достаточных знаний исполнителей, при плохой работе организаторов производства, может оказаться ошибочен и крайне вреден. И все же – пара слов о массовом трудовом энтузиазме, неожиданно (скорее, запланированно) охватившем страну в 1935-м году. Явление само по себе удивительное и вдохновляющее. Так был он или нет? – Не стоит считать циниками всех тех, кто в него не верит. Слишком очевидно, что, даже при наличии большого числа самых искренних «ударников» (которые наверняка были), основной части работников с их разными жизненными обстоятельствами, способностями и здоровьем бывает попросту не до перевыполнения заводских норм. С другой стороны, советские «трудящиеся массы» закономерно узнавали о собственных инициативах от своего «передового отряда» – партии, так что даже явная постановочность образцовых стахановских подвигов сама по себе никого не смущала, – массовый энтузиазм был, потому что ему надлежало быть. Это как разница между «социалистическим реализмом», демонстрирующим «правду жизни» (торжествующий социализм), и никчемным бытовым реализмом с его «правдой факта»: все, что может предъявить последний – это только что-то случайное, ненужное и досадное, что следует лишь «изживать». |
Бауманский о «максимуме» и «оптимуме»
Здравые мысли о рациональной организации труда, о том, что «только оптимальная интенсивность труда обеспечивает максимальную производительность этого труда», по существу аннигилирующие насаждаемый ВКП(б) ударнический энтузиазм – апогеем которого станет с 1935-го года т.н. «стахановское движение» – звучат в это время, весьма ярко и убедительно, также из стен лидировавшего в соцсоревновании Бауманского.
Кафедрой Краснознаменного МММИ им. Баумана «экономика и организация производства» заведует тогда проф. О.А. Ерманский, в 1931-м году приглашенный Цибартом в институт (об этом рассказано несколько подробнее в рубрике о научных школах МММИ). Цибарт не раз слушал «знаменитую лекцию Ерманского» и у себя в Бауманском (см. Дневник). Как видно, А.А. не был таким уж радикальным сторонником ударничества...
В 1929-м году, в год рождения «соцсоревнования», появилась книга Ерманского, созданная в занимательной форме переписки с воображаемым рабочим, – «Трагедия расточительства в производстве (Письма о рационализации)». Под «расточительством» в книге имелись в виду те упускаемые возможности снижения себестоимости продукции, которые связаны с непродуманной организацией труда; соревнованию же должна помочь рационализация рабочих процессов. Параллельно с этим обнаруживается и то расточительство, которое влечет за собой само соревнование: «рвачески увеличивать дневную выработку далеко не означает снижать себестоимость, а даже наоборот. Снижение себестоимости достигается не максимумом, а оптимумом в расходовании всех сил». Вообще, напряжение физических сил «возможно только в узких пределах, да и продолжаться оно не может долго» (изд. 1929 г.). Вывод тот, что «нам надо воспользоваться начавшимся соревнованием, чтобы поднять его на высшую ступень. Для этого надо энтузиазм перевести на другие рельсы – на путь рационализации»... Но, как бы ни был убедителен и благонамерен Ерманский в своих рассуждениях, на практике и в горячих сердцах вождей «соревнование», бег наперегонки, и «оптимум», размеренный труд, остаются несочетаемыми, и чем дальше, тем их антагонизм будет только острее.
В 1930-м книга расширена и переиздана – подхватывая очередной партийный лозунг, Ерманский несколько изменяет название – теперь это «К борьбе с потерями (Письма о рационализации)».
Наконец, в 1934-м году, зав. кафедрой организации труда в МММИ им. Баумана Ерманский выпускает «Письма о рационализации» третьим изданием. «Подумай, – обращается он к своему виртуальному другу-рабочему, оценивая практику ударничества, – какое огромное преступление перед революцией совершают все те, кто сознательно или бессознательно повинны в этом разбазаривании сил»...
|
«Настоящая книжка построена в форме писем и рассчитана на широкие круги рабочих, охваченные движением ударничества и соцсоревнования», – поясняет Ерманский во вступлении к своей книге. – «Охватившее всю страну соревнование весьма важно, поскольку оно – проявление общественности, активности в рабочей среде» (из письма одиннадцатого). По существу дела – следующее. «В "Комсомольской правде" (статья т. Ильина) сообщалось о рвачах, которые "берутся за дьявольский темп работы с тем, чтоб, разбазарив себя в несколько месяцев, зашибить монету, а там – хоть трава не расти: что будет после – их не волнует". И потому "есть бригады, повышающие одновременно и выработку и брак, и производительность труда и себестоимость продукции". Хорошо это? «Ведь уже само это слово производительность труда показывает, что труд бывает производительный и непроизводительный. Можно трудиться много, но непроизводительно. Дело, стало быть, не только в количестве затраченных сил, но и в качестве, в целесообразности этой затраты. «Вот в том-то и дело, что напряжение сил в работе должно быть не слишком малым (минимальным) и не слишком большим (максимальным). Тут не годится ни лодырничанье, ни хищническое выматывание сил. Тут требуется соблюдать не минимум и не максимум, а оптимум. Это единственно рациональное решение задачи и для государственного хозяйства и для каждого рабочего. Так лучше и для производства и для здоровья работающих в нем людей.» |
Заметим тут, что сдельная оплата труда, стимулировавшая «дьявольский темп работы», будет особо пропагандироваться и при будущем «стахановском движении». Также пророческими окажутся слова автора о «машине», запускаемой «отсталым рабочим» с «бешеной скоростью».
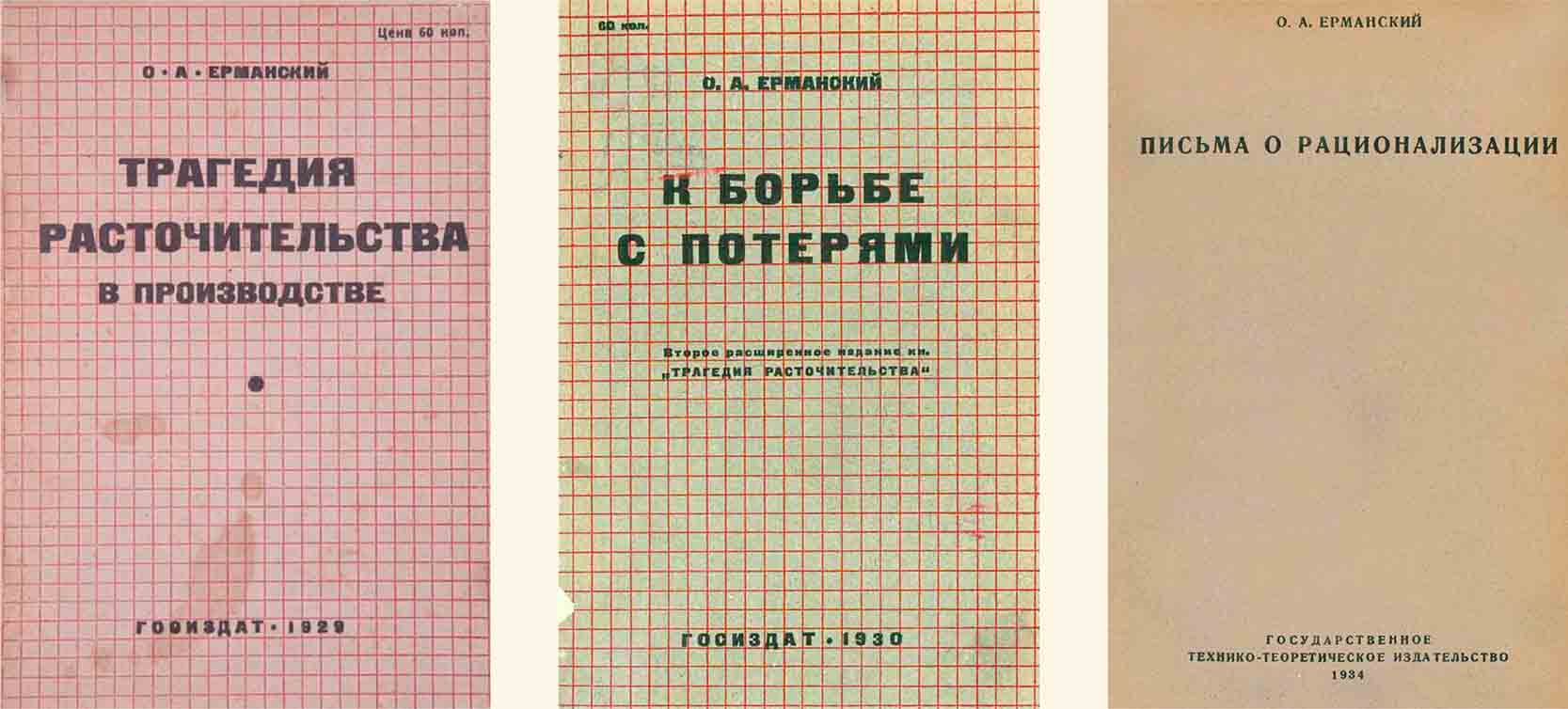
Крамольность трезвых мыслей Ерманского была партийной общественностью, разумеется, распознана еще до «стахановства». Однако на его защиту в 1934-м году становится сам нач. ГУУЗа Петровский. «...Мы знаем о серьезных фактах отставания [от США] в самых элементарных организационных областях, и это отставание надо ликвидировать во что бы то ни стало. … некоторые кафедры проделали серьезную работу в этой области. … Серьезную работу проводит также и кафедра организации производства Краснознаменного Московского механико-машиностроительного института, возглавляемая проф. Ерманским. Сила проф. Ерманского заключается в том, что он хорошо изучил и в увлекательной форме преподносит своим слушателям организационный опыт, накопленный в капиталистических странах. Но он значительно слабее, когда речь заходит о теории и практике большевизма в организационной области.
Мы здесь обращаем внимание на любопытное письмо (главу) в книжке проф. Ерманского "Письма о рационализации". В письме о соцсоревновании – письмо одиннадцатое – ярко охарактеризованы извращения соцсоревнования, но не выявлены его положительные стороны. Говоря об этой слабости курса проф. Ерманского, я ни в коей мере не имею в виду солидаризироваться с придирчивыми статьями т. Исакова, напечатанными в журналах "Под знаменем марксизма" и "Пролетарская книга и революция". Нет никакого сомнения в том, что в отношении кафедры по организации производства нам особенно нужна революционная бдительность. Но бдительность ничего общего не имеет ни с придирками, ни тем более с передержками. Мы обязаны отметить то положительное, что имеется в работах проф. Ерманского, и подвергать марксистской критике недостатки его работ...» (Петровский, Втузы...).
Втузы и «стахановство»
«Все учебники надо пересмотреть и по-новому составить»
Меж тем, уже в мае 1935-го года Сталин скажет, в своей манере, как будто пустые, но на самом деле страшные слова об освоении «кадрами» техники – нужно «выжать из неё всё, что она может дать».
А с конца августа 1935-го ВКП(б) запускает т.н. «стахановское движение» – практически неприкрытую кампанию по невиданному и ничем не обоснованному увеличению норм выработки на производствах. При некоторых, что называется, загадочных обстоятельствах забойщик Алексей Стаханов добыл в ночь с 30 на 31 августа за смену 102 тонны угля при норме в 7 тонн, а 19 сентября – 227 тонн, и т.д. При этом печать не скрывает, что повторять эти рекорды ежедневно не может даже он сам, – из чего, вообще говоря, уже следует, что к вопросу о собственно нормах все подобное отношения не имеет; но партия этого не замечает. Ориентиры заданы, и это далеко не какие-нибудь 5 или 10 процентов роста производительности труда, над которыми до сих пор бились заводы, ученые кафедры, ЦИТ (Центральный институт труда) НКТП; посыл чудесного явления недвусмыслен – если партии потребуется тысяча процентов, то будет и тысяча.
Должной производительности труда, как установил вождь (о чем он расскажет 17 ноября на I-м всесоюзном совещании стахановцев), «мешали старые технические нормы и люди, стоявшие за спиной этих норм». Именно нормы, те самые оптимумы Ерманского, и, недвусмысленно-угрожающе, подозреваемые «за их спиной» люди.
Казалось бы, нормы нормами, а перевыполнение перевыполнением, но Сталин замыслил именно произвольное повышение норм (точнее, требований). Новое «движение» не только демонстрирует заоблачные рекорды, но и «требует создания новых, более высоких технических норм, проектных мощностей, производственных планов». «...Как быть с техническими нормами вообще? Нужны ли они для промышленности или можно обойтись вовсе без всяких норм? / Одни говорят, что нам не нужно больше никаких технических норм. Это неверно, товарищи. Более того, это глупо. Без технических норм невозможно плановое хозяйство. Технические нормы нужны, кроме того, для того, чтобы отстающие массы подтягивать к передовым. Технические нормы – это большая регулирующая сила, организующая на производстве широкие массы рабочих вокруг передовых элементов рабочего класса. Следовательно, нам нужны технические нормы, но не те, какие существуют теперь, а более высокие» (Сталин, речь на I-м...). Правда, нормы выработки, равные достижениям Стаханова и Бусыгина, «были бы нереальны для настоящего времени», и потому, не опускаясь до мелочных подсчетов, гуманный вождь снижает свой запрос сразу вдвое: «нам нужны такие технические нормы, которые проходили бы где-нибудь посередине между нынешними техническими нормами и теми нормами, которых добились Стахановы и Бусыгины». Но и то значит, что какими-то понятными пределами в своих требованиях к рабочему партия себя более не связывает. Потенциальные скептики (явных, конечно, не могло быть), т.е. те специалисты, которые осмелятся вспоминать об объективных законах производительности труда, раскрываемых наукой и излагаемых в учебниках, заранее получают клеймо «сторонников предельческих теорий», скрытых классовых врагов.
|
Важная для дальнейшего изложения категория – «предельчество», «предельческие теории». – «ПРЕДЕЛЬЧЕСТВО – "теория предела", одна из форм контрреволюционного вредительства, направленного к срыву развития народного х-ва СССР, к подрыву его мощи и обороны, к срыву подъема жел.-дор. тр-та. "Теорией предела" враги народа маскировали свои гнусные цели и дела. До прихода на жел.-дор. тр-т Л.М. Кагановича в 1935 г. предельщики, прикрываясь ширмой этой "теории", проповедывали свои взгляды устно, в печати, на кафедрах втузов, в научно-исследовательских институтах НКПС. Контрреволюционные предельщики утверждали, что жел.-дор. тр-т "работает на пределе", что все техн. и хозяйственные возможности тр-та полностью уже исчерпаны, и потому при существующей технике ж.д. не могут грузить больше 53—56 тыс. ваг. в сутки. ...» «П[редельчество] было вскрыто Л.М. Кагановичем в первые же дни его работы на транспорте; он разоблачил антигосударственную линию и практику предельщиков и разгромил их (приказ № 99/Ц от 14/IV 1935 г.). В своем выступлении на Первом Всесоюзном совещании стахановцев [см. 17 ноября 1935 г.] товарищ Сталин говорил об этом ...» (Технический железнодорожный словарь, 1941). Сам Каганович вспоминает: «Вопрос о борьбе с крушениями был неразрывно связан с теоретической и практической борьбой с "предельчеством", так как "предельщики" не только не вели борьбу с крушениями, но и оправдывали их, фальшиво доказывая, что крушения являются результатом только того, что железные дороги работают-де на пределе» (Каганович. Памятные записки ...). – Большевистские методы борьбы с крушениями были предпочтены технормированию. Приказ Кагановича редактировал Сталин, сокративший его для удобства ознакомления с ним широких кругов специалистов. – Таким образом, «железный нарком транспорта» при участии Сталина заложил важную составляющую будущего «стахановского движения» — борьбу с «предельческими теориями», т.е. с научно обоснованными нормами выработки на производствах. Эта борьба выразится в запрете учебников и справочников по технормированию, принудительным повальном переписывании учебников и учебных программ под «стахановское движение», и значительно отразится на жизни МММИ им. Баумана (см. далее). |
Тут уж не «оптимум» и даже не «максимум» – смертельно опасно, как видим, поминать о самих пределах возможного. «Нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики»: сами законы естества партию уже ни к чему не обязывают. «Наступило чудесное время социалистического труда, которое на протяжении ряда десятилетий с великой заботой подготовляла наша большевистская партия под руководством гениальных людей эпохи – Ленина и Сталина» (ФНТ 1936 № 1, проф. П. Валескалн, Стахановское движение и задачи высшей школы и научных учреждений).
Вместо технически обоснованных норм, требующих, соответственно, средних усилий и трудных для половины рабочих, партия задает сталинско-стахановские псевдо-нормы, превратившие в «отстающие массы» практически всех, а их «подтянутый к передовым» труд – в то самое, по определению Ерманского, хищническое выматывание сил. На смену собственно техническому нормированию («норма должна быть объективной и технически обоснованной. Поэтому не всякое нормирование по времени будет техническим нормированием» – см. Пирожков...) – приходит нормирование, так сказать, идеологическое: «нормами» отныне должны именоваться произвольные властные требования. Учебники технормирования, в первую очередь процитированный здесь учебник Пирожкова и Осминкина, объявят «заведомо вредными».
«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится. Отсюда высокие нормы выработки» – эта знаменитейшая (в первой своей части) фраза Сталина, слишком похожая на издевку, сказана им в той же речи на I-м всесоюзном совещании стахановцев.
«При капитализме машины служат для выжимания прибавочной стоимости, для закабаления рабочих. Те же машины при социализме раскрепощают и облегчают труд, способствуют организации лучшей веселой жизни» (ФНТ, Валескалн). Если система Тейлора была, по определению Ленина, «научной системой выжимания пота», то организаторов «стахановского движения» человеческий пот не волнует вообще, ибо жизнь победившего пролетариата по определению веселая, – некоторую проблему для них представляют лишь пределы возможностей «выжимания всего» из техники. Властный идиотизм легко развеивает сомнения. «Стаханов и Бусыгин показали путь, как можно из техники выжать максимум», – писал Орджоникидзе Слету стахановцев автотракторной промышленности в октябре 1935-го года; «Стаханов побил всех наших ученых, ученых Европы и Америки». «Стахановско-бусыгинское движение открывает в нашей промышленности новый этап ленинско-сталинского соревнования. Это движение лучших ударников опровергло "истины", считавшиеся незыблемыми: так называемые "технически обоснованные нормы" – плоды аппаратно-бюрократического творчества – отброшены прочь» (из Обращения этого слета). «Как быть, – вопрошает Сталин на слете стахановцев 17 ноября 1935-го, – если старые технические нормы перестали соответствовать действительности, а наши рабочие и работницы успели уже на деле перекрыть их впятеро, вдесятеро? Разве мы когда-либо присягали на верность нашей отсталости. Кажется, не было этого у нас, товарищи? (общий смех)»; «Толкуют о науке. Говорят, что данные науки, данные технических справочников и инструкций противоречат требованиям стахановцев о новых, более высоких технических нормах. Но о какой науке идет здесь речь? Данные науки всегда проверялись практикой, опытом...» Сталинские слова о «старых нормах», которые «перестали соответствовать действительности», идеально бессмысленны: теоретически можно представить, что наука и техника породили какие-то новые сверхэффективные станки, но никак не новые сверх-нормы выработки для уже существующих станков... В ГУУЗ НКТП раскрывают источник этих чудесных ресурсов (ЗПК 1935 № 21, Гр. Беляков): «Стахановское движение, как новый, высший вид социалистического соревнования, преодолевающего нынешние технические нормы, существующие проектные мощности, производственные планы и балансы [это незакавыченная сталинская цитата], явилось результатом огромной созидательной работы нашей партии...». Т.е., прямым текстом, ничего, кроме фантазий нового «кремлевского мечтателя», за ними не стояло.
Если в конце 1934-го года Сталин, характеризуя реформы промышленности 1928–1932 гг., еще признает, хоть и без особого сожаления, что тогда «наломали машин», то теперь он фактически призывает ломать машины: новые, абсурдные «нормы» надо было вводить для уже имевшихся машин. Той очевидности, что, если бы убытки от преждевременного износа и аварий не превосходили упущенных выгод от переэксплуатации техники, то технических норм бы и не существовало, для безумного вождя не существует.
25 ноября 1935 г. Петровский, на расширенном заседании Совета КрМММИ им. Н.Э. Баумана совместно с руководящими и научными работниками московских втузов НКТП, делает доклад «Стахановское движение и задачи втузов». «Я знаю, что среди части наших преподавателей, как и среди части инженерства, существует настроение некоторой растерянности. Инженеры учились, овладевали высотами техники, а между тем новую эру в технике возвестили не они, а возвестили ее Стаханов и Бусыгин, которые не обучались ни в каком вузе. За ними идут теперь десятки, сотни и тысячи других передовых рабочих, которые дают новые нормы, открывают новые возможности и их реализуют. Некоторые профессора со смущением глядят на своих питомцев, на то, как рабочие исправляют их учебники, их нормы...» Лишь один из этих профессоров назван Петровским по имени – Ерманский. Снова, и почти теми же словами, Петровский пытается защитить ученого и предупредить его о смертельной угрозе. «Два слова о кафедре организации производства в КМММИ. В учебнике проф. Ерманского вы очень мало найдете о социалистическом соревновании вообще. В письмах о рационализации он уделяет этому вопросу кое-какое внимание, но лишь под углом зрения критики извращений социалистического соревнования. Против всяких извращений надо бороться, но борьба против извращений не может заменить об'яснения, освещения и обоснования великого значения социалистических методов труда. Очень много у проф. Ерманского ценного и необходимого материала из опыта капиталистических стран, но нам нужно освещать и наш собственный опыт, тот грандиозный социалистический опыт, который обеспечивает возможность не только догнать, но и резко перегнать капиталистическую технику. Я здесь опять повторяю, что при составлении учебника по организации производства надо в первую очередь учиться у наших передовиков рабочих...» (ЗПК 1935 № 22 /ноябрь/).
О работе Г.А. Шаумяна Петровский, как и другие критики Ерманского, не вспоминает.
|
Понятно, что для Ерманского за этой дискуссией стоял вопрос жизни и смерти. «Смеяться» над полоумием, именно и вынуждающим «пускать машину с самой большой, бешеной скоростью, чтоб она только-только не треснула тут же», уже не приходилось. «Ничего нельзя понять в стахановском движении, – говорит он теперь, – если не оценить его как победу рациональной организации производства над всеми другими подходами к задаче увеличения количества продукции. Внезапный характер этого взрыва, ошеломляющий характер достижений стахановцев указывают на то, что дело здесь в качественной стороне, а не только в количественной. Тов. Сталин давно, в период первой пятилетки, сформулировал задачу создания техники, которая "решает все"...» «Инженерно-административные же элементы наши, к сожалению, слишком долго воспитывались под влиянием тех традиций, которые позаимствованы от времен Тейлора, взяты из-за границы, из капиталистических стран и совершенно не подходят к нашим социалистическим условиям.» «Они (рабочие) сделали революцию главным образом именно введением разделения труда.» «Проф. Ерманский закончил свое выступление замечанием, что стахановское движение – праздник для работников организации производства» (ЗПК 1935 № 22 /ноябрь/)... (То есть, по этим словам Ерманского, стахановскую революцию в производительности труда совершила внезапно выросшая в СССР – «впятеро, вдесятеро»? – организация производства. Во что, конечно, еще труднее поверить, чем в то, что внезапно возник массовый энтузиазм. Во всяком случае, сами «инженерно-административные элементы», как раз и занимающиеся организацией производства, вплоть до рекордов Стаханова этого отнюдь не замечали. – Любопытно еще отметить, что «выжиматель пота» Тейлор, согласно этой отчаянной речи Ерманского, в социалистических условиях должен быть оставлен далеко позади...) Тем не менее, доверия к Ерманскому нет. Когда профессор МММИ М.С. Саверин (в газете «За индустриализацию» от 8 декабря 1935 г.), видимо пытаясь хоть в какой-то степени спасти дело, предлагает передать задачу пересмотра нормативов от «организаторов производства», фактически идеологов, самим технологам и экономистам («слить воедино технологию, технологическое нормирование, экономику и организацию производства») – и, естественно, попадает под огонь критики со стороны руководителей кафедр организации производства – последние вспоминают о «положении дел» в МММИ, ясно, как о дающем кров Ерманскому. «...Что же предлагает проф. Саверин? Этой же профессуре, сейчас только начавшей пересматривать свою практику, корректируя программы и исправляя учебники (причем подчас еще механически, заменяя лишь одни нормы другими), поручить все организационно-техническое воспитание будущих молодых инженеров. В данном случае мы находим предложения, которые объективно направлены к тому, чтобы организационно разоружить молодых специалистов...» (ЗПК 1935 № 24 /декабрь/, инж. Л.М. Хейфец); «мы склонны думать, что позиция проф. Саверина навеяна чисто местными условиями, характеризующими положение дел в МММИ [курсив наш], и что она вряд ли встретит поддержку других втузов» (там же, проф. И. Бурдянский). Партком МММИ обеспокоен. 29 декабря в дневнике А.А. упоминается: «пошла беседа о Ерманском». Угроза в адрес МММИ в целом, впрочем, – содержит поклеп. К сожалению, и в МММИ находятся энтузиасты «стахановства». На заседании 25 ноября 1935 г. молодой (вскоре расстрелянный) профессор Иоэльсон рассказывает о рабочем, жаждущем увеличить себе норму выработки, и трусливом инженере, не решающемся запустить импортный станок на предельную скорость. «Он [рабочий] хочет это сделать, переведя машину на четвертую скорость, а фирма, не предполагая, что мы до четвертой скорости дойдем, не проинструктировала относительно способов перевода. Обычно машина работает на третьей скорости.» «Я не решаюсь, – говорит главный инженер завода. – Пришлите мне комиссию. Там может что-нибудь сломаться. / – Стахановство состоит не в поломке машин, а в их наилучшем использовании. Вы – инженер, посмотрите, проверьте его [чьи?] расчеты. / – Может быть, все-таки комиссию пришлете...» В 1937-м году проблема Ерманского была окончательно снята – он арестован (и погибнет в заключении). Победившая установка исключительно наглядно представлена, например, в фильме «Трактористы» (1939), где главный герой именно и заставляет бригаду пустить трактор с самой большой скоростью. Незадачливый отстраненный бригадир реагирует так же, как «толковый токарь» Ерманского, а аргумент нового бригадира точь-в-точь тот же, что и «отсталого рабочего». Комбайн застревает, трещит, но в конце концов, конечно, понесся... А в заключительных кадрах фильма 1940-го года «Светлый путь», о «золушке»-многостаночнице, весьма символически – преодолевая законы естества – автомобиль летит в небесах. Об аварийности на производстве можно косвенно судить по начавшимся тогда кампаниям против вредителей, специализировавшихся именно на поломке машин. |
Как ни странно, втузы, в которых Петровский только что ввел лишние свободные от занятий дни шестидневки, власти не заставляют переходить на стахановские методы – а тут первое, что приходит на ум, это сокращение срока обучения. История сохранила память о кратком периоде замешательства среди «работников образования» – что делать?
|
На заседании президиума ВКВТО 26 ноября 1935 г. декан экономического ф-та Тимирязевской академии В.О. Уласевич рассказывает: «На-днях я разговаривала с группой студентов Тимирязевской с.-х. академии. Они прямо поставили мне вопрос: "Мы – стахановцы, так как хорошо учимся, выполняем общественную работу". Необходимые ориентировки будут скоро получены. «В последнее время в вузах много разговоров о стахановском движении среди студентов. Доходит до того, что студенты объявляют себя стахановцами учебы. Некоторые комсомольские и профсоюзные организации договариваются до того, что "лучший специалист в мире будет подготовлен внедрением в вузы стахановских методов учебы" (решение Томского горкома ВЛКСМ). |
Итак в отношении студенчества ограничились, в основном, сравнительно безвредным «движением отличничества»: «отличничество должно стать массовым» и т.д. (ЗПК 1936 № 10 /июль/). В результате, претендентов на отличничество оказывается слишком много, администрации вузов как могут этому сопротивляются: «Здоровое и похвальное стремление студента учиться на "отлично" в ряде вузов не поощряется, а ставится в вину студенту, превращается в его порок»; «Надо положить предел имеющему кое-где место издевательству над отличниками учебы в вузах; нужно ликвидировать бюрократические препоны, мешающие росту движения за отличную учебу, восстановить в правах сотни отличников в настоящем и расчистить путь для роста новых тысяч отличников учебы» (Советская наука 1938 № 1, Т. Глек, Недопустимые извращения идеи социалистического соревнования).
Но дело было не в студентах. Главная забота ВКП(б) состоит в переэксплуатации рабочих, «стахановское движение есть чисто производственное движение». Того, насколько это движение оказалось полезно производству – а на этот счет имеются и самые обескураживающие сведения, – мы здесь не касаемся.
По сути, «за спинами норм» действительно «стояли люди» – рабочие. Можно представить себе, что испытывал рабочий – может быть, немолодой, нездоровый и семейный, в отличие от Стаханова – которому вдруг предписали трудиться на треть интенсивнее (это, кажется, реальная средняя цифра, было и значительно больше). Рабочий класс не оставляет письменных свидетельств, его стонов и проклятий история не слышит. О жестокости «стахановства» можно только догадываться.
Что до той роли, которая была отведена ученым и преподавателям втузов, то она сводится к их соучастию в преступлении над рабочими – произвольному перекраиванию норм эксплуатации машин. Пишущий класс запечатлел для истории самые выразительные свидетельства лицемерия и абсурдизма, которыми жестокость сопровождалась.
«То, что было до сих пор освящено всякими "научными нормами", "учеными" людьми и старыми практиками, эти наши товарищи-стахановцы опрокинули вверх ногами, выбросили ко всем чертям, как устарелое и задерживающее наше движение вперед». А потому «все учебники надо пересмотреть и по-новому составить», – дает указание Орджоникидзе (на Первом всесоюзном совещании стахановцев).
В декабрьском 1935 г. номере «Высшей технической школы» помещается заявление созванного ВКВТО совещания профессоров московских вузов и представителей ГУУЗов Сталину и Молотову: «Сделаем высшую школу достойной великого стахановского движения».
«...Совещание стахановцев и ваши, Иосиф Виссарионович и Вячеслав Михайлович, выступления на этом совещании всколыхнули всю профессуру и студенчество высших учебных заведений. Высшая школа в настоящее время находится в состоянии напряженного искания ответа, который был бы достойным великого стахановского движения.
Совещание профессоров московских высших учебных заведений и представителей главных управлений вузов наркоматов, созванное Комитетом по высшему техническому образованию при ЦИК СССР, обсудив новые задачи, вставшие перед высшей школой, обращается к вам со следующим заявлением:
Комитет, руководители и профессора высших учебных заведений обязуются приложить максимальные усилия для ликвидации разрыва между теорией и практикой, который с такой глубиной был подчеркнут в ваших выступлениях, а также в речах тт. Кагановича, Ворошилова, Орджоникидзе, Жданова и других вождей партии.
Отставание теории от практики, которое наблюдается и в высшей школе, находится в неразрывной связи с общим состоянием и работой высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений.
Совещание считает, что основной задачей высших учебных заведений в данный момент является пересмотр содержания преподавания в высшей школе с учетом опыта стахановского движения и лучших достижений мировой науки.
Комитет, главные управления учебными заведениями наркоматов и профессора высших учебных заведений берут на себя перед СНК СССР и ЦК ВКП(б) обязательство в кратчайший срок пересмотреть все программы и учебную литературу, которые будут перестроены и приведены в полное соответствие с уровнем современного состояния науки и техники и наших достижений. Пересмотр программ и содержания вузовских курсов будет направлен на решительное изъятие всего консервативного и лженаучного, а вопросы, связанные с проектными мощностями, производительностью труда и техническими нормами, будут заново переработаны.
Совещание считает обязанностью высших школ в целом и отдельных профессоров обратить особое внимание на изучение организации и технологии производства, а особенно технического нормирования, отставание которых от достижений стахановцев совершенно нетерпимо...»
Подписывают заявление – предс. ЦК профсоюза работников высшей школы проф. П.И. Валескалн, от МО СНР (Московского отделения секции научных работников) Александров В.А., члены президиума и гос. инспектора ВКВТО проф. Раздобреев В.И., Волынский С.Б., проф. Пинкевич А.П. и др., представители наркоматов и руководители и профессора вузов. Обращает на себя внимание, что подписи председателя ВКВТО Г.М. Кржижановского под заявлением нет (надо ли это понимать как его несогласие с программой переписывания учебников?). Нет и подписей Цибарта или каких-либо представителей МММИ им. Баумана. Впрочем, нет также подписи Петровского.
|
Вот еще одно из характерных произведений жанра публичных обращений и заявлений, которое приводим здесь потому, что в нем упоминается МММИ. Предваряя его содержание: в какой мере работа проф. Беспрозванного была именно «стахановским» достижением, а в какой – научным, автор данного очерка судить не компетентен. ОБРАЩЕНИЕ РАБОТНИКОВ НАУКИ К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ Великое дело социалистического строительства получило новое яркое выражение в стахановском движении, всколыхнувшем всех трудящихся Советского Союза. Старые нормы оказались опрокинутыми, как только Стахановы, Бусыгины, Виноградовы показали пример образцовой работы и дали новые, невиданные ранее результаты. Академики: А.А. Скочинский, А.М. Терпигорев, К.И. Шенфер и профессора: А.И. Абрикосов, Н.Н. Бурденко, В.П. Бушинский, П. И. Валескалн, В.И. Вегер, К.А. Круг, В.С. Кулебакин, П.Ф. Кочеулов, Н.П. Никитин, И.С. Попов, А.С. Пржеборовский (Фронт науки и техники 1936, № 1) |
«Первой же контрольной работой, заданной технической школе, был пересмотр существующих учебников и учебных программ» – ибо «стахановское движение опрокинуло и опрокидывает старые нормы, проектные мощности, коэфициенты, существующие планы и балансы. Оно показало отставание науки от практики социалистического строительства. Оно дало новый огромный материал для критического пересмотра всех и всяких учебных положений, программ, учебников и пособий» (редакционная статья «Основное звено» в ЗПК 1936 № 2 /1 февраля/). Деятель ГУУЗ инж. И.М. Пугач в статье «Переработка программ и учебников» (ЗПК 1936 № 1), пояснив в очередной раз, что «стахановское движение разбило вдребезги множество "технически обоснованных норм" и "предельных мощностей" во всех отраслях нашей промышленности», делает вывод: «все это выдвинуло неотложную задачу коренного пересмотра программ, учебников, учебных пособий и справочников, по которым мы готовим и на которых мы воспитываем студентов наших втузов и техникумов. Эта задача непосредственно вытекает из решений декабрьского пленума ЦК ВКП(б). / Выполнение этой большой и чрезвычайно ответственной работы поручено по линии высших технических учебных заведений персонально двумстам лучшим профессорам втузов … ответственность за выполнение этой работы по каждому институту возложена на его директора».
Директор Цибарт за эту работу как будто бы взялся, однако ударником в ней явно не был. В январе 1936-го года в журнале «Фронт науки и техники», под рубрикой «Стахановское движение и наука», вслед за руководящими трудами профессоров Валескална и Красноперова, академика Терпигорева и обстоятельной статьей директора МЭИ И.И. Дудкина «Стахановское движение во втузах», помещена и сравнительно небольшая статья Цибарта «Московский механико-машиностроительный институт им. Баумана перестраивается». (Далась она А.А. видимо нелегко: «День прошел очень напряженно. Весь день еще уединялся и писал статью для Фронта науки и техники», – Дневник.) «Для Московского Механико-машиностроительного института им. Баумана выводы и уроки из стахановского движения должны быть сделаны чрезвычайно серьезные, так как технические нормы и коэффициенты, по которым работают наши крупнейшие машиностроительные гиганты, устанавливались при участии профессуры этого института и на основании учебников и учебных пособий, которые составлялись его научными работниками. Особенно радикально должны перестроиться кафедры технологических специальностей института: механо-сборочного производства, литейного дела, кузнечного производства, станкостроения и др. И в области учебного процесса в смысле его организации, методики преподавания, а также и в отношениях студентов к учебе должен быть проведен ряд практических мер, которые позволили бы резко улучшить учебный процесс. / Студенческий коллектив и профессура нашего института во всех его звеньях активно взялись за перестройку своей работы...»
«Перестроилась» кафедра И.М. Беспрозванного (об этом ниже), – остальным это только предстояло, причем «радикально».
Как же именно предполагалось переписывать программы и учебники? С нормами выработки дело было сравнительно простым – достаточно было собственно нормы заменить на завышенные требования, сориентировать их не на средние и технически обоснованные показатели, а на «лучшие образцы». Но необходимой также была удивительная «аналитическая работа» – «расчеты и теоретические обобщения»: эмпирические формулы и коэффициенты оказались «по самой своей природе реакционными», и их надо было научиться обходить, опираясь в т.ч. на некие непостижимые факторы, буквально, «скрытые от непосредственного восприятия»...
|
«В учебной литературе должны фигурировать не отсталые приемы работ и нормы выработки, а лучшие образцы.» «В решении декабрьского пленума Центрального комитета (1935 г.) указывается на необходимость произвести расчет норм оборудования. Это решение вызвано тем, что в большинстве случаев нормы оборудования занижены. В практике работы наших заводов, а следовательно, и в технической литературе основное внимание было обращено на так называемые "средние нормы", которые исходили из средней квалификации рабочего, из средних условий работы, средней организации труда и т.п. В отдельных случаях, а их немало, было даже равнение на узкие места. / Пленум Центрального комитета указал, что нам надо решительно отказаться от недоиспользования оборудования, неизбежного при капиталистических условиях.» «Если на заре стахановского движения основной упор был взят на издание специальной стахановской литературы, то теперь нужно, чтобы вся техническая литература стояла на уровне стахановского движения», а именно: «если в технической литературе того периода преобладал показ отдельных стахановцев и их методов работы, то сейчас она должна быть уже аналитической, насыщена расчетами и теоретическими обобщениями». «У нас уже имеются формы более высокой организации труда. Отсюда ясно, что нельзя преподносить читателям [учебников] эмпирические формулы в застывшей форме, не вскрывая тех условий, от которых они зависят. Иначе мы оставим читателя в плену привычных, быть может приемлемых в свое время, норм и понятий, но сейчас решительно опровергнутых практикой. Проф. Чудаков совершенно правильно указывает на то, что условные расчетные формулы являются по самой своей природе реакционными. Они заставляют конструктора невольно придерживаться старых конструктивных форм.» «Читатель [учебника] воспринимает числовое выражение коэфициентов как нечто данное, не подлежащее изменению. У читателя вырабатывается привычка оперировать этими величинами при расчетах, проектах, нормативах и т. д. Для многих читателей опубликованный коэфициент приобретает силу закона. Автор учебника иногда не подозревает, как опубликованный коэфициент превращается в реакционную силу в борьбе за овладение техникой...» «...А овладеть техникой – значит вскрыть не только тело, но и душу работы, знать не только приемы, но и овладеть скрытыми от непосредственного восприятия процессами.» (Инж. В.Г. Тепленко, зам. управляющего ОНТИ. О пересмотре технической литературы. / ЗПК 1936 № 4, март) |
Апрель 1936-го: «одной из первоочередных задач высшей школы в настоящее время является пересмотр и переработка используемой во втузах учебной литературы в сторону очистки ее от "предельческих теорий", негодных заниженных норм и устаревших установок, насыщения ее последними достижениями науки и техники, лучшими показателями работы стахановцев»; «пересмотру должна была подвергнуться в с я учебная литература, используемая во втузах по специальным дисциплинам»; «профессорско-преподавательский состав еще не решается развернуть в полной мере критику и самокритику всего устаревшего, отжившего, отвергнутого жизнью»; отмечается «необходимость привлечения к работе комиссий представителей производства и рабочих-стахановцев». Это цитаты из органа ВКВТО (ВТШ 1936 № 4, А. Люце, Как идет пересмотр учебников).
29 апреля «в заседании президиума ВКВТО» заслушивается и обсуждается доклад профессора-доктора Н.И. Карташова (Томский электро-механический институт ж.-д. транспорта) – «Мой метод» (ВТШ 1936 № 5). «Инициатива этого ученого, получившая исключительную поддержку наркома путей сообщения т. Л.М. Кагановича, нашла широкий путь к большинству деятелей высшей школы» (там же, Метод профессора Карташова – в практику высшей школы). Проницательный профессор, между прочим, обнаружил, что «весовые нормы были у нас чрезвычайно занижены, что есть все возможности водить поезда значительно большего веса и с большей скоростью, чем это допускалось установленными нормами», а чтобы подойти к этому открытию, он «прежде всего тщательно изучил достижения стахановцев-кривоносовцев». Сущность же его метода – гениальное просто! – заключалась в «вовлечении стахановцев в дело пересмотра учебников». «...Проф. Карташов показал пример не только понимания, но и претворения в жизнь указания великого вождя народа тов. Сталина о том, что "настоящими руководителями-большевиками могут быть только руководители, которые умеют не только учить рабочих и крестьян, но и учиться у них" (из речи на Первом всесоюзном совещании стахановцев). Этот ученый вместе со своими сотрудниками пришел в депо, к рабочим ж.-д. транспорта учиться у них, освоить достижения стахановцев транспорта и перенести их в науку.» «Самым ценным в методе проф. Карташова является его простота и наряду с этим его исключительная эффективность», говорит профессор МАИ Л.Е. Левинсон; выступают и другие профессора. «На примерах работы академиков Лысенко и Эйхфельда в области сельского хозяйства председатель ЦК союза работников высшей школы проф. П.И. Валескалн показывает, как в результате тесной связи теории с практикой можно внести коренные изменения не только в давно сложившиеся научные представления, но и в самое производство. То же самое мы видим и в работе проф. Карташова, указавшего еще одну, несомненно, более высокую форму связи теории с практикой.» «Об эффективности опыта проф. Карташова говорят уже первые результаты применения его метода в практической работе, – дает общую установку член президиума ВКВТО С.Б. Волынский. – Теперь важно его изучить, тщательно проанализировать, с тем, чтобы подхватить его во всех направлениях, положить начало большой работе по распространению этого опыта во все отрасли науки».
(Упоминание злополучных Т.Д. Лысенко и И.Г. Эйхфельда действительно в этом контексте весьма уместно. Неуправляемая наука с ее принципиально беспартийными законами природы представляла постоянный соблазн для всевластного вождя – ему мнилось, что и в этой сфере, от технически обоснованных норм выработки и до законов наследственности, его большевистские «кадры» смогут «решить все».)
Вся эта активность протекает в ВКВТО как будто помимо его председателя Г.М. Кржижановского. Ни единого его слова в поддержку стахановского движения и пересмотра учебников в журнале нет.
Естественно, что в услугах комитета Кржижановского партия более не нуждается. 21 мая 1936-го года ВКВТО преобразован в ВКВШ: «Образовать при СНК СССР Всесоюзный Комитет по Высшей Школе, упразднив Всесоюзный Комитет по Высшему Техническому Образованию. / Распространить руководство ВКВШ на все вузы, независимо от подведомственности (кроме военных и подведомственных Всесоюзному Комитету по делам искусств)». Кржижановский новый комитет уже не возглавляет: «назначить тов. Межлаука Ивана Ивановича председателем Комитета» (Постановление ЦИК и СНК СССР). С июля 1936 г. вместо журнала ВКВТО «Высшая техническая школа» выходит журнал ВКВШ «Высшая школа», в том же объеме и сохраняя тех же подписчиков; временно исполняющий обязанности редактора – бывший член президиума ВКВТО Сергей Борисович Волынский, он же заместитель Межлаука.
Отмолчаться, впрочем, не дано и Кржижановскому. Через некоторое время под его именем появляется мелкого формата 14-страничная брошюра, тиражом в 200 экз., без даты, издания Белсовета НИТО – «Научные общества и стахановское движение». – «Стахановское движение в корне изменило старые представления о технических нормах, о производственной мощности наших предприятий. ... Возможности научных инженерно-технических обществ (НИТО) в этом смысле поистине неисчерпаемы. ... Тщательно изучая и научно обосновывая практические достижения стахановцев, расширяя их опыт и перенося его на другие предприятия, они должны нанести окончательный удар псевдо-научным и предельческим теориям, тормозящим рост производительных сил нашей страны.» |

Самое позднее к лету 1936-го года работа по пересмотру учебников в основном была выполнена. «Достаточно указать, что по одним лишь втузам НКТП пересмотрено свыше 1 500 программ, 2 000 учебников, что в этом пересмотре участвовало не меньше 10 000 научных и инженерно-технических работников, дабы понять размах и глубину предпринятой реконструкции учебного материала» (ЗПК 1936 № 8 /июнь/). Картину событий образно изложил Петровский: «...многие профессора еще скептически смотрели на стахановское движение, надеясь, что волна спадет, жизнь войдет в свои берега, и учебники останутся теми же, что были раньше. Но волна поднималась все выше, становилась мощной, грозной, сметая на своем пути все старое, заскорузлое, и новая жизнь заиграла во втузах и техникумах» (ЗПК 1936 № 10 /июль/).
Выходит 216-страничная книга «Новый учебник технической школе» (именно в дательном падеже) с предисловием Петровского. Это отчет ГУУЗ НКТП Совету при наркоме тяжелой промышленности о первых результатах работы по пересмотру учебников на основе директив декабрьского (1935 г.) пленума ЦК ВКП(б). «В настоящий момент закончена первая часть работы и выполнена первая часть директив т. Орджоникидзе. Все учебники и учебные пособия пересмотрены. Теперь надо "по-новому составить" те учебники и учебные пособия, которые нужны нашему студенчеству» (цит. по: Высшая школа 1936 № 4, Н. Голубев, Новый учебник технической школе). «Огромный брак – вот что выявил пересмотр учебников, проводившийся в крупнейших втузах Союза с участием авторитетных ученых и практиков. Из 2000 пересмотренных учебников советы "смогли признать вполне пригодными только 50 учебников и немногим более 250 учебных пособий для втузов и техникумов". И авторы и редакторы большинства остальных учебных пособий оказались именно теми работниками, по поводу которых в решении декабрьского пленума ЦК партии указано, что они "оказались в плену заниженных проектных мощностей наших предприятий, рассчитанных в свое время на отсталость наших рабочих и технических кадров"» (там же, Н. Голубев).
Стахановская активность ГУУЗа НКТП, в отличие от активности некоторых других наркоматов, удостаивается даже сдержанного поощрения от Комитета по высшей школе. «В результате огромной работы, проделанной по НКТП, было просмотрено 1856 книг, из которых признано годными только 318 книг, требующими тех или иных исправлений и дополнений – 1275 книг, а 263 учебника и учебных пособий признаны совершенно негодными», – и это, конечно, хорошо. Однако и у Петровского не все в порядке. «...Работа, начатая ГУУЗ НКТП таким широким фронтом, не была доведена до конца и этим в значительной мере обесценена». В частности, «неудовлетворительно поставлено и текущее руководство делом учебной литературы в связи с ее пересмотром. Так например, в Механико-машиностроительном институте им. Баумана до сих пор нет сводной документации по книгам, признанным негодными или подлежащими исправлению. / Все делопроизводство по этим вопросам распылено, находится в хаотическом беспорядке. В результате библиотека института беспрепятственно выдает студентам книги, заведомо вредные (напр., учебник Пирожкова и Осьминкина [Осминкина] по техническому нормированию)» (ВШ 1937 № 1, проф. В.И. Раздобреев, Высшей школе – проверенную учебную литературу).
Да уж, застрявший в библиотеке Бауманского «заведомо вредный» курс технического нормирования, при установке выжимать технику «до дна», отметая реакционные «предельческие теории» и громя классовых врагов – их защитников, был совершенно неуместен. Причем, войну против учебника уже два года как вел и профессор МММИ И.М. Беспрозванный (см. ниже). Примечательно, что опальный учебник тем не менее выдавался студентам: как будто технормирование в МММИ все-таки пытались преподавать – тайком...
Работа, что и говорить, совершалась титаническая. А ведь все это надо было еще напечатать. Вот, для наглядности, то, что касается «стахановских» учебников по техминимуму (в число «пересмотренных» не входят), которые к лету 1936-го года успели создать и издать: «ОНТИ ... был дан срок в 70 дней для того, чтобы найти авторов для 250 книг; для того, чтобы проинструктировать их в отношении содержания; для того, чтобы дать им возможность написать с учетом достижений стахановского движения учебники в 15–20 листов; для того, чтобы эти учебники отредактировать, а затем пустить всю эту лавину в 250 рукописей в типографии ОНТИ. Грубо говоря, четыре тысячи листов должны были написать авторы и причем со знанием дела; 4000 листов – это гораздо больше, чем написано авторами Большой советской энциклопедии за все годы ее существования (раза в 3–4 больше), а типографии ОНТИ должны были издать продукцию, намного превышающую продукцию Большой советской энциклопедии». С такими объемами печати справилась бы только Америка, ибо «у них во много раз более совершенная полиграфическая база, но у нас зато плановость и стахановские методы работы, выжимание из техники всего, что она может дать» (ЗПК 1936 № 9 /июнь/). В этой работе особо отличились Московский институт стали им. Сталина, Московский горный институт им. Сталина, МИСИ им. Куйбышева (ЗПК 1936 № 5 /апрель/). К счастью, не МММИ.
...«1 сентября 1936 года наша техническая школа должна начать свою работу по новым учебным планам, программам и исправленным учебникам» (ЗПК 1936 № 10 /июль/, редакционная статья)...
Видимо, естественные пределы возможного все же дали себя знать – новых учебников к сентябрю 1936-го еще не появилось. План выпуска этих учебников, составленный ГУУЗ НКТП – 868 наименований в ближайшие три года, в 1936-м году предполагалось напечатать пятую часть от этого числа. Количество действительно изданных уже к 1-му кварталу 1937-го года учебников, в которых все «освященное всякими научными нормами и учеными людьми» было «перевернуто вверх ногами» и полетело «ко всем чертям», было само по себе внушительно. (Какая их доля приходилась на авторов МММИ, нам неизвестно.) И все-таки похоже, что это мероприятие пытались спустить на тормозах. Острое недовольство по этому поводу выражает журнал обновленного комитета по техобразованию «Высшая школа».
«После пересмотра учебников наркоматами были разработаны и утверждены планы покрытия потребности в учебниках и учебных пособиях. ГУУЗ НКТП разработал 3-летний план покрытия всей потребности в учебниках и учебных пособиях, наметив к изданию и переизданию в течение 3 лет 868 наименований книг, а на 1936 г. 20% этого количества, или 173 наименования. Фактически же вышло в свет за 1936 г. только 38 наименований... (Т. Глек. Высшей технической школе нужен новый учебник. ВШ 1937 № 5) |
Что было дальше с пересмотренными в стахановском духе учебниками, растворились ли в них мистические стахановские нормы, формулы и коэффициенты, или были в какой-то мере из них вычищены, нам ответить слишком трудно. (На практике нормы были повышены где-то процентов до сорока пяти, этот максимум показало машиностроение, – и то, конечно, чудовищно.) В речи Молотова 15 мая 1938 г. на открытии Первого всесоюзного совещания работников высшей школы, в части, посвященной необходимости выпуска учебников, о предпринятом пересмотре учебников и о Стаханове никаких упоминаний нет. Видимо, пересмотр уже совершился: 17 мая, на приеме этих работников в Кремле, Сталин пьет «за процветание науки, той науки ... которая имеет смелость, решимость ломать старые традиции, нормы, установки, когда они становятся устарелыми, когда они превращаются в тормоз для движения вперед, и устанавливать новые традиции, новые нормы, новые установки». В журнале Комитета по делам высшей школы (с сентября 1938 г. – Советская наука) имется целая постоянная рубрика об учебниках, но о «стахановстве» в статьях этой рубрики говорится далеко не в первую очередь, почти вскользь. Есть среди этих материалов и заметка профессора МММИ И.И. Куколевского (Советская наука 1938 № 4); в ней о стахановских нормах и формулах нет ни слова. «Коллектив кафедры гидравлики и гидромашин Краснознаменного механико-машиностроительного института им. Н.Э. Баумана подготовляет к печати ряд учебных пособий»; «Мы следим за новинками иностранной литературы, в которой, как указывал на совещании работников высшей школы тов. Молотов, есть много ценного, и переводим на русский язык лучшие заграничные учебники», и проч. Во всяком случае, в переводных учебниках ничего подобного быть не могло.
«Кадры решают все»:
стахановские нормы против «закона производительности рабочих машин».
Нагоняй Бауманскому и Цибарту
Энтузиасты стахановского движения, конечно же, были и в Бауманском. Вспомним, к этому месту, уже цитированный выше спор профессора Иоэльсона с заводским инженером. Работая в т.ч. на импортном оборудовании, советские рабочие по примеру стахановцев должны были добиваться скоростей выработки, не предусмотренных в самих странах-производителях оборудования. «Он [рабочий] хочет это сделать, переведя машину на четвертую скорость, а фирма, не предполагая, что мы до четвертой скорости дойдем, не проинструктировала относительно способов перевода. Обычно машина работает на третьей скорости ... Я не решаюсь, – говорит главный инженер завода. – Пришлите мне комиссию. Там может что-нибудь сломаться. – Стахановство состоит не в поломке машин, а в их наилучшем использовании. Вы – инженер, посмотрите, проверьте его [чьи?] расчеты. – Может быть, все-таки комиссию пришлете...»
Достижениями МММИ им. Баумана в борьбе с «заскорузлыми» и «реакционными» техническими нормами власти явно недовольны: «Качество программ, представленных институтом, вначале, оказалось по большинству специальностей безусловно неудовлетворительным» (ЗПК 1936 № 2 /1 февраля/, «Основное звено»). Но такие достижения имеются – в области прокатки и волочения, и (кажется) наиболее крупное – в области резания металла: «Правда, и на этом фоне выгодно просвечивали отдельные работы, главным образом, молодых научных работников КМММИ. В частности, добросовестно и много поработал над новыми программами руководитель курса "Прокатка и волочение" доц. А.И. Целиков и сотрудники этой кафедры. / Большая работа проведена проф. Беспрозванным (теория резания), экспериментальные работы которого на московских заводах особо отмечены в докладе секретаря МК ВКП(б) т. Н. Хрущева».
Что до стахановских экспериментальных работ проф. Беспрозванного. – Тема производительности металлорежущих станков, затронутая академиками и профессорами в обращении к преподавателям вузов, продолжена в мартовском номере 1936-го года «Фронта науки и техники» (М. Пиолунковский, рецензия на книгу «К новым техническим нормам» /Обоснование стахановских режимов резания при точении/).
«Три авторитетных научных учреждения: МММИ – Московский механико-машиностроительный институт им. Баумана, Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков (ЭНИМС) и Оргаметалл получили 8 декабря 1935 г. по указанию Секретаря МК ВКП(б) Н.С. Хрущева от Отдела науки МГК ВКП(б) (т. Кольман) задание: дать научно-обоснованный анализ отставания теории резания от результатов, достигнутых стахановцами.
К 18 декабря 1935 г. задание было выполнено тремя институтами в 10-дневный срок, параллельно и независимо друг от друга была проделана экспериментальная проверка в заводской остановке (было поставлено двести шестьдесят семь опытов) на станках типа ДИП-200.
Работа была проведена под рукодством известных специалистов: проф. Беспрозванного, проф. Каширина, проф. Ачеркана и инж. Белкина. Во главе опытов стояли люди, которые хорошо известны нашей практике и к голосу которых принято прислушиваться, богатый материал, полученный при проведении опытов, собран в прекрасно изданной книжке имеющей свыше 140 стр. убористой печати, десятки таблиц, фигур и фотографий...» «При этом товарищи-профессора констатируют, что на предприятиях работают со значительно преуменьшенными против "рекомендуемых" режимами резания, т. е. резервы фактически еще больше.
Авторы предлагают немедленно изъять из употребления книги Пирожкова и Осьминкина [Осминкина], Иоффе, переработать "Справочник металлиста", перестать пользоваться формулами Кроненберга.»
«Тут необходимо, все-таки, остановиться еще на некоторых обстоятельствах. ... Все три почтенных института обладают, как это показал и рецензируемый труд, ценными работниками, умеющими хорошо применять теоретические положения к практике и делать из практики теоретические выводы. Но почему же они после речи товарища Сталина академикам 4 мая 1935 г., в которой он указал резервы, на возможности с людьми, овладевшими техникой, поднять производительность труда в 3–4 раза – в течение семи месяцев ничего не сказали об этих колоссальных резервах машинного времени благодаря заниженным более чем вдвое режимам резания, почему они терпели "труды" Пирожкова и Осьминкина [Осминкина], Иоффе и прочих?
В этих вопросах кроется общественно-политическая сторона дела. Наша научная общественность получила крепкий урок, из которого нужно сделать крепкие конкретные действенные выводы...»
Имелась в виду речь Сталина в Кремлевском дворце на выпуске академиков Красной Армии 4 мая 1935 года. «Но изжив период голода в области техники, мы вступили в новый период, в период, я бы сказал, голода в области людей, в области кадров, в области работников, умеющих оседлать технику и двинуть ее вперед. ... Не хватает людей, имеющих достаточный опыт, необходимый для того, чтобы выжать из техники максимум того, что можно из нее выжать. Раньше мы говорили, что “техника решает все”. Этот лозунг помог нам в том отношении, что мы ликвидировали голод в области техники ... Это очень хорошо. Но этого далеко и далеко недостаточно. Чтобы привести технику в движение и использовать ее до дна, нужны люди, овладевшие техникой, нужны кадры, способные освоить и использовать эту технику по всем правилам искусства. Техника без людей, овладевших техникой, мертва. Техника во главе с людьми, овладевшими техникой, может и должна дать чудеса. Если бы на наших первоклассных заводах и фабриках, в наших колхозах и совхозах, в нашей Красной Армии имелось достаточное количество кадров, способных оседлать эту технику, страна наша получила бы эффекта втрое и вчетверо больше, чем она теперь имеет. Вот почему упор должен быть сделан теперь на людях, на кадрах, на работниках, овладевших техникой. Вот почему старый лозунг “техника решает все”, являющийся отражением уже пройденного периода, когда у нас был голод в области техники, должен быть теперь заменен новым лозунгом, лозунгом о том, что “кадры решают все”. В этом теперь главное.»
Научные «кадры» явно не торопились с таким ниспровержением технических норм, которое позволило бы «использовать технику до дна» (т.е. ломать ее), – но лозунг партии «техника решает все» сменяется на «кадры решают все». Настоящая суть этих пустых общих слов, выражающих как будто лишь трогательную заботу о «кадрах» (о них, учит вождь в своей речи, надо заботиться больше, чем о скотине), – на самом деле весьма определенна и конкретна. Воображавший, как сущий невежда, что «за спиной норм» стоят люди, а не объективность, Сталин знает рецепт, как поднять производительность труда «втрое и вчетверо». А именно, ВКП(б) должна теперь взяться за самих «работников, овладевших техникой», так, чтобы они наконец «все решили». Нужных работников «не хватает» – это значит, что если с задачей не справятся имеющиеся работники, партия сумеет заменить их другими, более понятливыми. Уж в этом-то сомневаться не приходилось. Научные «кадры» получают «крепкий урок».
Думается, впрочем, что даже и при крайнем невежестве невозможно было не догадываться о том, что внезапное удвоение требований к производительности советского рабочего (рекомендованная Сталиным половина стахановских достижений) лишь превратит заводы в подобие ИТЛ и при этом не сделает советскую промышленность сколько-нибудь эффективнее мировой, т.к. перегрузка людей и техники сведет эту лагерную эффективность на нет. Иначе, упустили бы алчные эксплуататоры-капиталисты столь гигантскую выгоду, если бы она в том была?.. Остается психиатрическая версия мотивов вождя, которая, как всегда бывает с такими версиями, кажется фантастичной – но она не более фантастична, чем его «стахановские» требования. Рискнем ее здесь представить: величие пролетариата в советской риторике затмевало величие его вождя, и ревнивый к славе маньяк заставил пролетариат изведать всю тяжесть своей руки. Тут уж ему было не до выгод, можно было пойти и на издержки. Вообще, затратность сталинских репрессивных кампаний бросается в глаза. Обычный террор оправдывает себя «целесообразностью», но – будь то война с лучшими инженерами-«вредителями» и техническим образованием в эпоху «индустриализации», избиение успешных большевиков-хозяйственников в 1937-м году, или, как в данном случае, жестокое и контр-продуктивное увеличение норм для рабочих – везде сталинский террор явно самоцель, более или менее дорогостоящая, и никак не средство к заявляемым целям. |
«Происходит суровая ломка старого уровня производства, на котором мы стояли до сих пор, вплотную ставится вопрос о переходе на социалистическую производительность труда. Стахановское движение представляет собой "образец той высокой производительности труда, которую может дать только социализм и чего не может дать капитализм" (Сталин).» «Весь комплекс "организационно-производственных наук", изучающих труд и производство на советских предприятиях, получает суровое и твердое предупреждение перед лицом рационализаторской стахановской программы»; «между тем, расчет на ранее существовавшие условия работы, на старое оборудование, ориентация на старые материалы и устаревшие учебники, опасная "игра в отсталость" еще до сих пор характеризуют стиль работы наших (к примеру) исследовательских учреждений по техническому нормированию...» «Неправильно, ошибочно думать, что новое техническое движение вносит голый нигилизм в отношении научных норм и технических расчетов ... Но поправки стахановцев к технике являются несомненной ревизией знаний и способностей инженеров. Они – суровое предупреждение тенденциям самоуспокоенности и технического самодовольства» (Социалистическая реконструкция и наука /"Сорена"/, 9-й выпуск /ноябрь/ 1935 г., редакционная статья «За научное обслуживание стахановского труда»).
И вот, через семь месяцев после майской речи Сталина, провозгласившей многозначительное «кадры решают все», и через месяц после его напоминания этим «кадрам», что «наши инженерно-технические и хозяйственные работники, успевшие уже порядочно поотстать от стахановского движения, сделали бы хорошо, если бы они перестали цепляться за старые технические нормы и перестроились по-настоящему, по-научному, на новый, стахановский лад»; после «суровых предупреждений» в печати, а также по прямому требованию секретаря МК ВКП(б), в немыслимый 10-дневный срок – науку опровергла сама наука.
Научный подход исключает чудесные факторы, но в данном случае они как будто учитывались. «При обработке стали с охлаждением, резце из быстрорежущей стали РФ-1 и часовой стойкости резца достигнуты [результаты]: 1. При отделочной стружке сечением 0,5 X 0,19 мм2 для мягкой стали (σb = 40 кг/мм2) получена скорость резания 165 метров в минуту, а для стали средней твердости (σb = 60 кг/мм2) получена скорость резания 105 метров в минуту. В то же время на практике применяется скорость резания от 40 до 50 метров в минуту...» – и т.д. Новые технические нормы, о которых через 10 дней от получения задания Хрущева ученый коллектив рапортовал Сталину, Молотову и Орджоникидзе, превышали и те, что были предложены до того стахановцами. «Наши повышенные нормы в среднем на 58% выше ранее показанных стахановцами завода» (ЗПК 1936 № 1, И.М. Беспрозванный, Стахановская проверка кафедры). Какие-нибудь злопыхатели сказали бы – «впору было заплакать самим стахановцам», но мы предположим, что открытие ученых вызвало у них дополнительный прилив энтузиазма.
Самые очевидные вопросы к «стахановскому движению», без решения которых вообще невозможно говорить о нормах – в силах ли человек работать в стахановском темпе постоянно (хотя бы месяц)? и долго ли протянут станки, на которых работают в стахановском темпе? – в 10-дневный срок по определению не решались...
А ведь еще в 1933-м году – открытия столь «колоссальных резервов машинного времени» ничто как будто не предвещало. До «стахановства», советское техническое нормирование опиралось на те же научные данные, что и вся мировая наука. «Вместе с "материальной основой" промышленности нами были ввезены и технические нормы, казавшиеся на фоне нашей некультурности идеалом, который не может быть превзойден, и вводившимися у нас с поправкой на отсталость нашего рабочего» (Сорена 1935 вып. 10, А.А. Арманд). – В 1932-м и 1933-м гг. МММИ им. Баумана издал и переиздал курс теории резания металлов И.М. Беспрозванного; вторая часть этого курса, посвященная собственно скоростям резания, сохранилась, кажется, только в издании 1932-го года. В ней анализируются выкладки как советских, так и в еще большей мере иностранных ученых; видно, что, вычисляемые по приводимым автором разным методикам, значения скоростей резания хотя и имеют значительный разброс, но, конечно, не кратный, причем теоретически неправильные (как объясняет автор), обобщенные и упрощенные для практического применения формулы Кроненберга дают значения скорее средние. Конкретных рекомендаций по технормированию (а оно учитывает не только скорости машин, но и другие факторы, о которых чуть ниже), в этой части И.М. Беспрозанный не дает, и каких-нибудь его замечаний вроде того, что правильные технические нормы должны были бы быть на тот момент много выше, чем действовавшие в СССР и в мире, в учебнике нет. А во введении ко всему труду (Ч. 1. Усилие резания. 1933), говоря о существовавшей советской практике, профессор еще одинаково порицает как те случаи, когда в цехах «станки работают с весьма пониженными скоростями и подачами», так и другие, когда «станки нагружаются несоответствующими для них скоростями или сечениями стружки», в результате чего «быстрый износ машин» делает такую работу «экономически невыгодной». О каком-то значительном перевесе случаев первого рода, тем более кратном, речи нет.
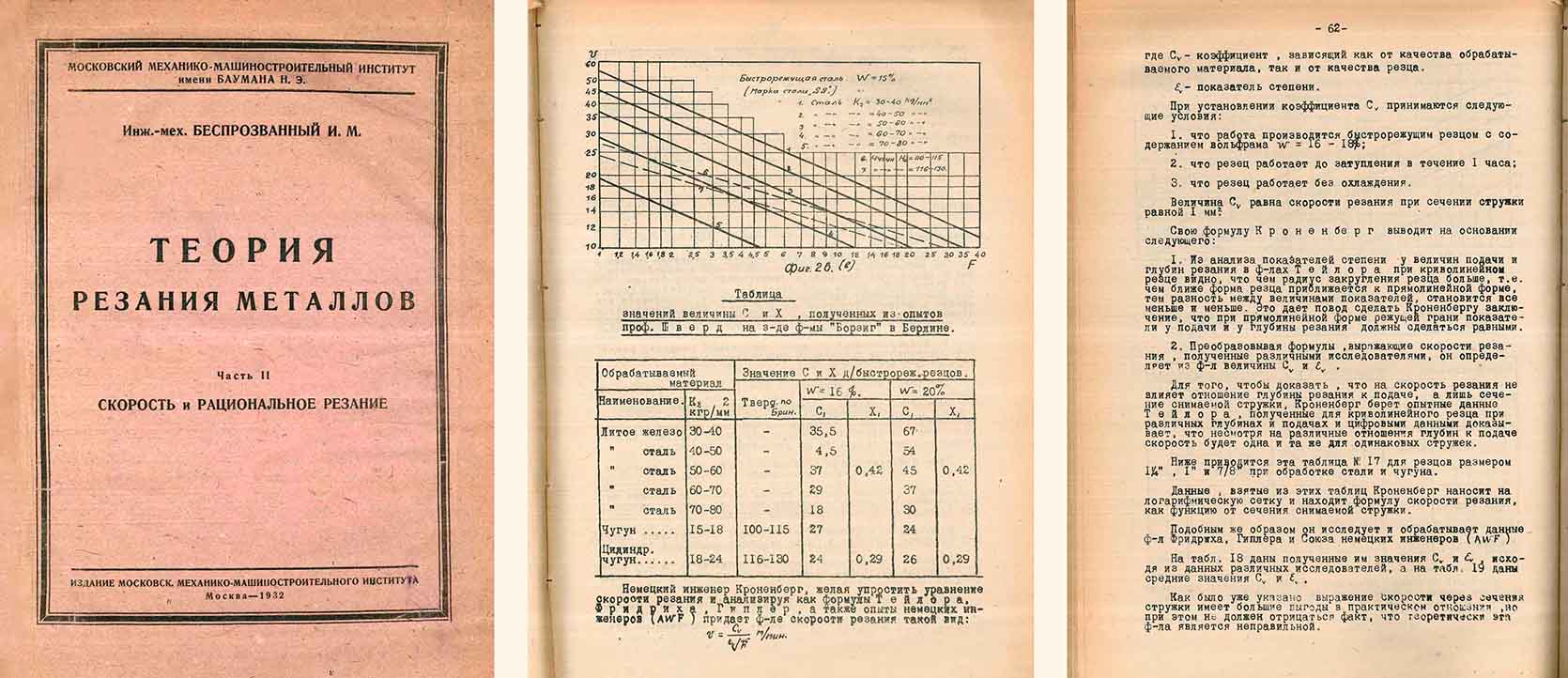
Обложка и страницы из учебника
Инж.-мех. Беспрозванный И.М. Теория резания металлов. Часть 2. Скорость и рациональное резание.
МММИ им. Баумана, 1932
В своем курсе 1933-го года инженер-механик И.М. Беспрозванный вполне приемлет труды Кроненберга (формулами коего касательно скоростей резания требует в 1935-м году перестать пользоваться). В предисловии к курсу он пишет: «...за последнее время немецкая школа выдвинула целый ряд исследователей, которые своими работами внесли много ценного в вопросы резания металлов. Работы Friedrich, Schlesinger и Klopstock, а также инженера Kronenberg по систематизации материалов по резанию, описанные в книге "Основы резания" (в переводе Госмашмехиздата) дали возможность дальше продвинуть вопрос практического применения основных законов резания в реальную цеховую обстановку»; «...Лишь с течением времени, этот обильный опыт [разных времен и стран] начинает использоваться и приводиться в более стройную математическую зависимость, позволяющую применить теоретические выводы непосредственно в производстве (за последнее время книга К р о н е н б е р г а "Основы резания металлов" стала популярнее других)», и т.д. Кстати: «Так постепенно, а не в раз, не по желанию одного человека родилась "теория резания металлов"». Конечно, цель – рост производительности. «...Зародившись и совершенствуясь, теория резания дает новые возможности в области рациональной обработки металлов, в области повышения производительности труда. / В результате этого нарастают основные тенденции технического развития металлообрабатывающей промышленности, чрезвычайно ускоряются все процессы движения, совершенствуются инструменты, станки, повышаются коэффициенты полезного действия, улучшаются основы для конструирования станков и т.д.» Это наблюдение нельзя, конечно, распространять на время начала стахановского движения, когда использовались еще не вновь сконструированные, а те же самые, только что созданные станки ДИП (аббревиатура Догнать И Перегнать). Пока же речь идет, явно, не о таком росте производительности труда, которое было бы сравнимо со стахановским. Имеют значение и выигранные миллиметры, минуты, сотые доли: «...каждый лишний квадратный миллиметр сечения стружки, каждая десятая доля миллиметра понижения величины подачи, каждая минута увеличения стойкости инструмента и каждая сотая доля повышения коэффициента полезного действия станка идет на улучшение благосостояния рабочего класса, на ускорение осуществления лозунга "овладеть техникой в возможно короткий срок", на увеличение производительности и рационализации труда...». Во введении к курсу И.М. Беспрозванный как будто уже упоминает две вещи, допускающие возможность радикального увеличения производительности: это крайняя неоднозначность данных в разных пособиях и недостаточная компетентность персонала. Что касается первой, то надо заметить, что в рапорте трех институтов отвергаются уже устоявшиеся, вряд ли сколько-нибудь противоречащие друг другу пособия. Что до второй, во введении говорится: «При обследовании производительности металлообрабатывающих станков часто можно встретить такие явления, что не только лица, работающие непосредственно на станках, но и технические руководители цехов слабо разбираются в вопросе правильного использования как станков, так и режущих инструментов, в результате чего станки работают с весьма пониженными скоростями и подачами, что весьма сильно понижает продуктивность станков». Для борьбы с этой бедой запрещать авторитетные справочные пособия и формулы, ясно, не требовалось. При этом не забывает ученый отметить и прямо противоположное, также наблюдавшееся им явление: «Часто в погоне за большой производительностью можно наблюдать другое крайнее явление – станки нагружаются несоответствующими для них скоростями или сечениями стружки; это вызывает быстрый износ, преждевременный ремонт станков и частую переточку инструментов, вследствие чего повышенная производительность, получаемая при этом, вызывает такие большие цеховые расходы, что данная производительность становится экономически невыгодной». Похоже, тогда еще он – «сторонник предельческой теории»... |
Под констатацией проф. Беспрозванным экономического вреда от завышения скоростей станков мог бы подписаться в Бауманском, конечно, не один только Ерманский. Ведутся и научные разработки, прямо указывающие на бессмысленность и вредность подобных попыток.
Так, в бухаринской «Сорене» («Социалистическая реконструкция и наука», 1933 № 10, сс. 45–73 /см. скан на этом сайте/) в 1933-м году помещается научная работа упоминавшегося уже в очерке знаменитого бауманца, инж.-мех. Г.А. Шаумяна «Закон производительности рабочих машин». Теоретические выкладки и эксперименты Шамуяна – это уже серьезнее, чем почти художественные тексты Ерманского. Остается только удивляться тому, что он за нее никак не поплатился. Видимо, Шаумяна спасло обилие математических формул на ее страницах, из-за которого она осталась непрочитанной вождями...
Из этой работы, в частности, видно, что максимизировать скоростные режимы станков стремились в СССР и до «стахановского движения», и ни о каких «поправках на техническую отсталость наших рабочих» в ней не упоминается. По этому поводу в ней говорится: «...До сего дня как производственники, так и представители науки под рациональным использованием оборудования понимают одно: "загрузить на полную мощность станок, работать на максимальных скоростях резания и подачах". Такая рационализация в конечном счете может вести не к повышению производительности рабочих машин, к повышению производительности предприятия, а к преждевременному выводу из строя оборудования, к увеличению расхода энергии, а главное – к расходу инструмента, в конечном счете – увеличению себестоимости продукции. / Опыт показывает, что на некоторых наших предприятиях, в частности там, где оказывала свою помощь "теория рационального использования станков", расход инструмента превосходил все плановые наметки. [В примечании:] На заводе им. Сталина за 3 месяца расходовался годовой запас инструментов».
Работа Шаумяна посвящена экспериментальному и физико-математическому обоснованию факта, что производительность труда отнюдь не прямо пропорциональна росту скоростей станков, а закономерно отстает от них и имеет свой потолок. Нет смысла и бесконечно повышать скорость самих станков. «Производительность рабочей машины повышается не пропорционально увеличению технологического фактора [выделено Шаумяном]. Введение новых рабочих органов, нового усовершенствованного дорогого инструмента, новых, так называемых высокопроизводительных способов обработки и т.п. ни в коем случае на дает пропорционального повышения производительности машин.» «Обычно при построении новой машины считают, что пределом повышения производительности является режущая способность инструмента. На самом же деле производительность каждой машины после определенного заметного повышения ассимптотически приближается к некоторому пределу и дальнейшее повышение технологического фактора не дает заметного повышения производительности.»
Это отставание реальной производительности труда от увеличения скоростных режимов станков обуславливается главным образом возможностями человека – рабочего, стоящего за станком. Имеются в виду «вспомогательные хода́» – «работа, необходимая для установки, закрепления, снятия изделия, приведения рабочих органов в рабочее положение и обратно, как-то: подвод и отвод суппортов и т.п.». Кстати, не стои́т во время «вспомогательных ходов» и станок: эта работа осуществляется «частью за счет дополнительной затраты энергии мотором станка». (Дальнейшее повышение производительности возможно за счет автоматизации этих «вспомогательных ходов».)
«Закон производительности рабочих машин» Шаумяна принципиально исключает всякое поползновение к еще не запущенному в стране «стахановству». (Характерно, что в книге о Шаумяне 1978-го года /см. Волчкевич, Замчалов/ этот ее аспект, как и вообще стахановское движение, не упоминается, а рассматриваемая здесь статья, приведенная первой в ее списке литературы, в тексте книги не цитируется.) Критике в статье Шаумяна подвергаются в т.ч. и работы М. Кроненберга (с противоположной от будущей «стахановской» точки зрения), и самого́ И.М. Беспрозванного. Снимать стружку, действительно, можно быстрее, чем это практикуется, но, цитирует Шаумян некоего производственника, «мы производим не стружки, а продукты нашего производства»; в дальнейшем лже-производительность такого рода в МММИ именуют «стружечной производительностью». Анализируя практику скоростного резания металлов, Г.А. Шаумян приходит к следующим выводам:
«Всякая рабочая машина имеет предел повышения производительности путем повышения технологического фактора, т.е. как бы мы ни повышали последний – путем ли внедрения новых инструментов, путем ли одновременной работы несколькими инструментами и т.п., – все равно производительность больше определенной величины не будет.»
«Огульное повышение технологического фактора не только будет бесполезно, но и вредно.»
«Подобно тому как слепая гонка за огульным повышением технологического фактора у рабочей машины приводит к бесполезной, вредной перегрузке рабочей машины, так и слепая гонка за повышенными "темпами" работы, заключающаяся в перегрузке оборудования, приведет к ничтожному повышению производительности, к вредной перегрузке предприятия, к колоссальным дополнительным расходам как по труду, так и по энергии, к преждевременному выходу из строя машинного оборудования.»
«Основные законы "Теории рационального использования металлорежущих станков", гласящие, что производительность станка пропорциональна: 1) скорости резания (для достижения большей производительности необходимо работать на максимальных скоростях резания), 2) подаче (всегда необходимо работать на максимальных подачах), 3) расходуемой мощности (всегда необходимо нагружать станок на максимальную мощность), – следует признать неверными.»
«...Где гарантия у авторов так называемой "Теории рационального использования", "наивыгоднейшего использования", "рационального резания", что в каждом отдельном случае они своей "научно обоснованной" "рационализацией" не попадут за пределы, которые указываются законом производительности? Где гарантия у нашего производственника, что "Теория рационального использования" на деле не превращается в "Теорию рациональной порчи оборудования", что она не приводит зачастую к чудовищному расходу режущего инструмента, к внедрению дорогих сплавов там, где этого совершенно не требуется.
Везде и всюду эта "Теория" клеймит производственников, что они не подчиняются последнему слову "рационального резания", что они работают больше чутьем, "на-глазок", вместо применения номограмм, "циклограмм", логарифмических счетных линеек, построенных на основании приведенных положений "Теории", которые сами по себе являются неверными. Неудивительно, что производственник, в особенности рабочий у станка, решая задачу производственным чутьем, как говорят "на-глазок", зачастую все же дает более рациональные предложения, повышая производительность станка введением по существу простых и дешевых изменений в его работу, чем "научно-обоснованная" "Теория рационального использования".
Итак, мы обязаны признать, что основные положения "Теории рационального использования" не только устарели, но в корне неверны, будучи плодом умозрения и спекулятивного мышления, как это ярко видно на примерах формул (8, 9, 10). Практический смысл этих формул равен нулю ... Нам нужен прочный теоретический фундамент действительно рационального использования и конструирования станков, – фундамент, столь же близкий к производственной практике, как и к науке.
Может ли он быть создан путем абстрагирования от органически связанных с машиной ее холостых ходов и рассмотрения только одной технологии, как это делает наша школьная мудрость. Нет, не может. ...»
Что до собственно технормирования. – «Техническое нормирование, являясь звеном между технологией и экономикой, до сего времени имея в своей основе "Теорию рационального использования", неминуемо ошибается и вводит ряд своих ошибок в самую кровь заводского организма – в экономику завода. В этом случае ошибочные формулы школьной теории рационального использования бьют не только по использованию отдельного станка, но и по использованию заводского оборудования в целом, по расходам на труд, по планированию производства – по выполнению техпромфинплана».
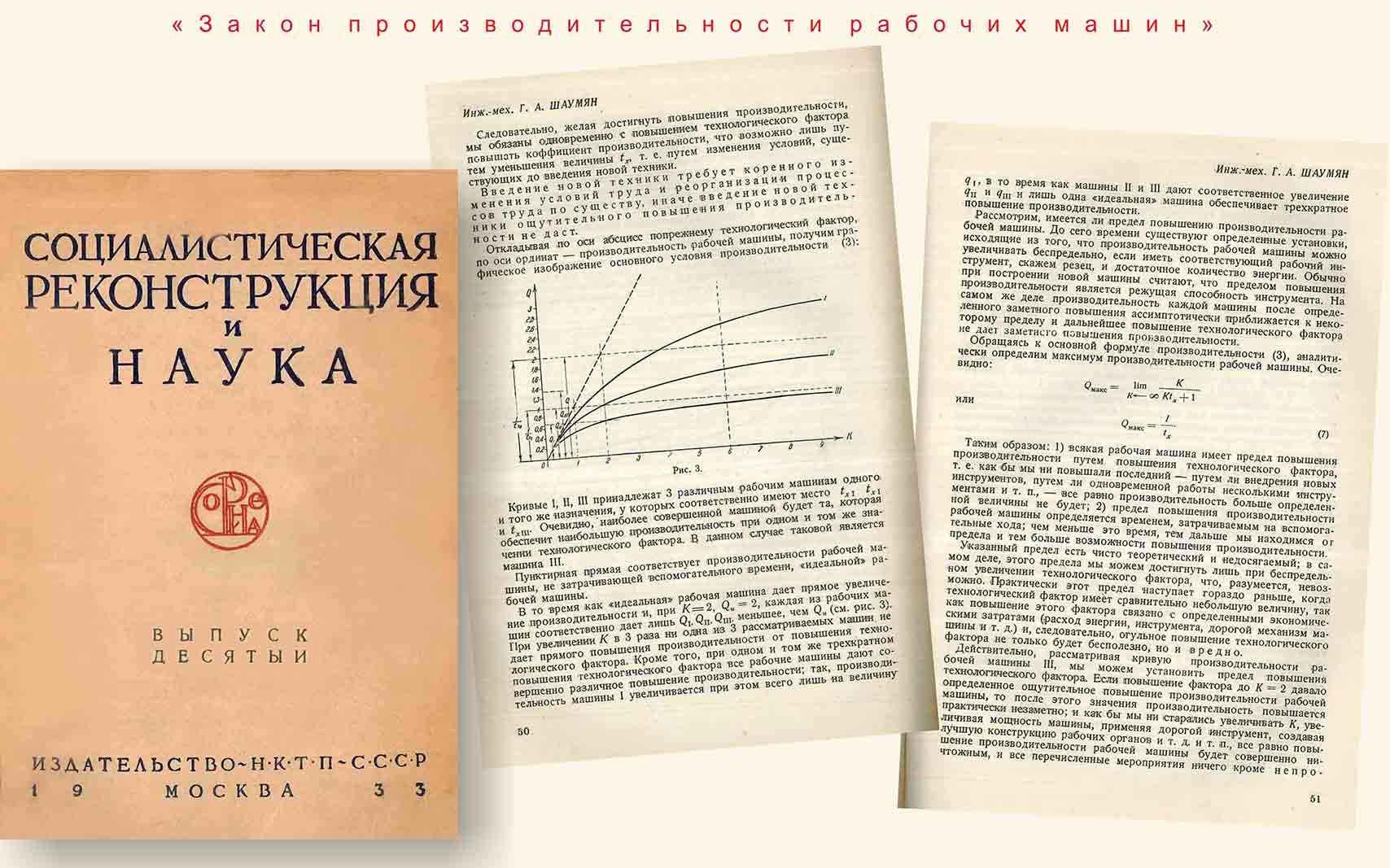
Это замечательное предостережение против «стахановского движения» опубликовано за два года до его начала...
Если Шаумян хоть в какой-то мере прав (не может быть иначе), то, заметим в очередной раз, что не имевший в деле и «школьной мудрости» Сталин со своими «втрое и вчетверо» и т.п. потребовал от советского пролетария жестокого и безумного (т.к. даже и не производительного), беспрерывного перенапряжения, хищнического изматывания сил.
Что до того трюка, который вынуждены были совершить авторы 10-дневного труда «К новым техническим нормам», то он был весьма прост: фактически, достаточно было перечислить хорошо известные показатели максимальных скоростей резания металлов – и умолчать о тех факторах, также хорошо известных, которые не позволяют напрямую выводить из них нормы выработки. В качестве новых «норм» были представлены сомнительные рекорды «стружечной производительности».
Или же, остается предположить – учитывая авторитет экспериментаторов, – что какие-то незамеченные Шаумяном удивительные резервы у выпускавшегося с 1932-го года станка ДИП, в отличие от его немецкого прототипа, были обнаружены, так что производительность труда советского токаря действительно можно было с толком и безболезненно поднять в разы выше, чем немецкого или американского. Профессор МММИ И.М. Беспрозванный – согласно первой же справке, выдаваемой в интернете поисковой машиной – это признанный «основоположник современной теории резания металлов». Ученый окончил ИМТУ в 1911-м году, затем работал в США у того самого «выжимателя пота» Ф.У. Тейлора, основателя науки организации труда и автора исследования «Искусство резать металлы». (На эксперименты Тейлора И.М. Беспрозванный ссылается чаще всего, и именно «формулы Тейлора» помогли ему в декабре 1935-го года предложить такие режимы скорости резания при точении, которые даже в общем заключении отчета трех коллективов, обосновывавших стахановские режимы, охарактеризованы как «несколько преувеличенные».) «Основополагающие работы И.М. Беспрозванного и его сотрудников по проблеме стойкости металлорежущего инструмента имели настолько эффективный практический выход, особенно для оборонной промышленности с ее экстремальными требованиями в годы войны, что Правительство наградило И.М. Беспрозванного в 1942 г. орденом "Красной Звезды" и в 1943 г. присудило Государственную премию группе работников кафедры во главе с И.М. Беспрозванным (Ларин М.Н., Каменкович С.Л., Рождественский Л.А.)».
Любые экстремальные требования в оборонной промышленности вместо объективных норм видимо оправданы в условиях войны, когда любой завод может оказаться разрушенным еще до того, как износится его оборудование, а рабочий, подобно бойцу на передовой, обязан был ради победы над фашизмом и жизнью, – но уместны ли они были для всей промышленности в 1935-м году (тем паче что именно тогда, если верить Сталину, «жить стало лучше» и «веселей»)? Примечательно также, что «опрокинуты» были в т.ч. и «формулы Кроненберга», обобщавшие накопленные в мире научные данные: немец, конечно, не обязан был быть стахановцем, но сам рассматривал теорию резания металлов именно как «основы, необходимые в целях экономичности, конкурентоспособности» (см. Беспрозванный, ч. 1). Была ли немецкая промышленность менее эффективна, чем советская? Получила ли страна «эффекта втрое или вчетверо больше», или же только, как подсказывает здравый смысл, сама стимулировала пресловутые халтуру, липовые отчеты, бесхозяйственность?..
«Чудесное время социалистического труда» видимо и породило неубиваемый стереотип, придавший слову «отечественный» в применении к товарам ширпотреба значение «заведомо худший импортного». (Хотя впервые «отечественный» в этом издевательском значении прозвучало, кажется, из уст спекулянта Димы Семицветова в фильме «Берегись автомобиля» 1966-го года.) |
Сомнения в ценности открытия Беспрозванного, Каширина, Ачеркана и Белкина усугубляет факт, что оно было совершено «по указанию» (Хрущева). В науке так не бывает.
О стахановских достижениях 1935-го и 1936-го годов, как и о «вредной» немецкой школе, И.М. Беспрозванный не забывает и после войны.
«Уже к концу первой пятилетки кафедра "Теории резания" МММИ выпустила первую группу научных работников, успешно защитивших диссертации на ученую степень кандидата технических наук. Формировалась советская школа резания, открывшая борьбу с так называемой немецкой школой и ее неправильными и вредными трактовками важнейших вопросов резания металлов. |
Как бы то ни было, не приходится сомневаться, что в стахановской борьбе с Пирожковым и Осминкиным, Иоффе, AWF (союзом немецких инженеров), Кроненбергом и составителями «Справочника металлиста» – победить предстояло не научной истине, в чем бы она ни состояла, а «общественно-политической стороне дела». Выбора у ученых не оставалось.
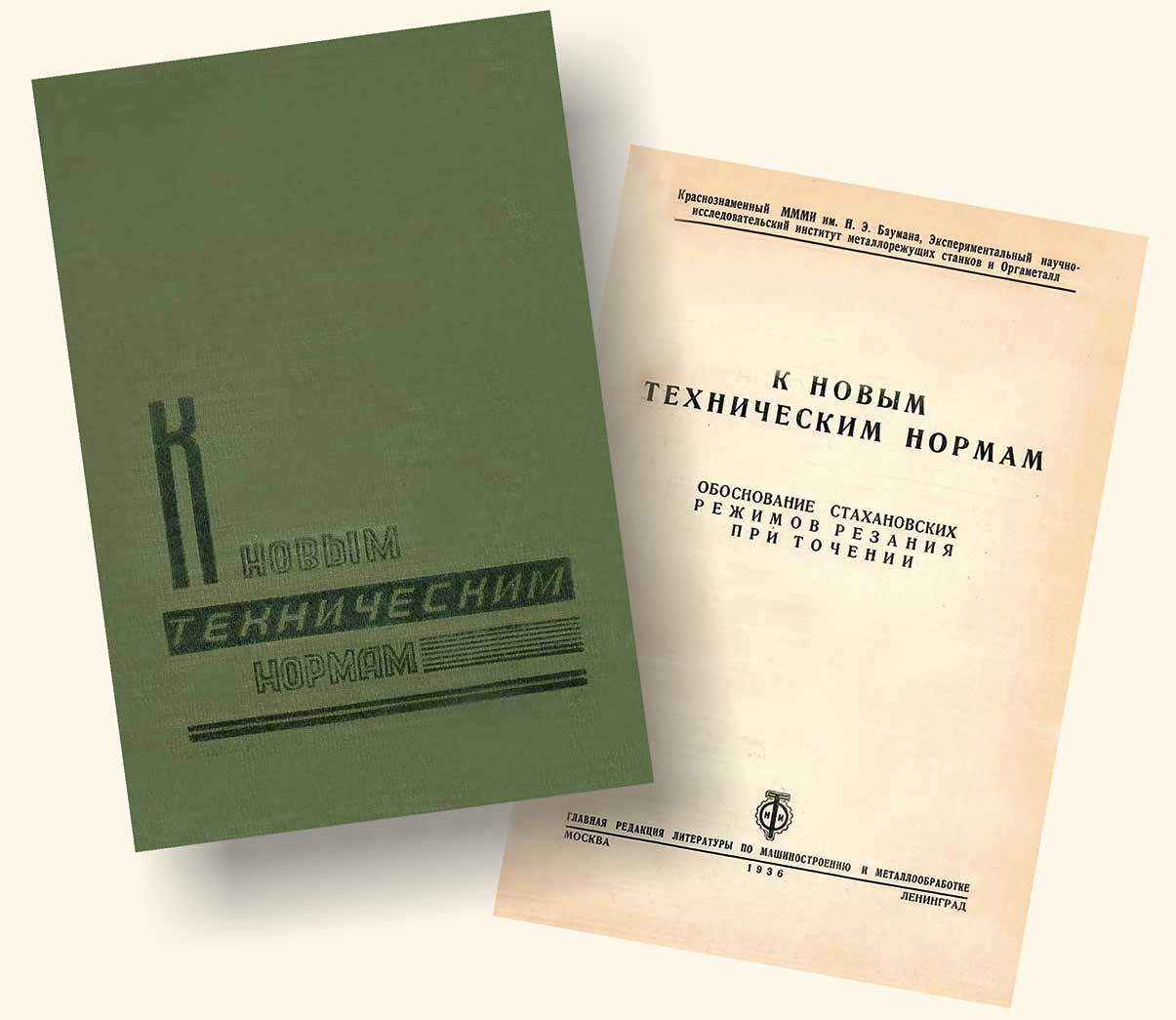
|
ЦК ВКП(б) – товарищу СТАЛИНУ Наиболее распространенными в нашей промышленности техническими справочниками и руководствами по обработке металлов резанием являются: «Техническое нормирование» Пирожкова и Осьминкина, «Справочник металлиста», «Основы теории резания» Кроненберга (перевод с немецкого), «Режим обдирочной стружки» Иоффе. Московский механико - машиностроительный институт им. Баумана: |
* * *
Задача борьбы с «заскорузлыми» формулами, коэффициентами и нормативами в учебниках и программах была, в области машиностроения, возложена в основном на Краснознаменный МММИ им. Баумана. Нам отрадно было узнать, что, несмотря на достижения кафедры резания металлов и кафедры прокатки, в целом МММИ с этой задачей сразу не справился. Потребовался грозный окрик из ГУУЗа (ЗПК 1936 № 1, редакционная статья «Основное звено»). Приятно также отметить следующий факт – приведенный институтской комиссией по расследованию вредительской деятельности Цибарта в 1937-м году: удар по МММИ и Цибарту, как персонально ответственному за переписывание учебников и программ, смягчает не кто иной, как сам Петровский. «На основе стахановского движения было предложено всем ВТУЗ"ам пересмотреть программы, – отчитываются бдительные институтские партийцы. – Нашим институтом было представлено в ГУУЗ около 30% программ совершенно не пересмотренных, что было обнаружено в ГУУЗ"е беспартийным инженером. В журнале За Промкадры № 2 за 1936 г. была помещена статья [«Основное звено»] посвященная этому вопросу редактированная Петровским. В этой статье все резкие места по адресу Цибарта были Петровским вычеркнуты. /Это было подтверждено редакторским экземпляром статьи правленной Петровским/» (ЦГАМ ф. 158, оп. 1а, д. 44, лл. 90-93).
Похоже, если бы не Петровский, для Цибарта все могло закончиться на полтора года раньше...
Приведем отрывок из статьи «Основное звено» – почетный нагоняй МММИ и слова в его частичное сомнительное оправдание. Именно из этой статьи были вычеркнуты Петровским «все резкие места по адресу Цибарта». – «...С еще большей силой, нежели мы характеризуем первые успехи наших лучших работников, нам необходимо отметить весьма тревожные симпотомы, обнаружившиеся по ходу пересмотра учебных программ и учебников в наших втузах и техникумах. |
Все возможное сопротивление преступным начинаниям ВКП(б) – недостаток рвения и встречных инициатив их исполнителей. Никаких признаков сознательного сопротивления Цибарта этим начинаниям в сохранившихся документальных свидетельствах, разумеется, нет. Их нет даже и в его личных записях (правда, девять десятых из них утеряны). И однако можно констатировать, что до последней возможности Цибарт такое сопротивление оказывал.
«Забвение величайшего значения социалистического соревнования
как метода работы»
В 1937-м году больших успехов в соцсоревновании у МММИ не было – или, скорее, в это время травли Цибарта за МММИ замечали только неуспехи, если не выдумывали их. – «Незадолго до экзаменов в Московском механико-машиностроительном институте им. Баумана в Москве проводилось собрание студентов 1-го курса по вопросу о подготовке к экзаменам. При этом выяснилась весьма неприглядная картина. Оказалось, что многие первокурсники так запустили занятия, что потеряли всякую надежду сдать экзамены. Настроение у студентов было паническое. Многие поговаривали об уходе из института. Чем же это объяснить? Да не чем иным, как отсутствием всякой заботы о студентах в смысле помощи им в их учебе, отсутствием серьезных попыток организовать среди них социалистическое соревнование. В итоге представители дирекции (директор института Цибарт, декан [химического] факультета проф. Герке, начальник учебной части Айзенман, зав. кафедрой графики Арустамов) выступили с целой программой поблажек и уступок, чтобы какими-нибудь способами разрядить создавшуюся обстановку. / Ясно, что если бы дирекция и общественные организации института во-время приложили свои руки к этому делу, организовали бы работу студентов на основе социалистического соревнования, не было бы и нужды в этих поблажках. Не чем иным, как забвением величайшего значения социалистического соревнования как метода работы, этого положения объяснить нельзя» (ЗПК 1937 № 7-8, А. Алехин. Мощный рычаг борьбы за качество учебы / О социалистическом соревновании).
(Что именно произошло тогда с первокурсниками, почему-то запустившими занятия, так ли было на самом деле – нам неизвестно.)
Лидером в соцсоревновании отныне признается МЭИ. «...Победитель последнего тура соревнования вузов – Московский энергетический институт им. В.М. Молотова – и сейчас является застрельщиком соревнования» (ВШ 1937 № 3).
Меж тем, сомнительность «социалистического соревнования как метода учебы» замечалась, причем в самом его разгаре, и на официальном уровне – в Комитете по высшему техническому образованию. Например: «...и довольно часты случаи, когда договорная горячка начинает настолько нервировать студентов, что они долго мучаются над выдумыванием тех пунктов, которые следовало бы записать в договор» (ВТШ 1934 № 3, М. Ценципер, Итоги соревнования)... Страшно представить себе, как к обычной горячке зачетных сессий и экзаменов добавляется еще и бессмысленная «договорная горячка», мучительное «выдумывание пунктов», составление кип отчетов и т.д. и т.п. ...
Так что сожалеть о потерянном лидерстве в соцсоревновании «болельщику» Бауманского, конечно, не стоит.
В 1934-м году выходит брошюра А. Ямского о МММИ им. Н.Э. Баумана «Лучший втуз Советского Союза» (полный ее текст см. на этом сайте).
Издание втузами брошюр такого рода было разрешено в 1933-м году, и, к счастью, МММИ этой возможностью воспользовался.
Книга особенно ценна тем, что содержит немало фактических сведений об учебной и материальной стороне жизни института в важнейший и самый успешный для него для него период – первых полутора лет от постановления ЦИК 19 сентября 1932-го года «О программах и режиме в высшей школе». Знаменательное постановление правительства означало практически полное оздоровление всей системы технического образования в СССР, катастрофически пострадавшей в результате реформ 1928–1932-х годов, и Бауманский играл в этом процессе «первую скрипку».
«Лучший втуз Советского Союза» на обложке – это звание, присвоенное институту по результатам 1-го (1932/33 учебного года) Всесоюзного соревнования вузов, втузов и техникумов СССР «на лучшее и скорейшее проведение постановления ЦИК СССР (от 19 сентября 1932 г.) "О программах и режиме в высшей школе"» (Комитетом по Соревнованию под предс. Енукидзе). Кстати, в 1933/34 учебном году, после того как брошюра была уже издана, МММИ будет признан победителем и во 2-м соревновании. «Нет никакого сомнения в том, что полученное в первом соревновании переходящее знамя ЦИК СССР, ЦК комсомола, ВЦСПС и «Комсомольской правды» институт без боя не отдаст, – предрекал автор книги. – Красное знамя в надежных руках...»
Любопытен вопрос об авторстве книги. Подпись «А. Ямский» встречается под статьями в журналах ГУУЗ НКТП «За промышленные кадры», ВЦСПС «Красное студенчество» и др. Это похоже на псевдоним, и можно кое-что предположить относительно настоящего имени (или другого псевдонима?) автора: он оставил к этому следы. В примечании к I-й главе, называемой «Сто лет МВТУ–МММИ» и состоящей из двух частей – «Путь старого МВТУ» и «Втуз после Октября» – говорится: «для составления этой главы частично использованы материалы юбилейного сборника МММИ и в частности материалы нашей статьи». Статей под именем «Ямского» в Сборнике нет – но автором исторического очерка «Из истории МММИ» в Сборнике был преподаватель диамата в МММИ Г.А. Нехамкин, а очерка «МВТУ после Октября» в Сборнике – некий М. Акимов (уважительно упоминаемый, кстати, Кржижановским в его введении к Сборнику).
Что касается Нехамкина – 8 февраля 1934 г. (см. этот и др. пункты), в месяц, когда книга поступила в издательство, на парткоме МММИ вспоминают его прощенные было «троцкистско-зиновьевские» связи – и с тех пор его в МММИ нет (позже расстрелян). Разумеется, издание книги о МММИ под его собственным именем стало бы в 1934-м году невозможным. – Нехамкин тесно сотрудничал с Цибартом: «Нехамкин троцкист, – обличает впоследствии Цибарта П.М. Зернов, – он в 33 году буквально по пятам за тобой ходил» (партсобрание 4 декабря 1937 г. /см./; «в 33 году» – вероятно, в связи с изданием Юбилейного сборника МММИ). Нехамкин, разумеется, прекрасно знаком с делами МММИ. Все это говорит в пользу версии о его авторстве.
В пользу авторства Акимова говорит само сходство названий его статьи в Юбилейном сборнике и рубрики в брошюре «Лучший втуз Советского Союза» – «МВТУ после Октября» / «Втуз после Октября». Также и восторженный тон по отношению к успехам МММИ был бы, со стороны сотрудника МММИ, хоть и скрытого под пседонимом, не слишком уместен.
В протоколах комиссии Сталинского РК ВКП(б) по чистке парторганизации МММИ им. Баумана 1933 г. можно найти следующее: По данным «Мемориала»* можно еще уточнить, что Нехамкин был не только исключен из ВКП(б) за «троцкизм», но и, подобно В. Шаламову, отбывал заключение и в 1929-м году был реабилитирован. Как и Петровский, печатавший затем Шаламова в журнале ГУУЗ, Цибарт принял его в штат МММИ (как и О. Ерманского). Изгнание Нехамкина из МММИ видимо не было инициативой диаматчиков. 16-го июня 1934-го года партком МММИ высказывается так: «О тов. ВИЛЕНКИНЕ – будучи зав. кафедрой "Диамата" не проявил достаточно полит. бдительности, недостаточно проверял, не вскрывал троцкиста НЕХАМКИНА...». С 1934 года Нехамкин работает по постройке школ Бауманского р-на, возможно (если то был не его полный тезка) учится на заочном отделении Литинститута, в 1936-м году арестован, в 1937-м расстрелян. Под собственной фамилией автора брошюра, очевидно, в 1934-м году уже не могла выйти, и псевдоним пришелся кстати. (Также естественно, что какие-то части книги должны были быть откорректированы и дописаны другим автором, скорее всего Цибартом.) – Но авторство М. Акимова из Юбилейного сборника выглядит все-таки более вероятным. |
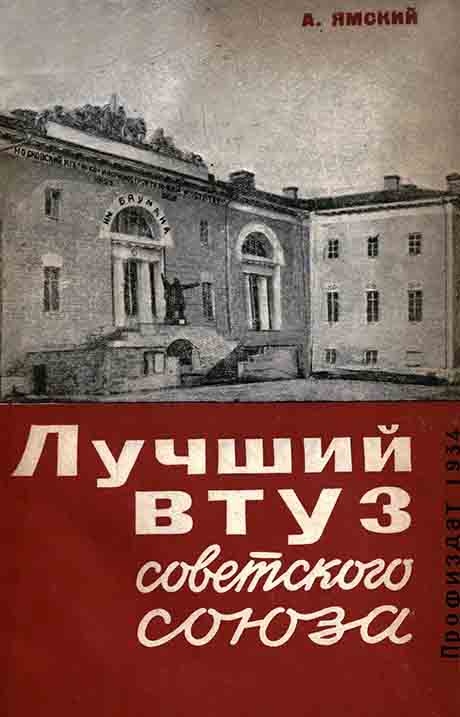
Книгу трудно читать из-за слишком (может быть) выраженной в ней специфики времени. Система создает свою параллельную реальность, в которой всякое начинание партии вызывает встречный энтузиазм и соответствующие инициативы «снизу». Подобно тому, как обрубщики трубного цеха одного из заводов в нужное время начинают «социалистическое соревнование» во всей стране и на весь ее советский период (феномен, практически полностью принадлежащий этой параллельной реальности), так и профессора и студенты выступают с теми или иными нужными в данный момент обращениями друг к другу или ко всей общественности, и т.д. Но и такого рода документы свой интерес, и информативный и исторический, конечно же, представляют.
Ценная информация, в частности обширная цитата о новых учебных программах и лидерстве МММИ в учебно-методической работе среди втузов СССР, из главки «Программы и планы пересмотрены на "отлично"» раздела II-го брошюры приводилась нами выше, в рубрике «Первый год реформ в Бауманском: 19 сентября 1932 года – 1933 гг.». Имеются в настоящем очерке много цитат из брошюры и на другие темы.
В ее II-м разделе, в числе прочего, подробно описывается подготовка к зачетным сессиям. В то время это не были обычные вузовские будни. В главке «Первый маршрут – подготовка к зачетным сессиям (руководитель Хейман)» упоминается действительно знаменательное событие – первая после периода 1929–1932 гг. июньская 1932/33 учебного года зачетная сессия. Это был поворот от цели «пролетаризации» вузов, которой проверка знаний студента только мешала бы, к их прямой цели – цели образования. И протекала подготовка к июньской сессии в МММИ далеко не гладко. О предшествовавшей ей «сессии в виде опыта», проведенной Цибартом в январе 1933-го и разозлившей партийную общественность института, автор брошюры, естественно, умалчивает. (Более подробные сведения об этом из «Лучшего втуза...» см. в том же разделе очерка.)
В III-м разделе «МММИ на социалистической стройке» особенно интересны главки «Лаборатории работают на освоение» и «Мастерских не было – мастерские есть». В них коротко описываются работы того времени Шелеста, Зимина, Арестова, Голованова, Герке, Сидорина, Куколевского, Беспрозванного, Рубцова, Аксенова, Цыдзика, Иоэльсона, а также Бюро реального проектирования и др.; перечисляются успехи реконструированных институтских мастерских.
«Под руководством профессора Шелеста в лаборатории паровозо-тепловозов создана и конструктивно оформлена новая теория "свободно истекающей струи". Эта теория была подтверждена лабораторными испытаниями на паровозах. В результате этой работы транспорт СССР получает экономию в несколько десятков миллионов рублей в год. Мощность существующего паровозного парка СССР увеличивается на 1 500 паровозов серии "3". / Эта же лаборатория под руководством профессора Шелеста дала новую конструкцию форсунки для бескомпрессорных дизелей. Применение этой форсунки в производстве должно дать экономии свыше 5 млн. руб. в год и избавить двигатель от износа клапанов и крышки. В главке «Мастерских не было – мастерские есть» говорится: «К моменту опубликования решения ЦИК СССР [19 сентября 1932 г.] институт совершенно не имел учебных мастерских, если не считать полуразрушенных литейной и кузнечной. / Правительство поставило перед втузами задачу сосредоточить практику студентов младших курсов именно во втузовских мастерских. Институт добился выделения Наркомтяжпромом специальных средств на организацию мастерских. / Вторая половина 1932/33 учебного года ознаменовалась большой работой по созданию и оборудованию своих учебных мастерских, чтобы студенты могли уже с осени 1933 г. начать производственное обучение. / Приступлено к организации литейного, кузнечного и механосборочных цехов. Уже к концу соревнования была выполнена значительная часть работы. По литейному цеху, например, расширена площадь цветного литья, установлены сушильные камеры для форм и стерженщиков, установлена печь Эйслера и электропечь Детройта, изготовлены 2 станка для отливки и печь для отжига ковкого чугуна. / В кузнечной установлен новый падающий фрикционный молот и отремонтированы нагревательные печи. / Большие работы проделаны и по организации механических мастерских. / Обширная программа строительства мастерских с оборудованием по последнему слову техники намечена институтом на ближайшее время. По одной только литейной мастерской намечено строительство 12 специальных отделений с необходимым оборудованием, приборами и т. д. Сюда входят отделения ваграночное и ковшевое, формовочный зал для черного литья, отдел фасонно-стального литья, цветного литья, модельная, формовочная, отделы производственных и лабораторных печей, химическая лаборатория и т. д. / Не менее обширная работа предстоит и по другим мастерским...». |
О строительстве нового корпуса МММИ и планах надстройки его главного здания и общежития в книге не сообщается ничего – видимо, эти вопросы к моменту ее выхода уже отпали.
Нечего и говорить, что часто упоминаемое автором брошюры постановление ЦИК от 19 сентября 1932 года, которым, в частности, покончено с бригадным методом учебы, вызывает у него полное понимание. «Этот метод порождал обезличку и снижал индивидуальную ответственность студента за качество проработки материала. За знания отвечал не отдельный студент, а вся бригада...»
Вообще учеба восстанавливает свой приоритет в институте, даже за счет сакральных советских традиций – это последнее, впрочем, также в строгом соответствии с решениями ЦК ВКП(б) и ЦИК. Так, в числе многих требований к соревнующимся учебным заведениям было и следующее: «Лишь то учебное заведение может в соревновании считаться передовым, которое целиком осуществит на практике постановление ЦК ВКП(б) "Об упорядочении общественных нагрузок студентов вузов, втузов и техникумов" и в частности: 1. Сократит и установит строгое количество всяких собраний и заседаний, запретив устройство их в выходные дни... Строго ограничит по времени всякие собрания, а особенно групповые». В характерном для того времени стиле, автор отчитывается в исполнении институтом высочайшей директивы так, как о мероприятии, совершавшемся на свой страх и риск: «бауманцы попробовали регламентировать собрания и заседания. Установили твердый календарь заседаний и собраний как в группе, так и на факультете. Норма была установлена жесткая. Собрания в группе по расписанию предусмотрены один раз в месяц. Факультетские организации не должны проводить больше двух заседаний в месяц. Партком института запретил устраивать какие бы то ни было совещания или собрания сверх времени, отведенного по плану. "Вначале трудно и непривычно было без собраний, – "жалуются" некоторые профгрупорги, – а теперь ничего, привыкли"»...
(Этоть стиль может сбивать с толку впервые знакомящихся с подобными советскими текстами. Никогда не знаешь, что в делах рапортующих было их собственной инициативой, а что исполнением прямого указания власти, – и, скорее всего, исполнением указаний власти было практически все. Стиль, видимо, выражал вежливую готовность принять на себя вину в «перегибах», когда «генеральная линия» в очередной раз круто переменится.)
Соцсоревнование и ударничество – одна из важнейших тем книги. Им выше посвящена своя рубрика, содержащая цитаты в т.ч. из «Лучшего втуза...». Те, кто, может быть, помнит «соцсоревнование» по позднесоветской эпохе, существование которого в то время можно было заметить разве что по треугольным красным флажкам «Победитель социалистического соревнования» или «Ударник коммунистического труда» в бригадах, отделах или на рабочих местах, могут принять пафос повествования об этом только за риторический и казенный. Но в данном случае это было, как минимум, не совсем так. Все было гораздо серьезнее. Добровольно-принудительное ударничество требовало огромной затраты времени и сил, и возможности работать вне «соцсовревнования» просто не было.
Ярко описаны в книге и вне-учебные достижения института, в том числе, как и в юбилейном сборнике – касательно улучшения быта студентов и преподавателей. – Вообще, хозяйственная, так сказать гуманитарная сторона администрирования имеет в МММИ (как впрочем и во всех вузах того времени, соответственно директивам ЦК и ЦИК) огромное значение; заместитель директора по АХЧ (в то время Ф.А. Яковлев) – фигура в МММИ явно не второстепенная. Сам А.А. овладел экономической наукой еще во времена НЭПа, и в огромном институтском хозяйстве это было кстати. Развиваются подсобные хозяйства МММИ, включая собственную мясо-молочную ферму (давшую институту в 1932/1933 уч. году «7171,5 кило мяса и 769 кило сметаны и творога») и овощебазу. «В качестве своих показателей бауманцы обязались перед колхозом им. Ворошилова добиться хорошего качества учебы без "неудов". Отдельные группы института прикреплены к бригадам колхоза в порядке шефства. Студенты организовали в этом колхозе библиотеку на 200 книг и проводили другие культурные мероприятия. В порядке производственной помощи студенты обязались отработать на колхозных полях 600 трудодней...» Действует объединенный с Энергетическим институтом закрытый студенческий кооператив (ЗСК). Руководство входит во все проблемы и мелочи институтской жизни: организуются комнаты отдыха для студентов между занятиями, обустраиваются преподавательская и студенческая столовые, в т.ч. диетическая и особая для ударников, ремонтируются и украшаются институтские общежития. «Стены общежития нередко видели т. Цибарта – директора института, т. Матисена – секретаря парткома и т. Шевцова – председателя профкома, тщательно обследующих каждый уголок в комнатах, коридорах, уборных»...
|
* * * Разумеется, реальность отстает от идеала, представленного в брошюре. Но парторганизация действительно делает что может, и борется за улучшение быта постоянно. На заседании бюро парткома 4 апреля 1933-го года отмечают «наличие отдельных случаев торгашеского духа торговли в магазинах ЗСК. (Торговали свининой по 14 рублей)». 29 декабря констатируют: «1. очереди в магазинах ЗСК. 2. Все еще неудовлетворительное санитарное состояние столовой. 3. Неудовлетворительный ассортимент продуктов в буфетах и зачастую их недоступность студенчеству вследствие высокой стоимости». Что ж, в любом буфете некоторые продукты не всем и не всегда доступны, – это замечательное требование! Однако, уже скоро встанет вопрос рентабельности... 22 ноября 1934-го года «партком отмечает: недостаточную рентабельность торговой деятельности ЗСК», «убыточность (июль, август и сентябрь)»... Проблем много. «Совершенно неудовлетворительно заготовка овощей исключая картофель». «Предложить тов. Цибарт и [пом. директора] Тарасову, об изменении отношения к ЗСК в сторону оказания максимальной помощи (финансовая, транспорт, помещения)». В конце концов (но это уже в 1935-м), совхозный скот поразят чума и паратиф... Надо сказать, что приобретение совхоза (в Вельяминово) вообще не было инициативой МММИ. В 1937-м году Цибарт упомянет это: «Всем известно, что в то время была линия на приобретение подсобных хозяйств. Мы тоже приняли совхоз, но совхоз оказался нерентабельный». Проводятся ревизии. 31 мая 1933-го года на парткоме оглашают, что зав. столовой и его заместитель «создали такую систему работы столовой, которая способствовала систематическому хищению продуктов почти всеми работниками столовой, имевшими отношение к выдаче и приемке продуктов, обвешиванию потребителей и т.д. (недостача 199 кг мяса, излишек в 160 кг муки. Излишки денег в кассе и т.д.)». Виновных исключают из партии и снимают с работы. 22 ноября 1934 года: «предложить тов. Цибарт немедленно принять меры к ремонту профессорской столовой и превратить эту столовую в действительно культурный очаг»; «Предложить т. Сандлер ... улучшить культурный вид столовой в частности приобрести шторы, портреты вождей, цветы, чистоту при входе и т.п.»... На партконференции МММИ 29 декабря 1933-го года принимают, в числе прочего, решение «резко улучшить культурное обслуживание профессорско-преподавательского состава, для чего коренным образом улучшить работу клуба Ин-та. Добиться достаточного контингента льготных билетов в театры кино и на концерты, организации библиотеки достаточным количеством художественной литературы. Поставить культурное обслуживание студентов проживающих в общежитиях». А на библиотеку общежития студент-коммунист жалуется: «Мы не можем питаться целиком только "Поднятой целиной", которая хороша, но нас не удовлетворяет...». Также есть претензии к прачечной: в ней якобы «держат по месяцам белье». (Правда, это преувеличение: скорее по неделям.) Есть проблемы и с сапожной мастерской. Хорошо, если к выходу брошюры эти неурядицы были устранены... Поводов для «большевистской самокритики» к концу 1933-го года хватает. Преподаватель тов. Эльсон [Иоэльсон – ?] говорит: «Товарищи, нам в одном отношении везет, но в другом не везет. Все институты получили плохие помещения и благодаря этому отстраиваются. Мы, к сожалению, получили старое, но хорошее здание и нам новых не отстраивают, но здание очень старое. Не секрет, что материальная база института изношена до крайности. Не все согласны, но я считаю, что паровое отопление, электросеть и газовая сеть – абсолютно никуда не годятся. В тех условиях, которые имеются у нас – невозможно работать». «Приказом нельзя заставить людей ходить без шапки и иметь платки. Я хожу без шапки, зато обвязан термической изоляцией кругом. (Смех)». «В президиум поступило заявление т. Борзых о зажиме самокритики з-ком [?] Института». Студенту Борзых дают слово. «Я сидел сейчас в аудитории 7 часов и замерз как черт.» И о холоде в общежитиии: «29 декабря сидим в холодных комнатах». «Цибарт у нас в комнате был, я ему показал грелочку и мокрое пятно в углу». Критику якобы зажимал предс. профкома (на тот момент) тов. Цыганков: «Когда я [Борзых] услышал, что ЦК нашей партии получил рапорт о подготовке к зиме, я говорю [Цыганкову], мне кажется, что это очковтирательство и я прошу об"яснения...», на что тот ему возражает: «это буза, это бузотерство и ты стал на путь бузы». «Правда, он мне заявил, что он о таком рапорте ничего не знает, а что он знает о выступлении по радио Цибарта». – Рапорта, возмутившего Борзых, на самом деле не было. Но секретарь парткома (на тот момент) тов. Шевцов решает: «заявление (Борзых), понятно, подано куда следует, нужно будет привлечь к ответственности». Тов. Цыганков оправдывается: «...Когда ко мне обратился Борзых со словами о том, что Институт подал в ЦК Партии рапорт о подготовке к зиме, я ему заявил, что такого рапорта не было. Борзых мне говорит: "Ты мне очки втираешь". На это я сказал: "Ты Борзых бузу трешь и если хочешь можешь на меня жаловаться в партийную организацию и директору Института"». По существу дела Цыганков отчасти прав: у Борзых в комнате надкололось стекло, достаточно было его «замазать», но стекло тем не менее заменили... |
Да, парадная картина, представленная в «Лучшем втузе...», значительно отличается от реальности, это в порядке вещей – и в особенности для того времени. Но, конечно, все познается в сравнении. В 1934-м году в журнале Комитета по высшему техническому образованию библиотеку МММИ признают за «блестящий образец и библиографической и массовой работы» (Высшая техническая школа 1934 № 4). В том же году в конкурсе на лучшую студенческую столовую МММИ удостаивается второй премии (ЗПК 1934 № 15 /август/), а общежитие для ударников МММИ называют одним из примеров «прекрасной организации дела» (ВТШ 1934 № 3).
Налаживается, на самом деле, и работа в совхозе в Вельяминово. В 1935-м году ВКВТО проводит обследование подсобных хозяйств втузов (см. ВТШ 1935 № 9, Г.В., Пригородные хозяйства трех московских вузов). «Для того чтобы иметь возможность лучше сравнить результаты осмотра, было намечено осмотреть три хозяйства втузов трех различных наркоматов: Механико-машиностроительного института им. Баумана НКТП, Кожевенного института НКЛП и Института инженеров хлебопекарной промышленности Центросоюза... / Наибольшим по своим размерам и лучшим по качеству работы является хозяйство института им. Баумана.» (Далее описывается направление совхоза – он зерновой и животноводческий, – перечисляется материальный и живой – лошади, скот, кролики – «инвентарь».) «Весенний сев проведен совхозом в этом году несравненно лучше, чем в предыдущие годы.» (Упоминаются и «существенные недостатки» – задерживается постройка зерно- и овощехранилищ, телятника и пр., а также тот, что «массово-разъяснительная работ очень слаба. В прошлом году в совхозе имели место вредительские вылазки в виде забивки железного кола в поле и др. Но вопрос этот в настоящее время не ставится как следует перед бригадирами и рабочими».) «Что получит институт в 1935 г. от совхоза? По плану КМММИ должен получить 125 т картофеля, 140 т овощей и 60 т молочной продукции. Мяса институт, повидимому, сможет получить 1,25 т. / Если сравнить это положение с прошлогодним, когда совхоз дал 155 тыс. руб. убытка, положение значительно улучшилось.» «Надо сказать, что совхоз института им. Баумана заметно улучшил свою работу в 1935 г. В 1933 г., когда совхоз перешел в ведение института, он представлял собой полуразрушенное хозяйство.»
Осенью 1935-го года совхозный скот, как уже говорилось, поражают заболевания – но, тем не менее, все три торговые точки студенческого кооператива продолжают работать и зимой, – продукция все-таки имеется.
А. Ямский. Лучший втуз Советского Союза. 1934
ОГЛАВЛЕНИЕ
(полный текст книги см. на сайте)
Предисловие ............ 3
I. СТО ЛЕТ МВТУ – МММИ
Путь старого МВТУ ............ 7
Втуз после Октября ............ 15
II. В БОРЬБЕ ЗА ВСЕСОЮЗНОЕ ПЕРВЕНСТВО
На новом этапе ............ 27
Как развертывалось соревнование в МММИ ............ 32
МММИ – инициатор всесоюзного соревнования ............ 37
Индивидуальное соревнование – главное звено в борьбе за качество учебы ............ 39
Профессура в соревновании ............ 42
Программы и планы пересмотрены на «отлично» ............ 46
Профком в борьбе за режим и дисциплину ............ 49
Зачеты решают успех соревнования ............ 53
Сочетать учебу с общественной работой ............ 60
Как работают ударники МММИ ............ 63
Профком использует все формы и методы массовой работы ............ 66
III. МММИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРОЙКЕ
Непрерывная практика кует хорошего инженера ............ 73
Лаборатории работают на освоение ............ 76
Мастерских не было – мастерские есть ............ 80
Техпропаганда – гордость института ............ 81
IV. ПРОФКОМ БОРЕТСЯ ЗА ЛУЧШИЙ БЫТ
У института своя продбаза ............ 87
Как питаются в лучшем втузе ............ 89
Молодой кооператив стал на ноги ............ 91
Ударнику – лучшее жилище ............ 92
V. КРАСНОЕ ЗНАМЯ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ ............ 97
«Официально прием еще не объявлен, подготовка только начинается,
но письма идут уже давно, уже больше трехсот человек просят дирекцию Баумановского института
выслать анкеты, правила приема, инструкцию и т. д.
Эти запросы для работников института – не новость. Такие же письма приходили и в прошлом году и при приеме в 1931 г.
Тяга учащихся в МММИ огромная, недостатка в кандидатах нет...»
«За промышленные кадры» 1934 № 9 /май/
Годы самодурных «революционных преобразований» во втузах, вплоть до 19 сентября 1932-го года проводимых ВКП(б) в ее неослабной «борьбе за качество специалистов», еще долгое время сказываются на уровне подготовки студентов. «...Люди прежде были лучше подготовлены по сравнению с тем, что мы имеем сейчас», говорит в 1934-м году, разумеется предельно мягко, но как нечто очевидное для него, проф. Шелест. И таких свидетельств «инсайдеров» слишком много.
И все же, использовав все открытые реформой возможности, МММИ становится не только лучшим в Союзе, но и тем, чем должен быть, скажем так, серьезный втуз вообще.
Основная задача
В институте постоянно совершенствуется учебная работа – в первую очередь думают о качестве лекций.
Казалось бы, о чем еще думать преподавателям, как не о качестве преподавания? и почему предпочтение отдается лекциям (а не семинарам, не лабораторным работам)? – но сказанное не какая-то приблизительная дежурная фраза. Ведь еще полтора года назад лекции как таковые были категорически запрещены и все подобное было бы расценено как антипартийный мятеж; реформа 19 сентября 1932 года не только реабилитировала лекции, но и вернула их, так сказать, во главу угла в преподавании. В 1933-м году размышляли о сущности этого способа обучения, вспоминали даже мысли об этом «буржуазного идеалиста» профессора Петражицкого (подробнее см. в разделе «Первый год реформ в Бауманском...»); теперь входят в детали и способы подачи материала, разрабатывают новые методики, делятся опытом... МММИ – флагман в этом деле.
Так, проф. Осецимский на примере своего курса технологии металлов делится с читателями журнала «За промышленные кадры» мыслями о роли плаката в уплотнении лекций. «...Все, что предстоит лектору изобразить на доске, должно быть начерчено и написано в соответствующим образом скомплектованных и оформленных плакатах и таблицах, которые должны появляться на доске в соответствующее время. Лектор излагает материал, пользуясь представленными на доске плакатами, и получает возможность держать внимание студентов в непрерывном напряжении. / Полезно дать возможность студенту заранее ознакомиться с содержанием материала, который представляется на доске. Для этого для каждого плаката и таблицы должны быть изготовлены карточки, которые представляют уменьшенные копии плакатов и таблиц»; «следовало бы разобрать роль диапозитивов и кинофильмов … диапозитив не может заменить плаката...», и проч. (ЗПК 1934 № 3). «В результате предварительной проработки и всестороннего обсуждения в 1934 году были сделаны следующие рекомендации к проведению лекций: наличие тщательно разработанного плана каждой лекции и предварительное ознакомление с ним студентов (в виде раздаточного материала, вывешивания в аудитории или записи на классной доске). Методически правильное построение и изложение лекции, ясность и наглядность изложения, правильное использование наглядных пособий, четкое выделение основных моментов лекций. Периодический пересмотр содержания лекций и своевременное введение свежих материалов, наличие резюме лекции. Также необходимо было выделить время для ответа на вопросы студентов...» (см. Становление научной школы математики...).
Здесь обращает на себя внимание, в числе прочего, требование предварительного ознакомления студентов с содержанием лекций. Автор этого очерка во время собственной учебы с этим не сталкивался. Меж тем, если желать от студента не механического запоминания, а усвоения материала, ничего лучшего предложить нельзя.
Возвращение «кастовых различий» – ученых степеней и званий.
От «"профессора" и "старого профессора"» – к «профессору-доктору»
13 января 1934 года – постановление СНК СССР об установлении ученых степеней (кандидата и доктора наук) и ученых званий (ассистента, доцента и профессора в вузах, соответственно младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника или действительного члена НИИ). В общем случае, кандидатами наук становятся по окончании аспирантуры, после публичной защиты диссертации; степень доктора требует от кандидата наук защиты специальной диссертации. Профессором отныне может стать лишь ведущий преподавательскую деятельность доктор наук. (До этой даты администрацией вуза назначались «профессора по кафедре» – ведущие преподаватели данной кафедры.)
И это тоже – возврат к «проклятому прошлому». Проф. А.П. Пинкевич пишет по поводу декрета Совнаркома (ЗПК 1934 № 3 /февраль/): «Ученые степени существовали в дореволюционной России, они существуют в капиталистических странах. Вскоре после Октябрьской революции ученые степени в большей части республик СССР были фактически упразднены, и лишь на 17-м году пролетарской диктатуры правительственный декрет снова устанавливает эти степени». «В первые дни после Октябрьского переворота мы должны были сломать все привилегии, все кастовые различия. Ими тогда явились и ученые степени и звания. Мы не могли признать ученые степени, оставшиеся по наследству от царского режима, ученые степени, полученные в огромном большинстве случаев не за науку и не за те знания, которые были нам нужны...» («Пролетарская диктатура», как видим, до 19 сентября 1932-го еще на различала кастовых различий от различий в профессиональной квалификации.)
Реформа намеревалась покончить именно с тем порядком вещей, когда, по неосторожному выражению проф. Пинкевича, звания предоставлялись «в огромном большинстве случаев не за науку».
Что же ученые бывшего ИМТУ и других российских вузов? Относительно обладателей ученых степеней, доставшихся им «по наследству от царского режима», как и тех крупных ученых, кто до 1917 г. таких степеней не имел, в инструкции Комитета по высшему техническому образованию о порядке применения постановления СНК разъяснялось: «§ 17. Лицам, известным своими выдающимися, имеющими особое значение для социалистического строительства научными трудами, открытиями и изобретениями, а также лицам, имеющим соответствующие учёные степени, полученные заграницей или в дореволюционное время, учёная степень доктора может быть присуждена без защиты диссертации. / Вопрос о присуждении докторской степени в этих случаях решается подлежащими органами (ст. 12 постановления СНК Союза ССР от 13 января 1934 года) как по инициативе совета высшего учебного заведения или научно-исследовательского учреждения, так и по ходатайству самого́ заинтересованного лица или по представлению учреждений и общественных организаций».
Так, в МММИ (времени директорства Цибарта): «Худяков Петр Кондратьевич, род. В 1958 г., заслуженный профессор МММИ им. Баумана, 44 года руководит кафедрой "сопротивление материалов". Имеет звание героя труда, в 1923 [1928 – ?] году награжден орденом Трудового красного знамени. Имеет 4 печатных работы [монографии] и много статей. / Утвержден ВАК ВКВТО 5/VII 1934 г. в ученой степени доктора технических наук» (Высшая техническая школа /ВТШ/ 1934 № 4); |
Для различения профессоров, имеющих ученую степень, от не имеющих ее, на первых порах пишут: «профессор-доктор».
В полной мере оценили возврат ученых степеней работники бывшего ИМТУ. «...Преданной борьбой за социалистическую науку, за дело пролетариата мы оправдаем его доверие» (проф. МММИ А.Н. Шелест, ЗПК 1934 № 3 /февраль/)...
Продолжение реформы: общетехнический факультет.
«Пионером в этом деле был Краснознаменный московский механико-машиностроительный институт»
Но вот, может быть, главное достижение МММИ этого года, еще одна крупная победа реформы Кржижановского. В январе–феврале 1934-го, во время 12-дневных зимних каникул, МММИ им. Баумана осуществляет свой замысел 1933-го года (отраженный в тогдашнем проекте своего устава, – см. выше) и первым в СССР создает у себя общетехнический факультет. В этом он обогнал даже куратора реформы – ВКВТО (руководимый Кржижановским Всесоюзный комитет по высшему техническому образованию), который затем внедрит ОТФ во все вузы страны.
Кому в МММИ принадлежала идея ОТФ – неизвестно. (Хотя и очевидно, что для старых профессоров вуза это было бы только возвратом к правильному порядку преподавания.) В.В. Балабин, зам. директора по учебной части, не был сколько-нибудь серьезным специалистом и вряд ли был бы ее сторонником, но он ко времени создания устава – проект устава направлен на утверждение нач. ГУУЗа Петровскому, а Петровский пришел к руководству ГУУЗом в октябре 1933 г. – эту должность уже не отправляет.
Заместитель директора МММИ по учебной части во время практической организации общетехнического факультета – профессор Николай Владимирович Красноперов.
Странно, что организацией ОТФ рукодил не кто-либо из профессоров МММИ. Но, во всяком случае, это был профессионал. К тому времени Н.В. Красноперов – автор курса лекций «Основы теории двигателей внутреннего горения» (1924). Одновременно с работой в Бауманском, проф. Красноперов – начальник учебной части Ленинградского машиностроительного института (он занимал эту должность еще до 1932-го года). При образовании Ленинградского индустриального института, в результате воссоединения Ленинградского машиностроительного с другими втузами, частями бывшего Ленинградского политехнического института, вслед за МММИ им. Баумана общетехнический факультет будет создан Красноперовым и во вновь созданном втузе-гиганте ЛИИ. Также Красноперов, в качестве председателя программно-методической комиссии ГУУЗ, курирует создание новых учебных планов и программ специального цикла машиностроительных втузов (в 1934-м году выходят 3 тома этих программ под его редакцией и с предисловием Петровского; см. выше). Далее в течение нескольких лет Красноперов числится, по совместительству, в МММИ. Самое позднее в 1936-м году Красноперов – начальник отдела втузов ГУУЗ НКТП.
Впоследствии, проф. Красноперов называет введение общетехнических факультетов первой из мер после 19 сентября 1932 г., «улучшающих учебный процесс и режим учебных заведений» (ЗПК 1935 № 16 /август/ стр. 11, ст. «Разгрузка студентов и эффективность учебы»). Мера была отнюдь не первой, но, как видно, в силу своей важности могла восприниматься и так.
В отчете комиссии по партчистке МММИ им. Баумана Сталинскому райкому ВКП(б), в конце 1933-го года, о роли Красноперова в реформах МММИ говорится следующее: «...Заместителем директора по учебной части являлся [до проведения учебных реформ] молодой аспирант – инженер, который не имел достаточного опыта в деле учебно-методической работы [имеется в виду Балабин]. Там же, о Скорикове: «Скориков Константин Николаевич. 27 лет, рабочий, сын рабочего, член ВЛКСМ с 1924 года, член ВКПб с ... п\б № ... партвзысканий нет» (л. 111). |
Через некоторое (неустановленное нами) время и до конца 1937-го года в качестве декана ОТФ и нового зав. учебной частью МММИ – А.Н. Айзенман. Окончивший МММИ за полтора-два года до назначения деканом, то есть опять общественник, а не профессионал, – он, тем не менее, фигура явно положительная.
«Айзе[н]ман Асир Наумович. – Служащий, член ВКП/б/ с 1920 г., № чл. б. 0036673, г. рожден. 1901, студент окончивший Ин-т в 1932 г., был в Красной Армии, активный общественный работник /член Моссовета/, партвзыскания: на вид ...» (Комиссия по чистке 15 сентября 1933 г., ЦГАМ ф. П-84, оп. 1а, ед. хр. 208, л. 89об). |
Сразу после Цибарта, в 1938-м году, общетехнический факультет ликвидируется (и будет воссоздан лишь в 1964-м году). Не беремся судить однозначно, но очень возможно, что Бауманский при Цибарте учил лучше.
Итак ОТФ – замечательное свершение, означающее правильную и наилучшую постановку учебного дела. Отныне все поступившие получают сначала базовую теоретическую подготовку на особом факультете, а дальнейшую специализацию выбирают уже по его окончании. Длительность обучения на общетехническом факультете в МММИ – 5 семестров, половина всего пребывания студента во втузе. Институт в этом начинании единодушен, даже преподаватели нового поколения. Из этих последних, проф. Крениг считает, что организация общетехнического факультета «целесообразна чрезвычайно», доц. Иоэльсон говорит – «я приветствую всецело создание факультета» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 26, лл. 129об, 130, 131).
Можно сказать, что и создание в МММИ общетехнического факультета произошло «по руслу копирования бывшего императорского технического училища» (если только не по самому естественному руслу...). Правда, в журнале «За промышленные кадры» по поводу положения дел в ИМТУ было вскользь сказано, что преподавание общих и специальных предметов было «слабо дифференцированным», однако «Высшая техническая школа» (ВТШ 1935 № 5, Медынский) пишет об учебных планах ИМТУ при существовавшей тогда «предметной системе» несколько иное. «Устанавливался рекомендуемый порядок прохождения курса и обязательная сдача в течение первого года ряда дисциплин (математика, теоретическая механика) и чертежных работ, без которых изучение других наук невозможно. В течение шести семестров студент обязан был сдать второй минимум...»; «начиная с 3 курса, шли специальные предметы, соответствующие специальности будущего инженера». (Далее говорится: «Однако крупным недостатком учебных планов наших втузов была их энциклопедичность»; «Более узкая специализация ограничивалась почти только одной дипломной работой и несколькими связанными с ней специальными курсами с очень небольшим числом часов». Впрочем и тут, «избегая очень узкой дробной специализации, Московское высшее техническое училище [ИМТУ] в то же время перестроилось так, чтобы избегнуть и поверхностной энциклопедичности. Оно строило специализацию не по отдельной отрасли, а по более или менее однородным областям промышленности».)
Начинание Бауманского, при деятельной поддержке ГУУЗ и ВКВТО, пробивает себе дорогу во всех втузах СССР. Как уже говорилось, в апреле 1934-го года, одновременно с организацией Ленинградского индустриального института, проф. Красноперовым был создан и общетехнический факультет в нем (ВТШ 1936 № 2). «Пионером в этом деле был Краснознаменный московский механико-машиностроительный институт»; «ныне споры об общетехнических факультетах можно считать законченными. Число консерваторов, сопротивляющихся организации этих факультетов, тает с каждым днем. К началу этого [1934/35] учебного года втузы, не введшие еще общетехнических факультетов, насчитываются единицами» (Петровский, Втузы...). В 1935-м году ОНТИ НКТП выпускает отдельной брошюрой сборник материалов – «Общетехнические факультеты» (см. в списке литературы), со вступительной статьей Петровского, представляющей собой стенограмму его доклада на совещании ГУУЗ по общетехническим факультетам 9–11 января 1935 г. (От МММИ на совещании присутствовал декан ОТФ А.Н. Айзенман.) В своем докладе Д.А. Петровский, в частности, говорит: «Должно иметь в виду, что в связи с развитием техники требования к общему образованию инженера будут все больше и больше возрастать, и роль общетехнических факультетов будет соответственно подыматься»; «Пора не на словах, а на деле начать решительную борьбу против узкой и ранней специализации за действительное улучшение общенаучной и общетехнической подготовки советских инженеров».
В дальнейшем появляется, без преувеличения, обширная литература по этому вопросу.
|
Роль нач. ГУУЗа Д.А. Петровского в продвижении инициативы создания общетехнических факультетов – инициативы, прямо противоположной тому, что осуществлялось программой тотальной специализации 1928–1932-х годов, в т.ч. и под его активным руководством – особенно интересно отметить. В начале 1934-го года выходит его приказ № 26/31 по учебным заведениям Наркомтяжпрома СССР, озаглавленный «Структура управления Краснознаменным МММИ». Петровским утверждается структура МММИ, как она представлена институтом в (приведенном нами выше) проекте своего устава (в тексте приказа Петровского она несколько обобщена), а в заключительном параграфе приказа говорится: «Придавая особое значение работе кафедр и правильному руководству общетехнической подготовкой студентов, предлагаю: директорам втузов НКТП совместно с профессорско-преподавательским составом проработать свою структуру под углом зрения настоящего приказа, учтя опыт Краснознаменного московского механико-машиностроительного института им. Баумана и представить свои соображения и конкретные предложения» (ЗПК 1934 № 3, с. 63). 22 марта 1934-го года в докладе на совещании директоров втузов Петровский отмечает: «Идея объединения общетехнических дисциплин в единый факультет встречает возражения со стороны многих руководящих работников наших втузов», однако: «1. Постановление ЦИК предусматривает специализацию, начиная со второго, третьего курса. Наш опыт, а равно и заграничный опыт подтверждают, что инженер, независимо от его специальности, нуждается в серьезной общетехнической подготовке. Распыление этой подготовки между различными специальными факультетами, возглавляемыми руководителями, по горло занятыми специальными дисциплинами, отодвигает на задний план общетехническую подготовку будущих инженеров. 2. При нынешней системе окончивший 9-летку, поступая во втуз, выбирает специальность без должного ее понимания. Результат тот, что мы наталкиваемся на беспрерывные ходатайства о переводе с одной специальности на другую в процессе учебы. Одновременно и отбор студентов для различных специальностей не имеет под собой серьезной основы...» «...Уже первые шаги свидетельствуют о том, что мы стали на верный путь» (ЗПК 1934 № 8 /апрель/). В журнале подобраны мнения профессоров разных советских втузов, в большинстве положительные. «Переводя студента на специальный факультет, мы будем каждый раз действовать с открытыми глазами, будем твердо знать, что за ним никаких академических хвостов нет» (проф. Герчиков, Донецкий горный институт); «ранняя специализация связывает творческую потенцию большой группы одаренных студентов, для которых могут быть широко раздвинуты рамки нормального втузовского курса» (И. Поляков, Московский нефтяной институт); «следует отметить, что многие втузы в США унифицируют первый курс даже таких разнородных специальностей, как горная, металлургическая и химическая» (проф. Маркелов; характерно, что и на этот случай ссылка на зарубежный опыт признается не лишней). Проф. Жирицкий приводит такие аргументы в пользу общетехнического факультета: «1. Возможность унификации учебных планов младших курсов различных специальностей, что чрезвычайно облегчит работу институтских кафедр. 2. Объединение этих кафедр в факультетский коллектив, что позволит лучше, чем в настоящее время, увязать между собою содержание и методы преподавания отдельных предметов. 3. Объединение всех институтских групп одного потока для слушания общих лекций, что позволит обеспечить все предметы лучшими лекторами. 4. Разгрузка основных факультетов, позволяющих им лучше сосредоточиться на руководстве специальной подготовкой студентов. 5. Целесообразность распределения студентов по специальностям не за пять, а за три года до окончания с точки зрения правильного удовлетворения запросов промышленности. 6. Облегчение студентам выбора специальности, имея в виду, что при поступлении в вуз студент не всегда ясно представляет себе целевую установку той или иной специальности» (ЗПК 1934 № 16, с. 13). – Сами по себе все эти соображения как будто довольно очевидны, но ведь и главное достижение реформы 19 сентября 1932-го года – восстановление простого здравого смысла... Появление ОТФ, видимо, было настолько неожиданным, что склоняет ученую публику выдвигать и дальнейшие проекты преобразований. «Усиление общетеоретической базы повело к образованию во многих вузах политехнического типа так называемых "о б щ е т е х н и ч е с к и х ф а к у л ь т е т о в", объединяющих первые два курса вуза. Это бесспорно весьма целесообразное мероприятие, если оно проводится по отношению к специальностям, имеющим одинаковую общенаучную базу. Мыслима организация этих "общетехнических факультетов" отдельно от основного вуза, где должны остаться только старшие курсы, может быть даже присоединяя общетехнический факультет к рабфакам и создавая таким образом нечто вроде американского "junior colledge"» (ВТШ 1934 № 2 /октябрь/, проф. А.П. Пинкевич). Примерно в том же направлении мыслит и А.А. Цибарт (см. Известия, Заметки о высшей школе): «поневоле напрашивается мысль, что нужно последовать примеру Франции, где общетеоретическую подготовку студент получает в самостоятельном учебном заведении. Это было бы полезно по многим причинам. В частности, не будет страдать, как это часто бывает, физико-математическая база обучения, а студент, обогатив свои знания, определив свои желания, подойдет к выбору профессии более тщательно». |
Повторим, руководимый Петровским ГУУЗ НКТП и его главный втуз, МММИ им. Баумана, обогнали в проведении благотворных реформ 19 сентября 1932 г. даже их инициатора и вдохновителя – Всесоюзный комитет по высшему техническому образованию.
Создание общетехнического факультета в Бауманском – объект пристального внимания ВКВТО. Комитет оценил идею по достоинству. «Вопрос об организации о б щ е т е х н и ч е с к и х ф а к у л ь т е т о в, особенно для системы индустриальных и политехнических учебных заведений, является исключительно важным. Общетехнический факультет, который на протяжении первых четырех семестров обучения (два года) дает общенаучную и общетехническую подготовку будущему специалисту, в то же время обеспечивает более сознательный подход студентов к выбору той или иной специальности и в значительной мере будет влиять на общую успеваемость студента в последние годы его обучения. / Опыт работы общетехнического факультета Московского краснознаменного механико-машиностроительного института им. Баумана уже показал положительные результаты этого мероприятия как с точки зрения организации процесса обучения на первых курсах, так и с точки зрения успеваемости студентов. С другой стороны, в результате организации общетехнических факультетов имеется возможность более планомерно распределять студентов на третьем году обучения в соответствии с потребностью отдельных специальностей и использовать это мероприятие в качестве дополнительного инструмента к более обоснованному планированию подготовки по специальностям» (ВТШ 1934 № 1 /октябрь/, З. Дешалит, В президиуме ВКВТО).
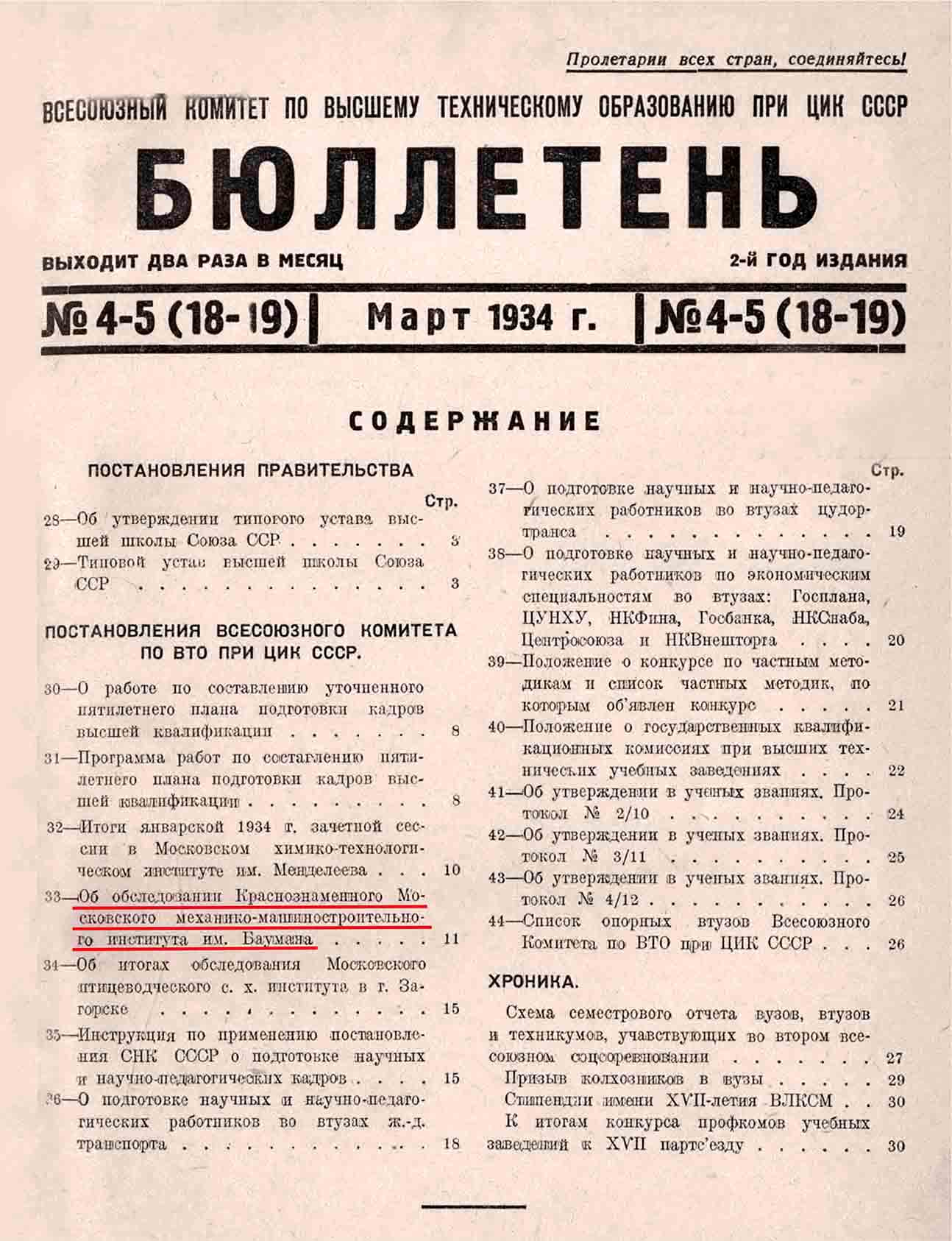
23 марта 1934 г. в Бюллетене ВКВТО появляются результаты обследования втузов и, первым в списке, МММИ им. Баумана. Выводы по МММИ положительные. Кроме успехов в вопросах «организованности и дисциплинированности», в ударничестве и т.п., отмечается, что «повысилась активность большинства профессорско-преподавательского состава в выполнении задач, поставленных партией и правительством перед советскими втузами...», происходит «оживление по ряду кафедр научно-исследовательской работы», наличествует «заметный успех в деле выращивания институтом молодых научных кадров» (обо всем этом в Бюллетене написано развернуто, с именами «кадров» и т.п.). По мнению комиссии, «Эти достижения обусловлены: а) укреплением единоначалия и усилением оперативности в руководстве институтом; б) правильным комплектованием социального состава учащихся (73 проц. рабочих-производственников); в) Укреплением партийной организации (41,8 проц. плюс ВЛКСМ 25,7 проц.) ...; г) Улучшением в последнее время работы секций научных работников по перестройке учебно-производственной жизни института». Пункт (а) из этого списка явно имеет в виду заслуги Цибарта, последний пункт очень важен. Что до (б) и (в), то, понятно, они не могли не появиться в списке, хотя далее и отмечаются такие щекотливые факты, как тот, что «неудов» в ходе учебы у студентов-коммунистов в процентном отношении бывало больше, чем у беспартийных и комсомольцев. А итоговые завышенные оценки партийцев осуждаются как «либерализм».
Самое важное для нас, что говорится в Бюллетене ВКВТО – следующее.
«Президиум ВКВТО постановляет:
1. Не возражать против мероприятий, проведенных МММИ им. Баумана при непосредственном участии инспекции ВКВТО, по организации общетехнического факультета с передачей в его ведение всех общенаучных и общетеоретических кафедр и учебных групп первых пяти семестров с тем, чтобы распределение студентов по специальным факультетам происходило при переходе с пятого семестра на шестой.
Индустриальному сектору ВКВТО и ГУУЗ НКТП тщательно изучить опыт работы вновь созданного общетехнического факультета. Результаты доложить Всесоюзному Комитету в конце текущего семестра. ...» (Текст набран вразрядку)
Таким образом, в организационном повороте технической школы СССР к серьезному фундаментальному образованию (созданием общетехнического факультета) – Комитет по высшей школе признает полную инициативу и первенство МММИ им. Баумана. (Об этом свидетельствует и Петровский – см. его книгу Втузы...) Значение этого постановления комиссии ВКВТО для постановки техобразования в СССР, как и для оценки роли Бауманского в этом процессе, видимо, исключительное.
Выделение общетеоретических и общетехнических дисциплин в отдельный факультет наводит многих (и в т.ч. Цибарта – см. «Заметки о высшей школе») на мысль, что вместо подобных факультетов это могли бы быть отдельные учебные заведения. Идея обсуждается в президиуме ВКВТО (обзор работы за март – июль 1935 г., ВТШ 1935 № 8).
«Общетехнические факультеты |
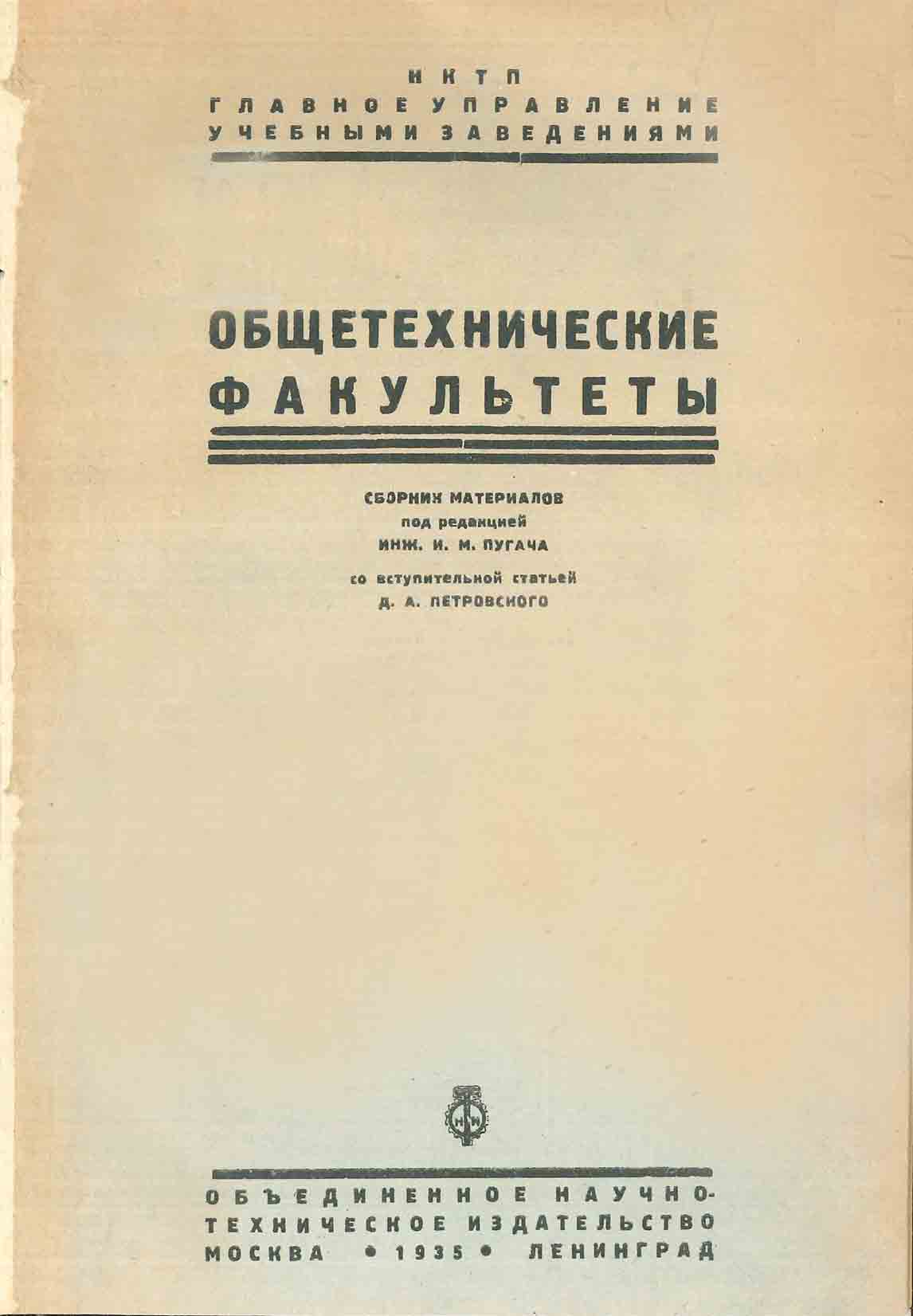
Через два года после создания ОТФ в обзоре писем, поступившем в журнал «За промышленные кадры» (1936 № 14 /октябрь/), упоминается и письмо молодых специалистов, окончивших в том году МММИ им. Баумана. Учившиеся во втузе еще до 1932-го года, «эти молодые специалисты оказались, по их выражению "пережитками" лабораторно-бригадного метода и других недостатков [тогдашней] учебной работы втуза». Так вот, «одним из главнейших моментов, определяющих успешную образовательную деятельность студента, является изучение общетехнических дисциплин, другими словами, – учеба на общетехническом факультете втуза. Товарищи, окончившие КрМММИ, правильно подчеркивают значение ОТФ как базы дальнейшего образования учащегося втуза. Необходимость глубокого изучения физико-математических и общетехнических дисциплин подчеркивается этими товарищами особо в силу того обстоятельства, что это обучение должно явиться прочной базой их с п е ц и а л ь н о г о образования. ОТФ по существу является первым основным фактором формирования технического мышления учащихся и способствует выработке навыков овладения методом науки...».
...Зато та же инспекция ВКВТО 1934-го года обнаруживает в МММИ «неудовлетворительную постановку социально-экономических дисциплин, отмеченную и комиссией по чистке» (что тоже для нас нынешних скорее отрадно); недостаточное, по мнению инспекции, преподавание этих ритуальных идеологических предметов отражало, очевидно, серьезность отношения к профильным дисциплинам. Интересно, что сам А.А. систематическое чтение советских трудов по общественно-экономической тематике даже вменял себе в обязанность (см. Дневник).
Создание Совета КрМММИ: ученые ИМТУ допущены в совещательный орган.
«Председатель ученого совета – Цибарт? Ничего подобного. Председатель ученого совета Куколевский»
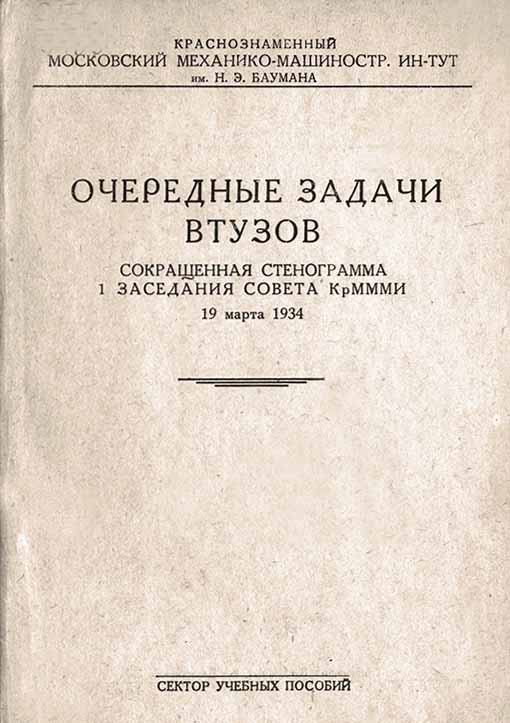
19 марта 1934-го года – открывающее заседание первого в СССР, после реформ 1928/29 гг., подобия ученого совета вуза, – Совета КрМММИ.
Отныне развитие втуза будет определять не только партком. На равных правах с преподавателями из рабфаковцев теперь будут говорить и беспартийные ученые, лучшие и старейшие профессора заведения – такие, как Куколевский или Шелест... Разумеется, голоса тех и других на Совете только совещательные. Решает председатель совета – директор втуза Цибарт, над ним – ГУУЗ. Но и это удивительное в своем роде событие составляет настоящую победу.
Первым на заседании в актовом зале МММИ выступает недавно вступивший в должность начальника ГУУЗ, член совета Д.А. Петровский. Свою речь он начинает именно с упоминания того дикого в нормальных условиях обстоятельства, что создание совета встретило сопротивление. «...Несколько слов о самом совете. Совет встречает довольно много возражений со стороны весьма активных товарищей. Они опасаются, что организация совета представляет попытку возродить коллегиальность, восстановить правление и т. д. Я думаю, что эти товарищи не поняли роли совета. Речь идет не о новой коллегии, не о старом правлении, а о создании совещательного органа, который мог бы весь колоссальнейший опыт, который накапливается в работе каждого втуза и особенно такого втуза, каким является КрМММИ, коллективным путем проработать для поднятия учебы на более высокий уровень...»
Далее Петровский останавливается на создании в МММИ общетехнического факультета, говорит о чрезмерном отсеве в МММИ, о других проблемах... В дискуссии по докладу принимает участие профессор И.И. Куколевский. Выступают преподаватели нового поколения, члены ВКП(б) проф. [О.О.] Науман (декан ф-та сварочного производства), доцент [Е.Б.] Иоэльсон, а также товарищи [М.Н.] Хахарев (бывший зам. декана, затем декан ф-та ТГМ) и секретарь парткома [П.Ф.] Юдин. Петровский, как всегда, легок и остроумен. «Я на своем веку сделал много докладов, но этому докладу особенно не повезло...»
Этот доклад с предисловием А.А. Цибарта и дискуссией издан институтом отдельной брошюрой (Петровский, Очередные задачи втузов; см. полный текст на сайте). Прорывное значение события, которое сейчас даже трудно ощутить, тогда было очевидным.
Что дал Совет КрМММИ лучшим ученым института? В административном плане как будто ничего. Но у них появилось официально признанное место для выражения своих мнений. До того их мнения могли быть услышаны администрацией разве что в личных контактах.
Так, вряд ли чем-нибудь, хоть самым малым, могла служить продвижению взглядов серьезных ученых в Бауманском так наз. «СНР» (секция научных работников профсоюза работников просвещения РСФСР). В эти последние годы своего существования СНР полностью подчинялась ВКП(б). При парткоме МММИ существовала «фракция бюро СНР», через которую партком фактически отдавал СНР указания. Характерно, как подбирался состав бюро СНР: партком определяет процент партийных членов в ней (больше половины), рекомендует и других членов, далеко не каких-то авторитетных ученых, а на усмотрение само́й фракции СНР – лишь двух профессоров. «2. Согласиться с бюро Фракцией [так в тексте] о составе бюро СНР из 9-ти челов. и организации 4-х секторов, обеспечить из 9 человек выборность – 5-ть челов. членов партии и 4 беспартийных. / Рекомендовать в бюро СНР, персонально т.т. Дзюба, Дубасова, Деборина, Дыскин, Требелева, Готесман, Кузнецова и 2-х профессоров по усмотрению Фракции СНР» (ЦГАМ П-158, оп. 1а, д. 7, л. 73. 17 июля 1931 г)... Достаточно вспомнить, что возглавлял фракцию СНР в 1931-м году аспирант Шлямберг, изгонявший в этом качестве из МММИ старых профессоров, чтобы понять, что СНР отнюдь не была их трибуной.
Иное дело – вновь созданный совет. Директор Цибарт, в качестве председательствующего (иначе быть не могло), отнюдь не использует на Совете КрМММИ весь свой партийно-административный вес. В отличие от фракции СНР, Совет института – насколько это было осуществимо – именно ученый совет, а не очередной большевистский орган. Самый убедительный признак того, что это так и было, – тот, что у преподавателей из «партийно-пролетарской аспирантуры» и сам ученый совет и роль в нем Цибарта вызывают нескрываемое недовольство. На партсобрании 1–4 декабря 1937 г. (см.), последнем для Цибарта, скорее всего была выражена позиция многих из них на этот счет. – Говорит доцент, преподаватель гидравлики и зав. аспирантурой, бывший красный партизан О.Г. Чутуев. «Есть еще одно ученое учреждение – называется ученый совет. Председатель ученого совета – Цибарт? Ничего подобного. Председатель ученого совета Куколевский. Этот совет – это говорильня. Нет ни одного решения, которое было бы доведено до конца. Почему? Поговорят, отобьют охоту у профессоров заниматься серьезными вещами, и на этом деле закончат. Заставляют профессоров десятки раз рассказывать учебные планы и под конец всех в мыле заставят подписать тот пункт, который делается для вредительской руки...» С определением «говорильня» соглашается на том собрании и другой преподаватель и партийный активист, один из главных обвинителей Цибарта – известный в будущем М.С. Ховах.
Может быть, излишне здесь подчеркивать, что ехидная фраза Чутуева «Председатель ученого совета – Цибарт? Ничего подобного. Председатель ученого совета Куколевский» – характеризует Цибарта как директора наилучшим образом.
Сохранились некоторые протоколы и стенограммы заседаний Совета КрМММИ 1934-го года. Это черновики резолюций по докладу на совете нач. ГУУЗа Петровского, дискуссии членов совета по текущим делам, программам, методикам и пр. Кстати, ни о каких критических недостатках в делах втуза, тем паче таких, за которыми можно было бы заподозрить «вредительство» (как о том повествует Прокофьев /см./ в 1955-м году), речи нет. Наверное, подобные споры ведутся на ученых советах и ныне.
Высказывание проф. Шелеста на совете относительно уровня подготовки прежних и нынешних студентов мы уже приводили. А вот другой интересный отрывок – из обсуждения проекта штатно-окладной системы оплаты труда преподавателей; сталкиваются административный (условно, Цибарт) и профессиональный (Куколевский) подходы. «ЦИБАРТ: Кто должен учитывать научно-исследовательскую и методическую работу сотрудников кафедры, кафедра или факультет? Кто согласен с тем, чтобы работы отдельных сотрудников учитывались самой кафедрой (предложение принимается) Или другой отрывок (л. 172) – здесь Цибарт показывает себя меньшим коллективистом, чем имевший нелады с советской властью О.А. Ерманский: ЦИБАРТ: «...этот пункт имеет целью выявить участие в коллективных работах, а зачем это делать? Мы сейчас против этого дела. Мы идем к тому, чтобы давать человеку не коллективные знания, а индивидуальные знания. |
Помимо своего основного назначения, Совет КрМММИ стал и местом многих важнейших официальных заседаний, проводимых Главным управлением учебных заведений НКТП (некоторые их них в этом очерке упоминаются). Как говорят институтские гонители Цибарта в декабре 1937-го года, уличавшие его в «связях» с арестованным нач. ГУУЗ Петровским, – «приезд Петровского в институт обставлялся как приезд хозяина и шефа, которого надо было встретить как бога. Конечно, все это создало только авторитет Петровскому. Совет института был трибуной для Петровского. Если Петровскому нужно было показать свой авторитет, он это делал через Институт» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 43, л. 52).
Как оно всегда и бывает, любые «послабления» со стороны власти – а с ней для профессоров должен был ассоциироваться и сам Цибарт – вызывают у тех, кого они касаются, не признательность, а еще бо́льшую неудовлетворенность и новые требования, соответствующие их идеалу положения вещей. В апреле 1937-го года именно проф. Куколевский на совещании актива КрМММИ говорит: «...за последнее пятилетие целевая установка нашей школы искажена дирекцией в корне: не для учебного дела существует административный аппарат дирекции, а учебное дело существует для административного аппарата. И членам совета приходилось настаивать, чтобы тот или иной вопрос, волнующий преподавателей, был подвергнут обсуждению на совете. Обычно нам предлагали для обсуждения на заседаниях совета винегрет из хозяйственных вопросов...». – Потрясающе! Неужели до 1932-го года интересы учебного дела, как они виделись профессорам, ставились выше партийных директив, которые и обязан был проводить аппарат? А «классовый враг» – профессор смел на чем-то настаивать? Хотя бы открыто высказать свою точку зрения, – ведь и самого́ ученого совета не существовало?.. – «Обычно в начале года приезжал Петровский, говорил декларативную речь, которая потом размножалась в десятках экземпляров; некоторые положения из этой речи становились законом. Так это было в прошлом году с неудачным распоряжением об отмене упражнений, потом признанное негодным и отмененное. Но, к сожалению, распоряжение критике не подверглось...» (ЗПК 1937, № 7-8). – Профессор полагал, что в силах Цибарта было отказать в приемах Петровскому, и это пошло бы на пользу институту?.. Или, еще удивительнее, что Цибарт с Петровским могли «подвергнуть критике» распоряжение СНК и ЦК ВКП(б) (имеется в виду п. III.1 Постановления от 23 июня 1936 г. о категорическом запрете семинаров)? Тут профессор выглядит не справедливее ярого партийца П.М. Зернова, выступившего 4 декабря 1937 г. с точно такой же претензией к Цибарту (см. в рубрике: «События и достижения 1936 – 1937 гг.»)...
Первые «Труды КрМММИ»
Планы издания собственного научно-технического журнала в МММИ вынашивались, самое позднее, еще с начала 1932-го года. На заседании Бюро парткома МММИ 23 января 1932 г. говорили о «НТ-журнале»; в качестве будущего ответственного (главного) редактора намечался, правда, борец со «реакционными профессорами» Шлямберг, числились в членах будущей редколлегии и другие «партийно-пролетарские» аспиранты – Эдельштейн (соратник Шлямберга) и Бабчиницер, все отделение СЭН (социально-экономических наук). Кроме них, зам. директора по учебной части Воскресенский. Но все-таки первыми среди членов редколлегии называются ученые: профессора Тихомиров, Смирнов, Саверин, Куколевский и Беспрозванный. Разрабатываются «Основные задачи научно-технического журнала МММИ» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 11, лл. 41, 48).
Подобное издание стало возможным после реформы Кржижановского. 14 февраля 1933-го года приказом Орджоникидзе, в числе прочего, МММИ разрешается «в первом квартале 1933 г. приступить к изданию ежемесячного научного бюллетеня».
20 мая 1934 г. «сдан в производство», а 19 июня подписан к печати, тысячным тиражом, первый выпуск «Трудов Кр. МММИ им. Н.Э. Баумана». Отв. редактор – А.А. Цибарт, его заместитель – аспирант и партийный активист П.М. Зернов; зав. редакцией инж. В.И. Раскин. Другие члены редколлегии в выпуске не указаны. «Накопившийся опыт научно-исследовательской работы, рост творческой инициативы проф.-преподавательского коллектива и особенно молодых научных работников-аспирантов поставили перед Институтом задачу о выпуске специального печатного органа научных трудов»; «Первый выпуск "Труды КрМММИ" есть начало большого дела. В нем из помещенных 4-х работ, две работы принадлежат молодым научным работникам, окончившим наш И-т; первая "Испытание круглых плашек" доц. Грановскому, вторая "Теория теплопередачи в конденсаторах" доценту Иоэльсон» (другие две работы – проф. В.П. Никитин «К теории генератора с расщипленными полюсами» и Д. Панов "Приближенное численное решение краевых задач теории теплоперехода»). «При издании первого выпуска имели место свои большие трудности, как и в каждом вновь начинаемом деле. Безусловно, в нем есть шероховатости и недостатки и наша задача состоит в том, чтобы быстрее их устранить и планомернее наладить систематический выпуск в свет сборника "Труды КрМММИ"...» (от редколлегии).
Между прочим, издание «Трудов...» в 1940-м году было прекращено (возможно, публикации стали невозможны в связи с передачей МММИ в наркомат обороны).
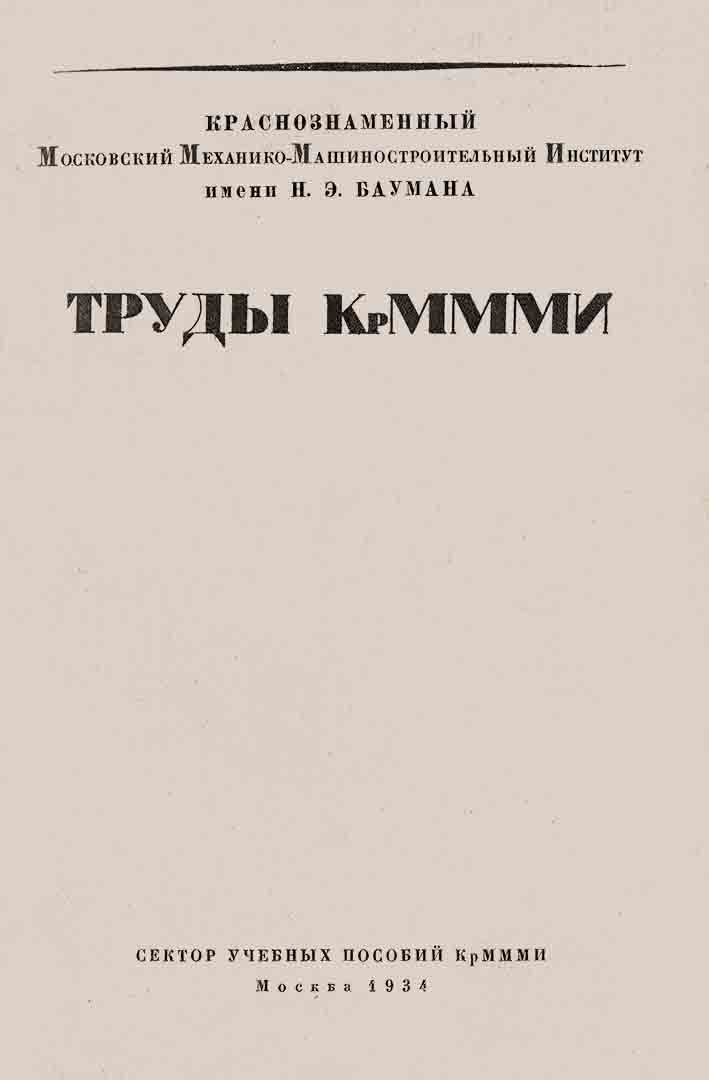
«Кадры о кадрах», отделение для слабослышащих студентов, спорт,
лекции по самостоятельности и др.
В 1934-м году в повестке заседания Совета КрМММИ еще упоминается в т.ч. смета на строительство новых зданий института (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 11, л. 32)...
Отмечается успешная работа Научно-исследовательского комбината (НИК МММИ), созданного Цибартом еще в 1932-м году, до соответствующего приказа Орджоникидзе.
Выходит на экраны 15-минутный фильм «Кадры о кадрах – рапорт ВТУЗов» (студия Союзкинохроника, реж. И.В. Венжер). Половина времени в нем посвящена МММИ им. Баумана. В журнале «За промышленные кадры» была помещена статья-анонс «Кадры о кадрах» (ЗПК 1934 № 8 /апрель/): «под таким названием появится первый звуковой короткометражный фильм о высшей технической школе тяжелой промышленности». В статье – кадры из фильма, в т.ч. восемь кадров из жизни МММИ. На одном из них, «На защите дипломного проекта парттысячника т. Зернова» (если имеется в виду П.М. Зернов, защищавший диплом в 1933-м году, то он парттысячником все-таки не был) – в комиссии видим Цибарта. К сожалению, в тех двух больших фрагментах фильма, которые можно в идеть в Архиве кинофотодокументов (РГАКФД, уч. номер 3717), именно этих кадров нет...
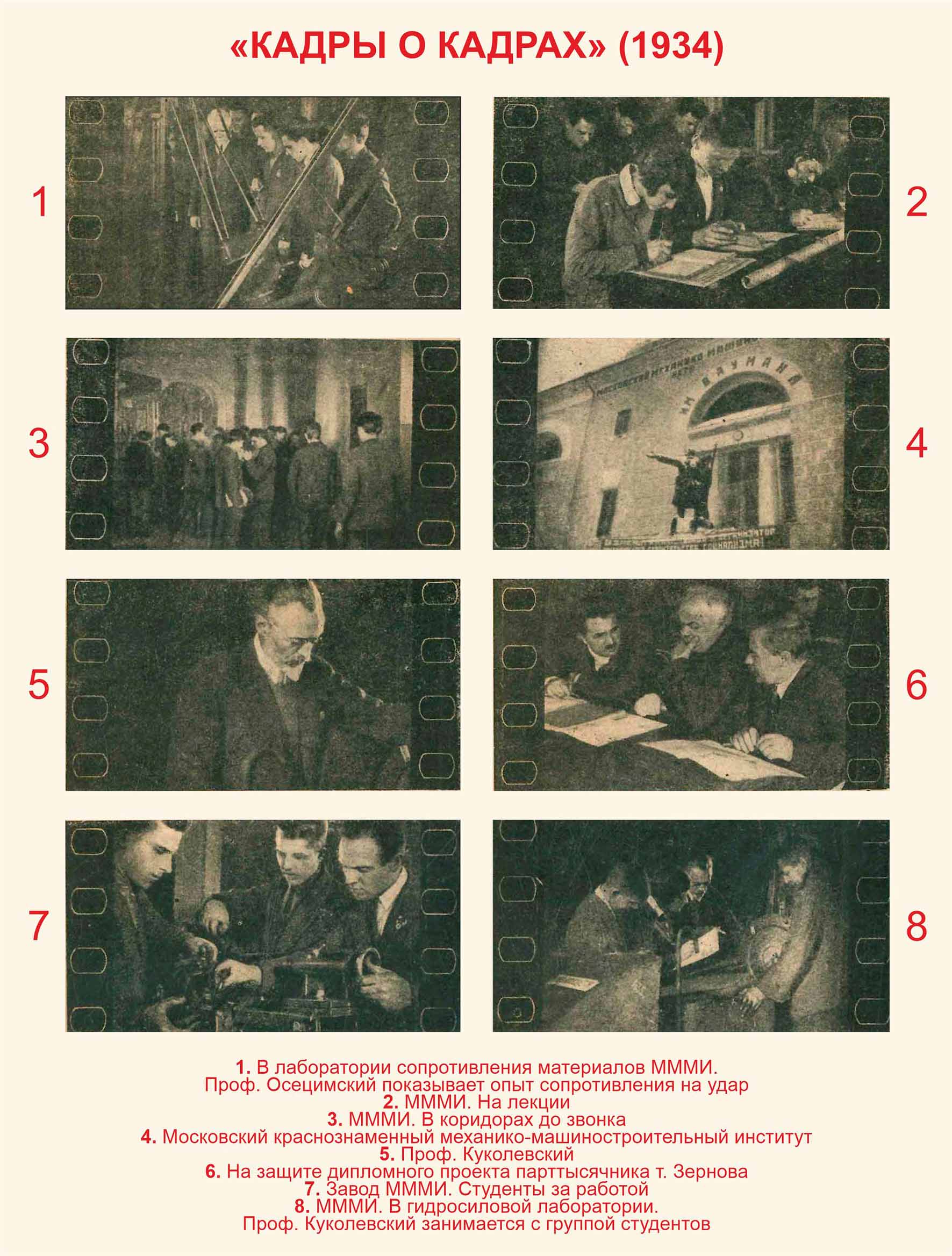
На кадре № 6, слева направо: А.А. Цибарт, Л.П. Смирнов, Е.К. Мазинг


«Кадры о кадрах – рапорт втузов», 1934. Кадры из фильма
«9 мая научно-техническая общественность отметила 40-летний юбилей инженерной и научно-педагогической деятельности профессора Московского механико-машиностроительного института Л.Г. Кифера...» (ЗПК 1934 № 10 /май/).
Открывается отделение для слабослышащих студентов. «Далекий 1934 год... В Совет народных комиссаров приходит письмо от группы молодых инвалидов с просьбой о зачислении в вуз. Реакция на обращение оказалась положительной и скорой – в том же году в Московском механико-машиностроительном институте создается специальная группа для студентов с ограниченными возможностями по слуху. Так МГТУ им. Н.Э. Баумана стал первым учебным заведением, где глухие и слабослышащие граждане нашей страны начали успешно обучаться инженерному делу» (см. в интернете: Бауманский университет: инклюзивное образование для слабослышащих). «Приказ № 26/387 от 25 августа 1934 года по Главному Управлению Учебными Заведениями гласит: "Разрешить организовать дополнительную академическую группу из числа выдержавших приемные испытания глухонемых в количестве 11 человек". В 1934 г. в Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана поступило на факультет [точнее: специализировались по кафедре] пищевого машиностроения 11 инвалидов по слуху. Организация группового обучения инвалидов в одном из престижнейших вузов страны стала возможной благодаря содействию со стороны наркома тяжелой промышленности С. Орджоникидзе» (Головной учебно-исследовательский и методический центр, Википедия). При основании в этом отделении было всего 11 человек, ныне – сотни.
«В Советском союзе 113000 глухонемых. Их породили рабские условия быта рабочего класса дореволюционной России.» «В этом году во время нового приема в Московский механико-машиностроительный институт им. Баумана по инициативе ГУУЗ НКТП была впервые организована группа студентов из глухонемых. «В группе глухонемых (их 15 чел.) есть представители далеких окраин СССР.» «Первые результаты работы группы в институте полностью подтверждают возможность учебы глухонемых в высшем техническом учебном заведении. Группа занимается отдельно от других студентов, но изучает все те предметы и в том же объеме, что и остальные студенты нового приема. «Опыт работы глухонемых МММИ уже широко известен за пределами Москвы…» «МММИ должен помнить, что ему поручено новое большое и серьезное дело и что он обязан поэтому сделать все, чтобы оправдать огромное начинание.» (Ю. Суро. Глухонемые во втузе. ЗПК 1934, № 21-22) |
Получает достойную оценку борьба за улучшение студенческого быта в МММИ (ЗПК 1934 № 15 /август/): в результате конкурса 1934-го года на лучшую студенческую столовую МММИ получает вторую премию (всего было назначено три вторых премии). Об этом нужно упомянуть, поскольку именно злополучные столовые, в числе прочего, послужат поводом для лишения МММИ в 1935-м году знамени «Лучшего втуза СССР»...
Зимой 1934-го года в МММИ была учреждена постоянная спортивная школа. 7 июля 1934 года – открылась первая Всесоюзная спартакиада втузов тяжелой промышленности. Событие было громкое, ему посвящается подарочное издание (см. Источники). На этих состязаниях студенты МММИ завоевывают сравнительно скромное 5-е место. (Об этом подробнее см. в рубрике «Физкультура и спорт в ВММУ–МММИ».)
Студентов специально учат работать самостоятельно. «В МММИ в текущем учебном году была произведена некоторая весьма ценная в этом отношении работа: на общетехническом факультете состоялись доклады по методам самостоятельной работы студентов по математике (проф. Панов), по физике (проф. Котов), по прикладной механике (проф. Смирнов) и по деталям машин (проф. Саверин). На механ[ик]о-технологическом факультете состоялся доклад доцента Зайцева о методике проектирования грузоподъемных машин...» (ВТШ /Высшая техническая школа/ 1934 № 4 /декабрь/, проф. П.И. Каган, Бюджет времени и загрузка студентов).
«Учиться и после втуза с помощью втуза»
Налаживается прямое взаимодействие между преподавателями МММИ и выпускниками на производстве, особенно испытывающими трудности. Это – во исполнение приказа Орджоникидзе по втузам от 28 августа 1933 г. В своей статье 1935-го года «Проверка качества» А.А. Цибарт кое-что рассказывает об этой работе (ЗПК 1935 № 24 /декабрь/, сс. 18–23):
«...Даже самый лучший втуз не может создать инженера, который мог бы сразу, без всякого "разбега", освоиться с новой производственной обстановкой. Втуз дает основные знания, основные методы подхода к производственным вопросам.
На первых порах инженер особенно остро испытывает необходимость систематической помощи – советов, консультаций и т. п. – в части теоретических и практических навыков. Задача втуза – следить за инженерами – выпускниками втуза, помогать им и вооружать их теми знаниями, которых им нехватает по роду той работы, на которую они поставлены.
Точно так же и для втуза чрезвычайно полезно, при правильной связи со своими бывшими воспитанниками, работающими на производстве более или менее продолжительное время, постоянно обновлять и оживлять иллюстрациями, наглядными пособиями, практическим материалом те сведения, которые преподносятся студентам во время лекций и учебных занятий.
Правильно организованная связь втуза и молодых инженеров взаимно полезна.
Эта связь должна проводиться прежде всего через заведующего кафедрой той специальности, по которой данный инженер учился. Но более эффективной связью является связь личная между профессором, который вел дипломное и курсовое проектирование, который руководил лабораторными знаниями, и инженером путем личной переписки, поездки на завод, периодических конференций, допуска инженеров к исследовательской работе во втузе, приглашения на заседания кафедры, чтения научных и производственных рефератов на заседаниях кафедры и т. д. ...
Московский краснознаменный механико-машиностроительный институт выпустил не одну сотню инженеров. Наши инженеры работают в самых различных областях машиностроения. Многие из них обращаются к нам за практической помощью и советом. Мы получили не один десяток писем бывших наших воспитанников, в которых они указывают на те пробелы, которые имеются в их знаниях. И нужно сказать, что далеко не все профессора, даже у нас, в краснознаменном институте, в достаточной мере понимают большое значение связи с инженерами, окончившими наш институт...».
Между прочим, через два года после приказа Орджоникидзе об этом нововведении во втузах – к сожалению, не на примере МММИ – выйдет заметка Варлама Шаламова («Памяти Гаудеамуса», журнал «За промышленные кадры», 1935 № 15 /август/, сc. 56–58). Разумеется, это скорее сочинение на заданную тему, чем авторский труд – не вполне «тот» Шаламов...
«Пьяными голосами в последний раз пели "Гаудеамус игитур", нетвердой рукой выводили фамилии на белом картоне групповой (в овалах) фотографии выпуска. Плакали, жали друг другу руки, обещали съехаться в городе, в "альма матер" через пять, десять лет. Расставались. Дома вынимали новенькие инженерские фуражечки и по гимназической студенческой традиции мяли, комкали, пылили добротное блестящее сукно, чтобы на второй день после выпуска сойти в глазах обывателя за видавшего виды инженера. А через пять, десять лет собирались – кто мог. Снимали ресторанный зал и, успевшие отпустить брюшко, на казенных подрядах познавшие прелести устриц и тухлых рябчиков, делились успехами своей карьеры. Здесь рождались завистники. Здесь, после третьей дюжины редерера или просто кахетинского, толковали о неудачниках. Здесь вспоминались студенческие проделки. И после трехдневного пьянства, на которое с умилением поглядывали отцы города – они же отцы "юбиляров", наступал апофеоз – мертвая латынь "Гаудеамуса", похожая на торжественный колокольный звон.» «В обычное, не юбилейное время, ни "альма матер" не интересовалась своими питомцами, ни они ею. Что инженеру может дать институт после окончания? Что он Гекубе? И что она ему? Все шли своими путями, и лишь изредка, прослышав про шумную карьеру своего бывшего питомца, институт заносил на золотую доску его фамилию, имя и звание – в назидание "оперяющимся птенцам". «Учиться и после втуза с помощью втуза, вместе с втузом улучшить учебу студента – вот за что развертывается борьба, вот чему будет служить связь с окончившими и "съезды" бывших студентов. Втуз связывается дружеским и крепким союзом со своим студентом не на 4–5 лет, а по меньшей мере вдвое больше. Еще до института – в десятилетках, на рабфаках – втуз выбирает будущих студентов. Втуз протягивает руку помощи своим бывшим студентам через стены института, техникума – на фабрику, на завод. На них, на молодых инженерах, на их качестве и социальном и производственном (они неразрывны) держит экзамен сам. Эта связь с окончившими – не рестораны Кюба и не "Гаудеамус", мертвый, как мертва латынь. Это – рост человека, строителя социализма. |
Перегрузка студентов, дискуссии об их самостоятельности, умеренная позиция Бауманского
и добавление ГУУЗом 2-х свободных дней в шестидневку в 1935-м году
В это время много говорят о перегруженности студентов, выдвигается идея освобождения студентов от некоторой части занятий. Сторонником разгрузки был и А.А. Цибарт, но скорее с точки зрения увеличения самостоятельности студентов, в духе «предметной системы», чем механического сокращения времени дневного пребывания студентов во втузе. «Основной предпосылкой ее [реформы учебного режима в МММИ] взято положение, что рационализация учебного процесса должна иметь в виду всю массу студенчества при сохранении для основных учебных занятий жесткого академического режима, одинаково обязательного для всех студентов. Таким образом ни в чем не противореча постановлению ЦИК СССР, институт считает необходимым выполнить то указание этого решения, по которому шестичасовой рабочий день является предельным максимумом, и полагает возможным рационализировать учебный режим за счет сокращения обязательного времени, проводимого во втузе под непосредственным руководством преподавателей» (ВТШ 1935 № 1, проф. Каган). Умеренная позиция Бауманского в этом направлении вполне удовлетворяет Комитет по высшей технической школе, но ГУУЗ НКТП настаивает на «полусвободном режиме».
ВКВТО относится к этой идее весьма настороженно. «...Но вот возникло течение за освобождение от обязательности посещения части лекций и групповых занятий. Появились энтузиасты этой, конечно отнюдь не новой системы [имеется в виду та самая "предметная система" ИМТУ; здесь напоминание о ней звучит как угроза]. Многие увидели в ней средство от всех бед высшей школы. Было предложено испытать несколько иной режим, чем введенный после постановления ЦИК СССР: оставляя обязательными и зачеты, и контрольные работы, и все остальные требования освободить студентов от посещения некоторой части дисциплин. Инициатором этого проекта явился Московский энергетический институт, позже к нему примкнул Институт стали. ВКВТО разрешил эти опыты, сразу подчеркнув, что они являются строго локализованными и не должны быть перенесены на остальные вузы и втузы. … Прошло почти полгода со времени начала этих опытов. Каков результат? Получилась ли та значительная экономия времени, о которой говорили его организаторы и которая должны была оправдать весь опыт. На это нужно ответить отрицательно» (ВТШ 1935 № 1, За дальнейшую рационализацию учебного процесса, редакторская статья). ВКВТО и далее выступает против «полусвободного режима» (сторонником которого был, как ни странно, ГУУЗ), привлекая уже более грозные, идеологические аргументы. «Не нужно забывать, что среди преподавателей и отчасти студенчества еще имеют хождение "теорийки" относительно того, что у высшей школы "совсем иная стать" … Доводы их довольно элементарны: "Долой школярство в высшей школе", "Дайте простор инициативе студента!", "Пора раскрепостить студента!" и т.п. Вряд ли нужно доказывать, что все эти разговоры по существу направлены против твердого режима, большевистской дисциплины и порядка в высшей школе»; «... На производстве никому не придет в голову "раскрепостить" рабочих и служащих, или, например, ввести необязательное посещение завода или фабрики. В нашей же высшей школе эти левацкие установки, к сожалению, неоднократно возникают, питаемые, с одной стороны, мелкобуржуазным влиянием людей, воспитавшихся в других условиях, и, с другой стороны – нашим неумением как следует организовать работу в вузах и втузах» (ВТШ № 9, редакционная статья). |
Дискуссии о степени самостоятельности студентов велись жесткие, ВКВТО и Бауманский против «полусвободного режима», ГУУЗ НКТП, МЭИ и другие втузы – за. В конце концов победит самая радикальная «либеральная» линия: начиная с осеннего семестра 1935/36 г. Петровский распорядится на двух старших курсах сделать свободными для студентов два дня шестидневки, не включая выходного, а 23 июня 1936 г. постановлением СНК и ЦК ВКП(б) станут свободными по дню для III и IV курсов, и по два дня для V-х курсов в шестидневку. (Этой темы мы еще будем касаться далее.)
Вообще говоря, «теорийки относительно того, что у высшей школы совсем иная стать» сами по себе совершенно справедливы. Почему же их не стоило воплощать в жизнь столь радикально, как это сделали ГУУЗ, СНК и ЦК ВКП(б)? Потому, очевидно, что в новых советских реалиях высшая школа еще не стала, так сказать, вполне высшей.
Действительно. Досоветская предметная система, довольно явно присутствующая в дискуссии о самостоятельности студентов в качестве образца у одной стороны и в качестве пугала у другой, отнюдь не ставила целью разгрузку студентов, напротив, возлагаемая на студентов самостоятельность оказывалась для многих из них непосильной. («Дни и ночи сидели в библиотеке» и т.д.) Делая посещение части занятий необязательным, предметная система не предполагала снижения требований к окончательному результату, к знаниям студента (то же и Цибарт: «и лучше проверять!»). Тогда это было ясно и преподавателям, и студентам. Если в новых условиях необязательность каких-то занятий означала только «разгрузку», это заставляет подозревать, что уровень студента при новом режиме снизился в чем-то самом существенном – именно в отношении к учебе.
Унаследованная проблема (одна из многих)
В конце 1934-го года была решена давнишняя частная проблема МММИ, одно из последствий волюнтаристского разделения МВТУ в марте 1930-го года. «Это разделение МВТУ на пять вузов создало определенные трудности для работы на кафедре физики, так как Физический институт перешел в ведение Высшего энергетического училища (ныне МЭИ)»; «Этот период был трудным в жизни кафедры. Отсутствие физического кабинета и физической лаборатории отрицательно сказалось на учебном процессе, поскольку лекции читались без сопровождения демонстрациями. К тому же студенты МММИ занимались уже в чужой лаборатории, и отмечалось неудовлетворительное обслуживание студентов МММИ со стороны физической лаборатории МЭИ, так как для ведения учебных занятий были выделены недостаточно квалифицированные преподаватели. Кроме того, преподаватели кафедры физики МММИ не имели научной базы для научно-исследовательской работы и повышения своей профессиональной квалификации, поскольку в те годы на кафедре велась главным образом учебно-методическая работа: совершенствовались учебные программы, проводилась увязка лекций с семинарскими занятиями. Был организован курс лекций для аспирантов по отдельным новейшим достижениям в области физики в соответствии с рекомендациями руководства института. На основании докладной записки профессора Б.И. Котова [зав. кафедрой физики] директор МММИ [А.А. Цибарт] направил в ГУУЗ (Главное управление учебными заведениями [НКТП]) просьбу о возвращении Физического института. Просьба была удовлетворена, и в конце 1934 г. Физический институт был возвращен МММИ» (см. Балабина).
Понятно, что и докладная записка зав. кафедрой Котова и официальная просьба неназванного директора МММИ, увенчавшаяся успехом – лишь завершение долгой разъяснительной работы, проводившейся Цибартом в ГУУЗе.
(Как следует из цитируемой здесь книги Г.В. Балабиной «История кафедры физики МГТУ...» /см./, Физический институт разместился поначалу на своем прежнем месте – бывш. здании физико-электротехничекого института ИМТУ. Позже он переедет в главное здание.)
Вечер иностранных языков
Продолжая хронику событий. – В конце декабря 1934-го года в МММИ состоялся «Вечер иностранных языков» (ЗПК 1935, № 7 /апрель/, зав. кафедрой иноязыков МММИ Е. Юргенсон). Вечер был организован деканатом общетехнического факультета и кафедрой иностранных языков МММИ. В результате возникли шесть разговорных кружков, «кадры инкоров», немецко- и англоязычный хоры, начали издаваться бюллетени на иностранных языках. 23 марта 1935 г. в «Комсомольской правде» пишут об иностранных языках в Бауманском – о студенческих кружках иноязыков, в частности о работе одного из них по переводу статей по контактной сварке. В 1936-м году подготовленный студентами сборник «Сварные конструкции» издает ОНТИ (об этом см. в рубрике «Иностранные языки в МММИ...»).
Мысли о перспективах
В 1934-м году в МММИ думают о перспективах, о «пятилетнем плане развития института» (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 11, л. 114). Впрочем, пятилетний план – директива ГУУЗ. Институту предстоит расти. Это в русле новой политики партии; если в 1929–1930 гг. власть дробила втузы, теперь их объединяет. Так, 28 августа 1933 г. Орджоникидзе приказывает: «ГУУЗ в месячный срок представить мне проект дальнейшего укрупнения втузов на основе слияния их в целях улучшения качества подготовки специалистов», в том же году МММИ поглотил автогенно-сварочный институт. «Весьма вероятно, – планирует Цибарт, – что к нашему ВТУЗ"у целесообразно будет присоединить Автотракторную специальность и, возможно, специальность по сельхозмашиностроению, а также специальность Станкостроения»... В институтской партийной среде, однако, не все рады расширению МММИ, а в 1937-м году даже вменят это А.А. во вредительство: «тов. ХОВАХ. "Основной факт вредительства это срыв строительства и наполнение нашей коробки за счет впитывания других ин-тов без соответствующего обеспечения аудиторно-лабораторным фондом..."».
Пока же по политической линии у МММИ все в порядке. «Руководитель чистки партийных организаций по Московской области т. Кнорин так характеризует состав московских вузов: "В вузах мы имеем теперь прекрасную партийную организацию. Партийные организации (МГУ, МММИ, МЭИ) — эти крепкие сплоченные большевистские организации — теперь ничем не напоминают о той расхлябанности вузовской партийной жизни, на которой 10 лет назад спекулировал Троцкий» (ЗПК 1934 № 1)...
Первые бедствия
...Есть и критика со стороны высшего руководства. «Вы все читали письмо, которое опубликовано в Ударнике [институтской многотиражке]. В этом письме нас обвиняют в зазнайстве, что мы ослабили темп работы и т.д. В значительной мере это соответствует действительности, нам нужно подтянуться»; «газета "Ударник" поместила письмо ЦК Машиностроения что наш Краснознаменный ВТУЗ стоит под угрозой отдачи почетного Красного знамени» (Цибарт, 11 апреля 1934 г.). Об «элементах зазнайства и самовлюбленности» говорят на парткоме и другие. Но тут достаточно лишь «подтянуться».
В 1934-м году МММИ постигают и первые крупные неудачи, точнее беды.
Купленный у завода им. Лепсе совхоз в Вельяминово оказался, как замечают «очень ответственные руководители райкома партии», «котом в мешке». «Когда мы с Цибартом были в совхозе и потребовали рассказать – что где растет, то в частности задали вопрос, какого года клевер, то нам сказали – 31 года. Значит клевера у нас скоро не будет», и т.д. (секр. парткома Юдин, партконференция 11 апреля 1934 г.). Что до непосредственных руководителей совхоза – зам. директора Козлова и директора совхоза Тюленева, – то «Козлов умер для нас но не для следственных органов», Тюленева «разыскивает прокуратура»... 10 декабря 1934 г. – доклад т. Горина на парткоме. – «...Директор института т. Цибарт лично уделял недостаточное внимание работе и развитию совхоза. Работники же совхоза (т. Савкин, Гольдаш), полагаясь на помощь свыше, не проявили достаточной инициативы... Иждивенческие настроения в руководстве совхоза не изжиты до сих пор.» По молодняку, коровам и свиноматкам «чрезвычайно большой отход … что, хотя и мотивируется заболеванием чумой и паратифом, но не может быть признано как уважительная причина, т.к. заболевание явилось следствием плохого содержания скота и слабых санитарных мероприятий». Несмотря на это, еще к 1 января 1935-го года «магазины ЗСК ... работают: магазин Ин-та, магазин Лефортовского студгородка, магазин № 4 (Немецкий рынок)». Рентабельность студенческого кооператива – отчасти, может быть, и из-за борьбы парткома с проявлениями «торгашеского духа торговли» в нем – оказывается слишком низкой. В конце концов в институте «своя мясная лавка» закрывается.
Под ударом оказывается и развитие самого́ института. В октябре 1933-го года, когда еще готовились к юбилею, в должность начальника ГУУЗа вступил Д.А. Петровский. Налаженные отношения с ГУУЗом, которые с удовлетворением отмечал тогда Цибарт, на самом деле предстоит выстраивать заново. Оперативно принятые дипломатические меры – вроде рокового (в будущем) портрета Петровского в директорском кабинете и в юбилейном сборнике МММИ – эффекта не возымели... Новый начальник интерпретирует февральский приказ Орджоникидзе таким образом, что столетие относилось все-таки не к одному МММИ, а ко всему бывшему МВТУ. «И появился новый приказ Серго, где говорится о столетнем юбилее МВТУ и созданных на его базе пяти ВУЗ'ах» (см. Партсобрание). Это привело, в частности, к тому, что из 750 тысяч, выделенных на оборудование, институт получает лишь 500, и никакие хлопоты Цибарта, институтских «делегаций» и самого́ Петровского практически ни к чему не приводят.
|
«О смете института на 1935 г. / док. т. Цибарт» «ПОСТАНОВИЛИ: (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 26, л. 16) Заметно, что несмотря на обычный дипломатический настрой Цибарта, позиция МММИ весьма наступательная. |

Катастрофой закончилось дело с безотлагательно начатым, после приказа Серго 14 февраля 1933 г., строительством нового корпуса. «Несмотря на то, что приказ был издан 14/II, мы тем не менее сумели добиться того, что были заключены договора с проектирующими организациями, составлены проектные задания по каждой лаборатории, составлен проект всего этого дела, составлен договор с подрядчиком, который взялся за эту работу. И больше того. Мы приступили к завозу материалов, частично закупили материал, и частично начали рыть котлован» (см. Цибарт, Партсобрание). Оперативность руководства МММИ, действительно, удивляет. «Капитальное строительство началось, и в этом году институт получит дополнительно 40 тыс. м3 новой аудиторно-лабораторной площади...» (Яковлев, Юбилейный сборник, 1933). Именно столько кубометров было означено в приказе Серго. Однако строительство лишается дальнейшего финансирования и замороживается. Нач. ГУУЗа Петровский предлагает, взамен нового корпуса, передать МММИ помещение МЭИ (т.е. вернуть здание бывш. Физического института), но этот вариант МММИ категорически не устраивает, т.к. новый корпус имел бы значительно бо́льшие площади и удовлетворял бы нестандартным габаритам лабораторий. «Ходили и в МК, и в РК и в ЦК. Я ходил и целые делегации, и партийный комитет ходил, и в результате денег в 34 году не получили» (Цибарт, Партсобрание). Затем выяснится, что согласно разрабатываемому генплану Москвы русло Яузы должно быть скорректировано таким образом, что сама возможность строительства на отведенном участке оказывается под вопросом – и оно будет окончательно прекращено. Вырытый под фундаменты котлован придется засыпать, вернув территорию под институтские спортплощадки, а закупленный бут реализовать. Государство понесло убытки (118 тыс.), а Цибарту – если заглядывать еще дальше, в финал – добавится еще один пункт обвинения.
Взамен просторного и удобного неосуществленного корпуса МММИ все-таки получает, как сказано выше, устаревшее здание Физического института, отошедшее в 1930-м году к МЭИ. (Будущие обвинители Цибарта заподозрят, что в этом и состоял его собственный «вредительский» план, и А.А. придется доказывать обратное.)
Опыт методической работы Бауманского.
Выставка на Рождественке, научно-техническая конференция, математическая олимпиада
1935-й год.
Один из «опорных втузов» Всесоюзного комитета по высшему техническому образованию, МММИ им. Баумана – лидер в разработке учебных методик для машиностроительных институтов. Еще в 1934-м году ОНТИ выпускает сборник учебных планов и программ по циклу машиностроения, под редакцией заместителя директора МММИ по учебной части проф. Красноперова (см. Источники). Как о том уже говорилось выше, в МММИ был создан специальный учебно-методический кабинет (ЗПК 1934 № 5-6 /март/; ВТШ 1935 № 6, проф. А.И. Дыховичный, Опорные втузы и методические кабинеты / форма и существо их работы).
В начале 1935-го года журнал комитета (ВТШ 1935 № 2) помещает выступление профессора МММИ Г.А. Осецимского на пленуме Высшего учебно-методического совета ВКВТО в декабре 1934-го года «Опыт методической работы втуза». (Ссылку на полный текст этой статьи см. в списке литературы, ниже – цитаты из нее.)
Проф. Г.А. Осецимский «Методическая работа в Московском механико-машиностроительном институте им. Баумана обнимает собой все виды обучения, а именно: аудиторные занятия, лекции и упражнения, графические работы, черчение, проектирование, работу в лабораториях и технологическую практику в учебных мастерских, производственную практику, дипломные проекты и их защиту. «...Переход от работы под руководством преподавателей к самостоятельной работе студента стоит в центре нашего внимания, начиная с первого курса, с первого семестра.» «Приходится иногда слышать, что методика преподавания чужда преподавателю специальной дисциплины во втузе: что первое требование, предъявляемое преподавателю специальной дисциплины, это – хорошо владеть своим предметом. Методика преподавания предмета дело второстепенное, даже больше – методика преподавания не его, специалиста, дело. Это явное недоразумение. Каждый преподающий, кто бы он ни был, должен решить вопрос: как именно он должен преподавать? ...» «Методика преподавания какой-либо дисциплины неразрывно связана с характером дисциплины, а также и с условиями, при которых она преподается. Поэтому мы пришли к необходимости составления частных методик обучения. В первую очередь мы поставили себе задачей составление частных методик для первых двух курсов по физико-математическим и общетехническим дисциплинам. Уже составлены и представлены в ВКВТО методики преподавания нижеследующими кафедрами: физики, теоретической механики, сопромата, начертательной геометрии, черчения, сварных конструкций, технологии металлов (учебные мастерские); методика преподавания немецкого языка представлена в ГУУЗ НКТП. Что касается составления общей методики, то на наш взгляд она не может в достаточной мере удовлетворить преподавателя, ведущего определенный курс.» «На старших курсах центр тяжести работы студентов сдвинут в сторону самостоятельной работы. Это, конечно, не может не найти своего отражения в частной методике, но не исключен и такой поспешный вывод, что на высших курсах методика преподавания играет второстепенную роль: педагог здесь должен дать материал, указать литературу, источники – и только. По нашему мнению, однако, из этого еще не следует, что методика в данном случае является второстепенным фактором. И в этом случае должен быть решен вопрос, как надо преподавать? «По вопросу о качестве лекций существуют различные мнения. Поставив себе этот вопрос, мы организовали конкурс на лучшую лекцию.
В высшей степени показательно замечание одного из профессоров, читающего курс по специальной дисциплине, который по конкурсу оказался одним из лучших. Он сообщил, что вообще его слушает внимательно вся аудитория, но в одном случае на последних лекциях внимание слушателей ослабело, на задних местах стали читать газеты, разговаривать, заниматься посторонними делами и т. д. В чем же дело? По учебному плану по этому предмету дано мало часов для упражнений, и последние часы лекций были прочитаны без последующих упражнений, следовательно, и без последующего учета, и этого оказалось достаточно для того, чтобы аудитория стала менее внимательно слушать хорошего лектора. «По предложению ВКВТО, МММИ занялся вопросом рационализации учебного процесса на первых двух курсах в пределах возможности высвобождения часов упражнений для более успевающих студентов...» «Чрезвычайно важен вопрос о трудности домашних заданий. Они должны подбираться и по количеству и по трудности в строгом соответствии с силами и временем студента не среднего, а удовлетворительно успевающего. Что касается студентов, хорошо и отлично успевающих, то для них задания должны соответственно осложняться. «[Преподавателю] необходимо хорошо знать как успевающих, так и отстающих, для того чтобы создать отличникам условия для более быстрого их роста и обеспечить помощь отстающим.» «Для того чтобы распределение студентов по специальностям на пятом семестре происходило правильно, необходимо вмешательство общетехнического факультета, согласованное со специальными факультетами. Одного желания студента недостаточно для того, чтобы выбор специальности оказался правильным...» «В непосредственной связи с планированием самостоятельной работы студента находится составление расписаний занятий. По этому вопросу учебно-педагогическим кабинетом разработана методическая инструкция...» «...В институте им. Баумана на общетехническом факультете организовано тщательное изучение преподавательского состава. Для каждой группы, по каждому предмету имеется характеристика преподавателя, составленная на основании подробного ознакомления с итогами учебной работы, с учетом отзыва группы на производственных совещаниях, на основании отчетных докладов кафедр и других факультетов.» «...Посещаемость лекций студентами не является еще критерием качества работы преподавателя.» «...Преподаватели должны также дать характеристику группы в целом и каждого студента в отдельности.» «Повышение квалификации преподавателя как педагога лежит на обязанности руководства кафедрой...» «Особенное внимание уделяется более молодым и менее опытным педагогам. Как на частный случай, можно указать на кафедру химии, где все молодые преподаватели обязались посещать лекции профессора, заведующего кафедрой...» «Вопрос об отстающих [студентах] возникает вследствие того, что пока мы вынуждены еще принимать в институт студентов без достаточной подготовки.» «Выделяемые часы упражнений, т. е. высвобождение времени для самостоятельной работы более успевающих студентов, должны быть использованы для работы преподавателя с менее успевающими студентами.» «Часто ставится вопрос: какой должна быть консультация – обезличенной или ее должен проводить преподаватель своей группы? Думаем, что наиболее целесообразна последняя форма. Опасения, что студенты будут избегать консультирования у своих преподавателей из боязни обнаружить свое незнание, неосновательны...» «Базой для подготовки инженера механика-машиностроителя являются черчение и начертательная геометрия. Поэтому мы делаем особый упор на прохождение этих дисциплин на первых трех семестрах.» «Основной базой повышения квалификации преподавательского состава и подготовки высококвалифицированных инженеров являются научно-исследовательские лаборатории. Институт располагает 20 лабораториями. Работают в них под руководством профессоров доценты, аспиранты и студенты. Привлечение студентов к исследовательской работе ставится учебной частью в центр внимания.» «Перехожу к прохождению производственной практики, которая является элементом подготовки инженера-специалиста во втузе, неразрывно связанным с теоретическим обучением. Эта увязка находит свое отражение в учебных планах, в последовательности прохождения дисциплин и в объемных программах специальных дисциплин...» «Завершающей частью учебы во втузе является выполнение дипломного проекта. Поэтому дипломное проектирование требует со стороны института исключительного внимания...» «В заключение следует сказать, что проведенная МММИ методическая работа в 1934 г. является лишь началом выполнения большой задачи, которую институт им. Баумана намерен разрешить в 1935 г.» |
Пример МММИ в постановке непрерывной производственной практики, в новых (после 19 сентября 1932-го года) условиях, приводит автор «Высшей технической школы» Е. Б-к (ВТШ 1935 № 2, рубрика «Информация», «Непрерывно-производственная практика»). Отличие новой практики от прежнего «НПО» в том, что теперь практика действительно продолжает учебные программы, а не является лишь сомнительным подспорьем к выполнению заводских промфинпланов. «За последний год многие вузы и кафедры уделяли немало внимания вопросам производственной практики и сумели добиться хороших результатов. Примером может служить Краснознаменный московский механико-машиностроительный институт им. Баумана. МММИ много поработал и над организационными вопросами и над методикой проведения НПП. Центр тяжести работы был перенесен на кафедры. Сектор практики был ликвидирован. При учебной части института оставили одного освобожденного работника для урегулирования отношений с заводами (договора, график). Теперь кафедры, а не инструктор НПП, составляют рабочие программы. В этих программах учитываются в первую очередь интересы выполнения учебно-производственного плана данной специальности. Программы реальны, конкретны и их удалось реализовать полностью. / Так например, группы специальностей "Обработка давлением", "Механо-сборочное производство", производившие на практике изучение разработки технологических процессов, работали в качестве техников, исследователей, у станков и производили проверку непосредственно у моторов и станков. / Необычайно важно и то, что преподаватели института посещали студентов и на московских заводах и на периферии, производили не месте проверку выполнения заданий и просматривали состояние технических отчетов. / Для подведения окончательных итогов практики составлялись комиссии из преподавателей кафедры и руководителей практики в цеху, которые давали оценку успеваемости каждого студента. / Но самое большое достижение МММИ – это организация преддипломной практики. На преддипломную практику студентов направляют на те заводы, где им предстоит работать по окончании института. / Руководителями преддипломной практики назначаются высококвалифицированные работники промышленности. Как правило, тема дипломного проекта согласуется с предприятием. Неплохо поставлена практика и с организационной и с методической стороны...»
29 января в помещении Московского архитектурно-строительного института (Рождественка, 11) «для показа делегатам VII съезда советов СССР, а равно и представителям нашей технической общественности достижений втузов в области научно-исследовательской работы ГУУЗ организована I всесоюзная выставка научно-исследовательских и производственных достижений втузов тяжелой промышленности». В выставке участвуют 30 втузов. Экспозиция МММИ «...содержит чрезвычайно интересные экспонаты, но поданы они исключительно серо. … Наряду с этим нужно отметить один весьма удачно задуманный щит, выставленный лабораторией проф. И.И. Куколевского ... Это таблица-плакат с двумя моделями опытных колес, положенных в основу заводского производства серии быстроходных турбин завода им. Калинина в Москве» (ЗПК 1935 № 3 /февраль/).
«В 1935 г. была созвана первая научно-техническая конференция института. В работе конференции приняли участие до 300 инженеров, техников и научных работников. Прочитанные доклады по различным вопросам машиностроения вызвали большой интерес. Результатом первой конференции явилось усиление обращений в институт главным образом машиностроительной промышленности с частными, а иногда и общими проблемными научно-техническими вопросами, что способствовало усилению научно-исследовательской работы института. В значительной мере расширялась связь с научно-техническими организациями страны» (Прокофьев).
В апреле 1935-го года проводится первая в МММИ им. Баумана математическая олимпиада, среди студентов института. Если иметь в виду повальную полуграмотность тогдашних «командиров промышленности», начиная от наркома, становится ясно, насколько смелы и знаменательны заключительные слова из отчета об этом событии одного из организаторов олимпиады доц. Б.О. Солоноуца (ЗПК 1935 № 15): «...Любителям больших цифр и "стопроцентных охватов" следует иметь в виду, что если те 10–12% отличников, которые имеются в каждом институте, разобьются по отдельным кафедрам и каждый отличник получит от одной хотя бы кафедры максимум того, что он может от нее взять, то уже тогда он получит все данные для своего дальнейшего роста и развития. Из таких отличников и будут формироваться кадры руководителей индустрии, научных работников и др.» (курсив наш).
«Задача втуза в настоящее время состоит в том, чтобы дать возможность каждому студенту развернуть все скрытые в нем возможности, создав все условия для более детального и глубокого изучения студентом особо интересующих его дисциплин.» «Эта олимпиада была проведена в апреле 1935 г. с расчетом на студентов IV семестра. Избегая для первого опыта возможность связать в представлении студента результаты олимпиады с предстоящей зачетной сессией, мы сознательно темой олимпиады выбрали "Интегрирование дифференциальных уравнений" – главу курса, по которой уже была проведена сессия. Схема организации олимпиады была предположена в следующем виде: (Далее полностью приводится задание – см. ссылку на скан всей статьи в списке литературы) «...Все работы были признаны комитетом достойными поощрения. В самом деле, из 11 работ 6 были признаны комитетом заслуживающими оценки "хорошо", 4 – "очень хорошо" и 1 – "отлично". Работа эта, принадлежащая студ. Воркунову, и заняла первое место, и автор ее был премирован полумесячной стипендией. В работе этой особый интерес представило решение первой задачи (ур-ние Эйлера), где т. Воркунов провел обширное самостоятельное исследование метода неопределенных коэффициентов в применении к уравнениям Эйлера. Исследование это обнаружило в авторе незаурядные математические способности и большую математическую культуру.
|
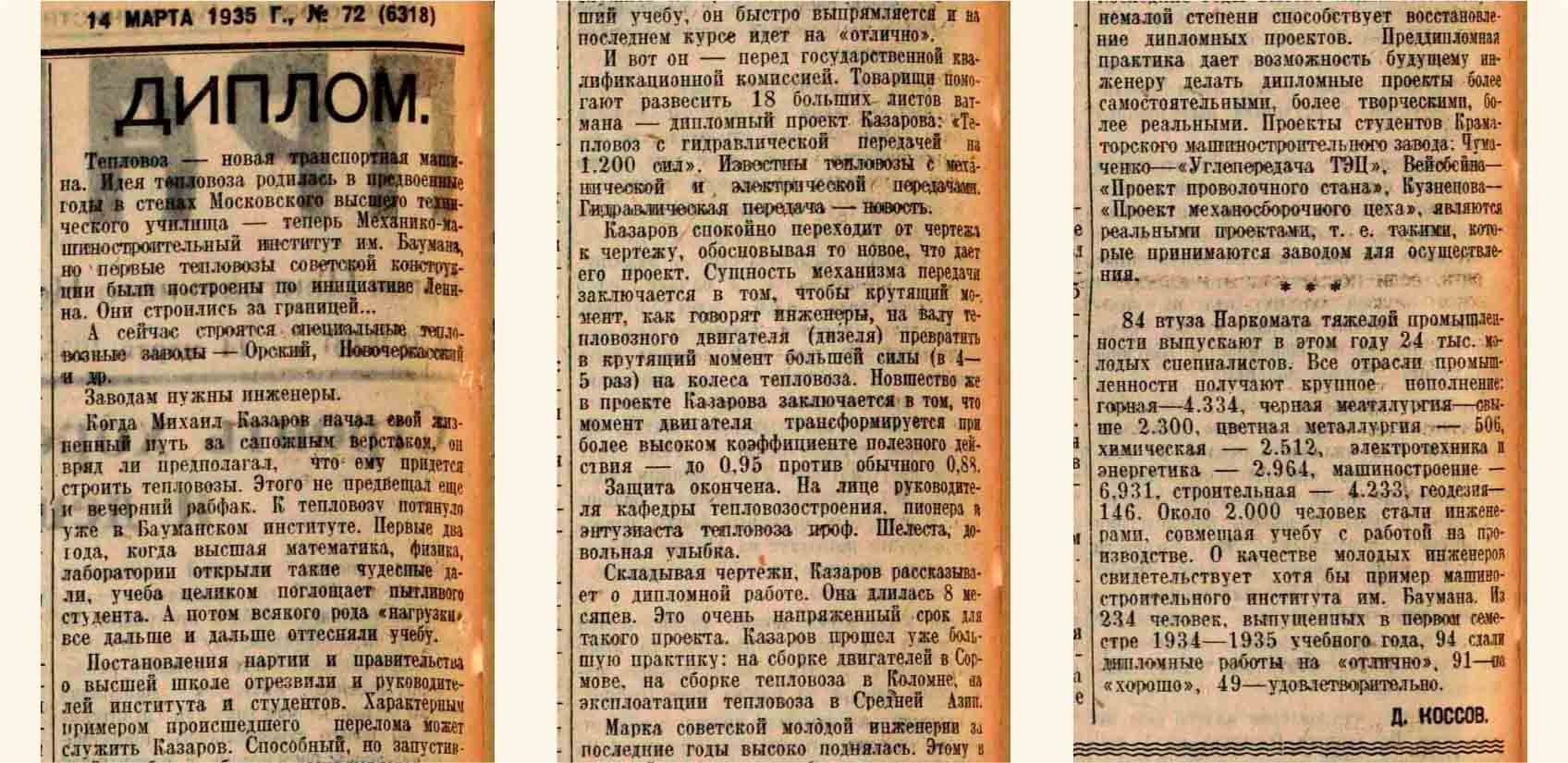
Д. Коссов. «Диплом». «Правда» от 14 марта 1935 г.
(Защита дипломного проекта по кафедре тепловозов МММИ им. Баумана)
«Марка молодой советской инженерии за последние годы высоко поднялась. Этому в немалой степени
способствует восстановление дипломных проектов...»
Торжественный выпуск в Большом зале Московской консерватории
28 июня 1935 года в Большом зале Московской консерватории (это уже не клуб Кухмистерова!) состоялся торжественный выпуск 832-х инженеров, закончивших МММИ им. Баумана, с выступлением самого́ Серго Орджоникидзе.
|
«Директор института им. Баумана т. Цибарт открывает торжественное заседание. Его вступительная речь – краткий рапорт об итогах пятилетней работы втуза. Три четверти выпускников сдали свои проекты на "хорошо" и "отлично". В составе окончивших более половины партийцев, свыше 70% рабочих. Это новый отряд производственно-технической интеллигенции рабочего класса. Дальше по тексту мы встречаемся с Эдельштейном, относительно которого Цибарт в 1933-м году записал в дневнике «Ура! ... Райком постановил из"ять от нас Эдельштейна и др.» (об этой важной для МММИ истории см. в рубрике «Первый год реформ в Бауманском: 19 сентября 1932 – 1933 гг. ...»), и будущим наркомом тяжелого машиностроения В.А. Малышевым. «Бывш. студент МВТУ, инженер завода 1 ГПЗ им. Кагановича т. Эдельштейн, приветствуя выпускников от имени инженерного коллектива завода, передает слова привета и профессорам, воспитавшим много инженеров, и особенно проф. М.А. Саверину. При упоминании имени любимого преподавателя зал разражается аплодисментами. На трибуне проф. Саверин. Он заверяет наркома, что та оценка, которая дана преподавателями своим ученикам, строго об'ективна. Присутствие на мероприятии «вождя» – этот эпитет закрепился исключительно за Лениным и Сталиным лишь после 1937 года – значило много. Рассказывает А.А. Цибарт (См. Советское студенчество, Цибарт). – «Вдруг люди в президиуме встали и расступились, – на сцене появился т. Серго. Под громкие аплодисменты и крики "ура!" он быстро подошел к столу и занял место в президиуме. Тов. Орджоникидзе приехал к нам, несмотря на то, что очень устал после работы. «Собрание послало приветствия тт. Сталину, Орджоникидзе и Хрущеву» (ЗПК 1935 № 12). |
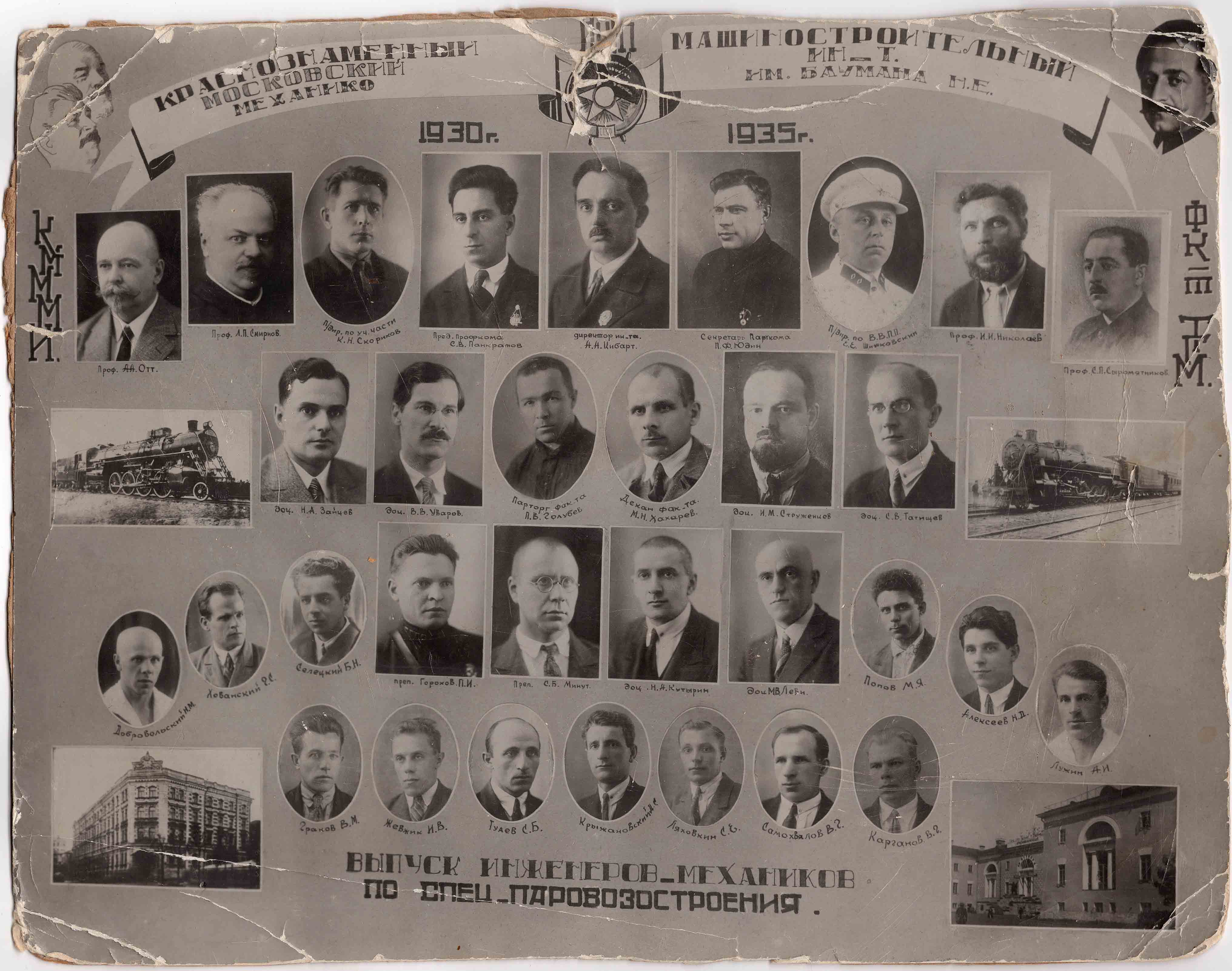
«Краснознаменный механико машиностроительный институт им. Баумана Н.Е.
1930 г. 1935 г. КММИ. Фк-т ТГМ. Выпуск инженеров-механиков по спец. паровозостроения.»
Подписанные фотографии, в т.ч.: директор МММИ А.А. Цибарт, декан ф-та ТГМ М.Н. Хахарев, профессора А.А. Отт, Л.П. Смирнов, И.И. Николаев, С.П. Сыромятников, доценты Н.А. Зайцев, В.В. Уваров, И.М. Сыромятников, С.В. Татищев, Н.А. Кутырин, М.В. Леви, преп. П.И. Горохов, С.Б. Минут
Начало учебного 1935/36 года. «1 сентября во втузах».
«В ночь с 16 на 17 умер мой учитель. П.К. Худяков...»
В заметке «1 сентября во втузах» (ЗПК № 15) Варлам Шаламов описывает утро этого дня в стенах МЭИ. О МММИ же сказано лишь следующее: «Краснознаменный механико-машиностроительный институт им. Баумана начал занятия ровно в 9 утра. Не явилось из новичков – 2,6%, из старых студентов – 2,5%. Учебные планы есть по всем специальностям, по спецдисциплинам есть программы. Нет программ общетехнических дисциплин – их не успело выдать КВТО. Администрация института, руководители кафедр и преподаватели все прибыли во-время». (Такой абзац можно написать, впрочем, и не заходя в институт.)
|
В этом же номере, под инициалами Ю.В., еще одна заметка Шаламова – «Первый час учебного года». «В девятом часу первого сентября во всех трамваях Москвы едут особенные люди. Молодые, и разговоры их особенные. Не слышно пресловутых "четырехглазых" и никто не предлагает сменить трамвай на такси. Говорят о том, что профессор, верно, уже пришел в институт, рассказывают соседу об осмотре лаборатории, и сосед слушает и на лице соседа – зависть. Разговаривают короткими фразами, обрывают на полуслове – вдруг трамвай опоздает. Большинство пассажиров и вовсе молчат. Слишком серьезен момент, серьезен час, серьезен день. И только лица их освещены светом, который бывает единственный раз в жизни – через 10 минут прозвонит звонок, и пассажир трамвая будет настоящим студентом...» |
В безымянной «хронике» в августовском номере ЗПК о МММИ сообщается: «Новый учебный год будет плодотворным. КМММИ им. Баумана организованно встретил учебный год. Тщательно проработано и своевременно составлено расписание. На общетехническом факультете увеличено количество часов физики и химии. Для развития пространственного воображения студентов введен новый предмет – рисование. Контрольные работы – домашние задания – включены в специальный график-памятку карманного формата. Такие книжки будут розданы студентам.
Недостатки: неудовлетворительность мастерских института – там устарело оборудование; задержка выпуска ряда учебников.»
А.А., в своем духе, продолжает строить планы касательно своей миссии в институте и собственной научной деятельности.
«В ночь с 16 на 17 [сентября 1935 г.] умер мой учитель. П.К. Худяков. Я был выделен Л.М. Кагановичем в комиссию по организации похорон. И вот 18-го, когда я переезжал на новую квартиру, дежурил в первом почетном карауле у тела П.К. Худякова. ...
Первый караул. Я стал в ногах и все время глядел в лицо П.К. Стоял и глубоко думал. Миссию П.К. – двигать науку; для народа; к вершинам познания природы! Эту миссию я взял на себя. Один из наименее известных его учеников. Хочу также стать заслуженным профессором и деятелем науки!
Ему было 77 лет, он не думал умирать! Хочу стать его преемником. Для науки, роста. ...
Я у гроба. Я принимаю на себя заведение Петра Кондратьевича, обязуюсь продолжать его жизнь, жизнь работника науки. ...
Я принял торжественно у гроба обязательство. Я должен его выполнить!!
... 19-го тоже напряженный день. Похороны Худякова и в 4 часа в райкоме назначено слушание моего доклада и доклад ....... о новом приеме. Началось с опозданием, успел сделать доклад и послушать [директора МЭИ] Дудкина и еще кое кого. / Поехал к 8 часам в Крематорий. Произнес речь. Очень растрогался. Слезы. Обещал перед всем народом, что мы будем продолжать дело его. Я сам для себя дал это обязательство.
20-го умер Циолковский. / Указания мне, направления, куда мне работать. Что продолжать» (Дневник).
Крупнейшая в мире прокатная лаборатория при МММИ им. Баумана
в порядке реализации указаний тов. Сталина.
Электротехническая лаборатория
...В конце 1934-го года, 26 декабря, Сталин выступает на слете металлургов; отчет о событии появляется в «Правде» от 29 декабря. В этом выступлении Сталин отмечает в т.ч. «отставание мартеновских и прокатных цехов металлургических заводов в смысле освоения их техники, в смысле овладения их техникой». НКТП незамедлительно решает выстроить масштабную Лабораторию прокатного машиностроения – и прикрепить ее к передовому втузу СССР, Краснознаменному МММИ им. Баумана. Проект готов менее чем за полгода, и приказом нач. ГУМП НКТП А. Гуревича и нач. ГУУЗ НКТП Д. Петровского строительство должно было начаться не позднее 1 июня 1935 года. (С этим запоздали до 27 сентября.)
Значение этому делу придавалось исключительное. «...Эта лаборатория будет крупнейшей в мире лабораторией этой специальности и будет обслуживать в Москве все втузы, занимающиеся вопросами прокатки – КМММИ, Всесоюзную промакадемию, Институт стали и др. По проекту в машинном зале намечена установка шести прокатных станов, трех плавильных печей и т. д. Четырехэтажный лабораторный корпус включает ряд специальных лабораторий, обслуживающих всю сумму вопросов, связанных с экспериментальными работами по прокатке и прокатному машиностроению.
В этом здании будет развернут единственный в мире музей прокатного оборудования.
Лаборатория строится по проекту профессора П. Голосова. Все строительство лаборатории осуществляется в порядке реализации указаний тов. Сталина, данных им в беседе с металлургами. Архитектурное оформление отражает эти моменты: специальные барельефы, в вестибюле картина Бродского "Товарищ Сталин беседует с металлургами". На фронтоне здания будет установлена скульптурная фигура тов. Сталина работы скульптора Меркулова.
Поднимается корпус лаборатории, а на заводах уже готовится оборудование для нее. В помещениях КМММИ сотрудники будущей лаборатории уже ведут экспериментальные работы. Готовятся печатные труды» (ЗПК 1936 № 1 /январь/, Г. Н-ов).
«Лаборатория прокатного машиностроения и прокатки при Московском механико-машиностроительном институте запроектирована как учебно-вспомогательное учреждение для решения трех основных задач: проведение на оборудовании лаборатории учебных работ по всем основным курсам специальности "Прокатка и волочение"; обеспечение необходимой экспериментальной базой тематики аспирантских диссертаций данной специальности и выполнения ряда научно-исследовательских работ по заданиям промышленности. При этом обеспечивается осуществление всех этих работ в части проблем и задач: прокатного машиностроения, эксплоатации прокатного оборудования и технологии прокатки»; «Все оборудование лаборатории будет спроектировано силами кафедры института и изготовлено под руководством работников кафедры на советских заводах» (ЗПК 1935 № 9-10 /май/, Инж. Воскресенский, инж. Маркелов и инж. Целиков, «Лаборатория прокатного машиностроения и прокатки при МММИ»).

27 сентября 1935 г. состоялась «торжественная закладка прокатной лаборатории. Был Петровский, Степанов с "Серпа и молота" и другие» (Цибарт, Дневник). «...У нас есть все основания к тому, чтобы иметь не только хорошую прокатную лабораторию, но иметь исключительно хорошую лабораторию. / Основными из них являются: во-первых, то, что эта лаборатория строится при одном из крупнейших и мощных втузов нашего Советского союза. Эта лаборатория строится при краснознаменном Московском механико-машиностроительном институте, который имеет хороший преподавательский состав и многолетний опыт организации научно-исследовательской работы. И мы можем быть уверенными в том, что институт будет относиться внимательно, любовно и заботливо к этому молодому детищу...» «...Эта лаборатория, осуществляемая в порядке реализации указаний вождя нашей партии товарища Сталина о ликвидации отставания проката, она будет гордостью краснознаменного Московского механико-машиностроительного института, она будет гордостью нашего завода "Серп и молот", она будет гордостью Краматорского завода, она будет красой и гордостью нашей тяжелой промышленности», – предсказывал, под аплодисменты, Петровский в своей речи на торжестве (ЗПК 1935 № 17 /сентябрь/).
В МММИ готовятся к приему новой лаборатории: «разработан рабочий проект установки бесслитковой прокатки для вновь строящейся лаборатории в двух вариантах...» (ЗПК 1936 № 9 /июнь/, «Бесслитковая прокатка жидкого металла», авторы статьи инж. В.Н. Воскресенский, проф. А.Г. Зиле, проф. Г.А. Осецимский, доц. А.И. Целиков, инж. В.В. Маркелов и инж. Г.О. Хейнман). «Приказом зам. наркома тяжелой промышленности тов. Рухимовича при лаборатории Московского механико-машиностроительного института им. Баумана организовано Бюро бесслитковой прокатки, которому предложено вести работу в порядке соцсоревнования с Бюро бесслитковой прокатки при тресте "Спецсталь". / Лаборатории КМММИ разрешено осуществить запроектированный и одобренный специалистами комплекс оборудования лаборатории, необходимый для проведения опытов бесслитковой прокатки в полузаводском масштабе. / Лаборатории ассигновано 390 000 рублей … / Вновь организованному Бюро бесслитковой прокатки при лаборатории предложено обеспечить пуск полузаводской установки в новом здании лаборатории в III квартале 1937 г. ...»; «начальником Бюро бесслитковой прокатки назначен начальник строительства и заведующий лабораторией "Прокатного машиностроения и прокатки" – инж. В.Н. Воскресенский» (ЗПК 1936 № 13 /сентябрь/).
(Проф. Арвед Генрихович Зиле, после освобождения из лагеря, заведовал кафедрой прокатки и волочения в МММИ от ее основания в 1933 или 1934-м году; в 1938-м г. вновь арестован и расстрелян.)
Все же судьба этой части МММИ не сложилась. Строительство, ведшееся силами завода «Серп и молот», затягивается, проектное задание несколько раз меняется уже в ходе работ, инженера Воскресенского обвиняют во вредительстве... Вскоре лабораторию передают в непосредственное ведение ГУУЗа, а в 1938-м году, в связи с переподчинением МММИ им. Баумана наркомату вооружения, сама кафедра прокатки и волочения от МММИ уходит – передается Московскому институту стали им. Сталина. На базе лаборатории создан ЦНИИЧерМет. Здание лаборатории (2-я Бауманская 9 / Технический, бывш. Спиридовский пер. 23) осуществлено с некоторыми изменениями – скульптуры Сталина уже не предполагается, по-другому спроектирован центр фасада, прежде решенный как ее подножие.
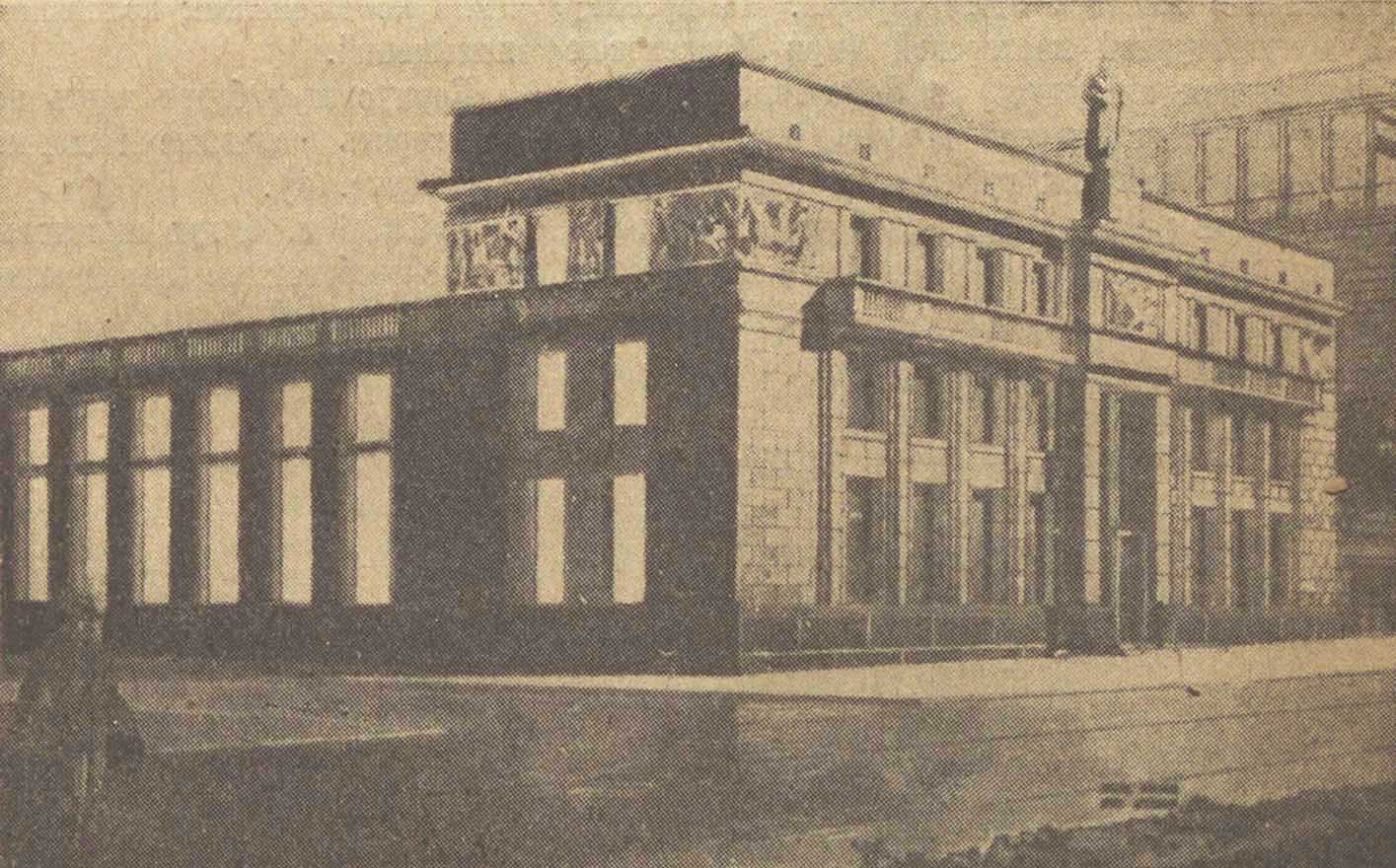
Проект лаборатории прокатного машиностроения при МММИ им. Н.Э. Баумана. Перспектива
Арх. Пантелеймон Голосов
(Фото: ЗПК 1936 № 1 /январь/, стр. 45; также ЗПК 1935 № 19-20 /октябрь/, стр. 12)
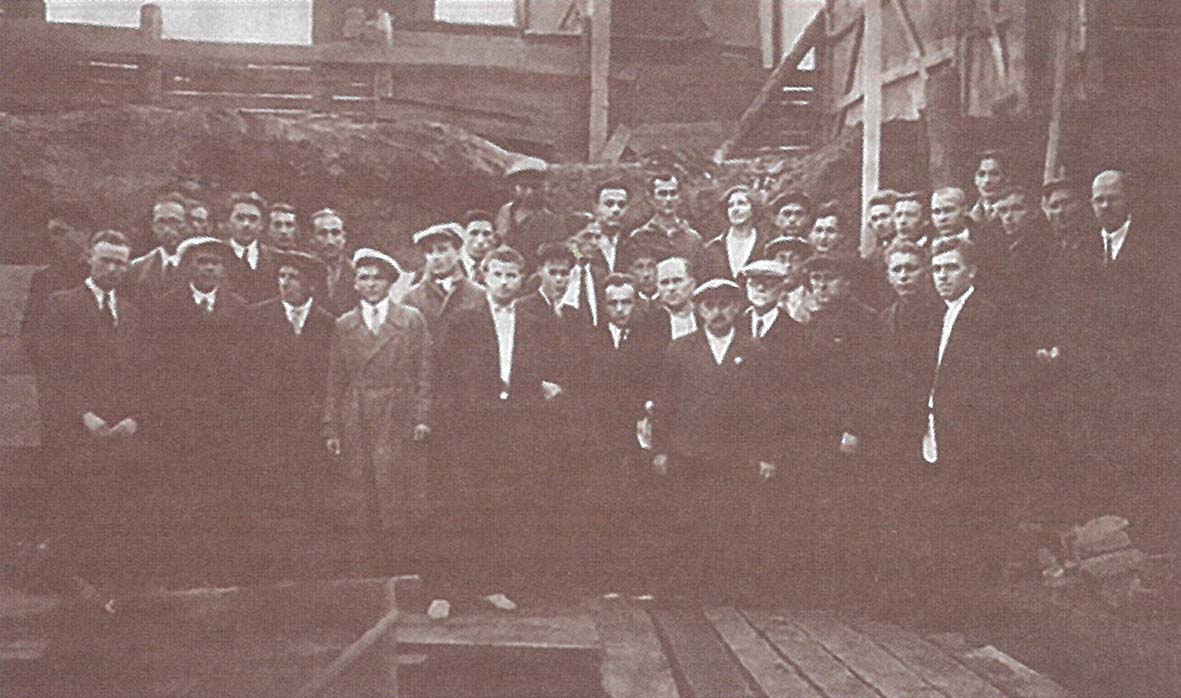
На закладке прокатной лаборатории при МММИ им. Баумана, 27 сентября 1935 г.
В первом ряду 5-й справа А.А. Цибарт
(фото из книги: А.Г. Колесников. Технологии прокатки...)

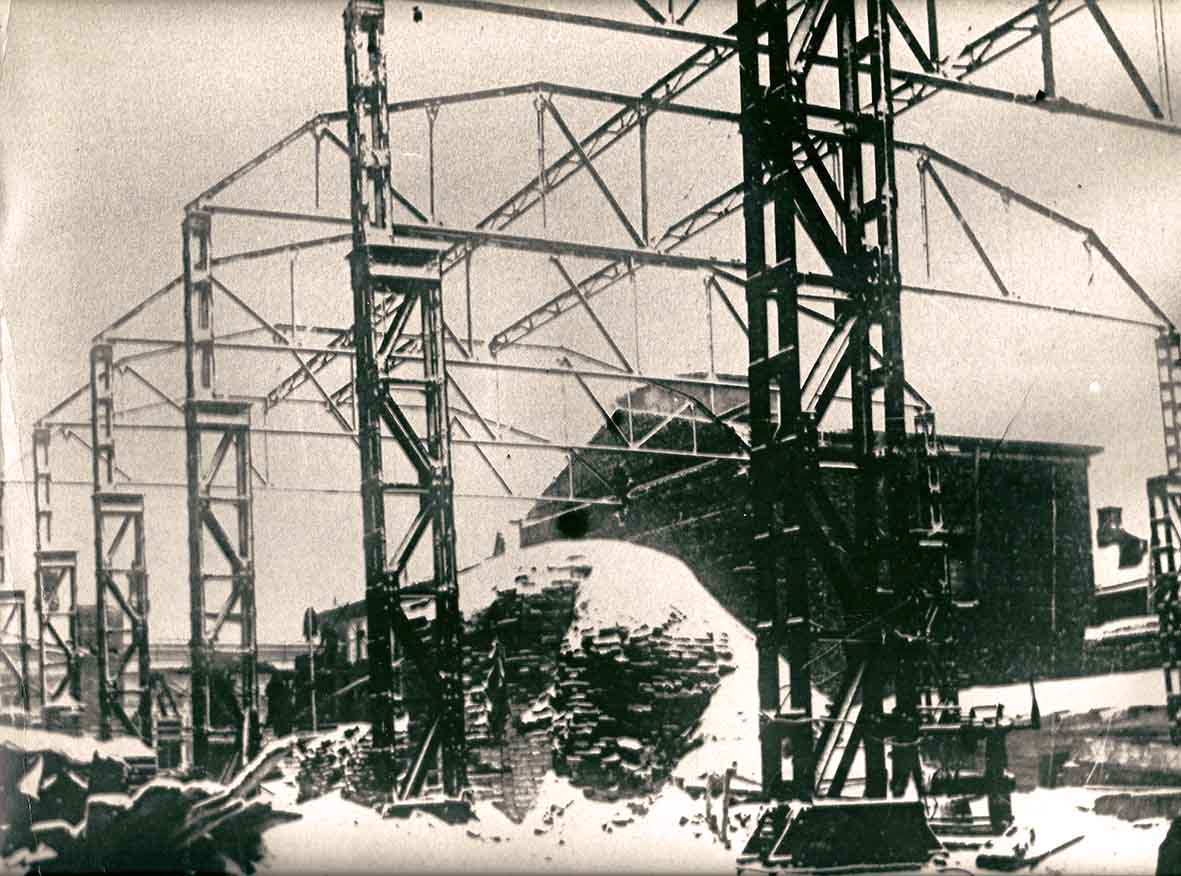
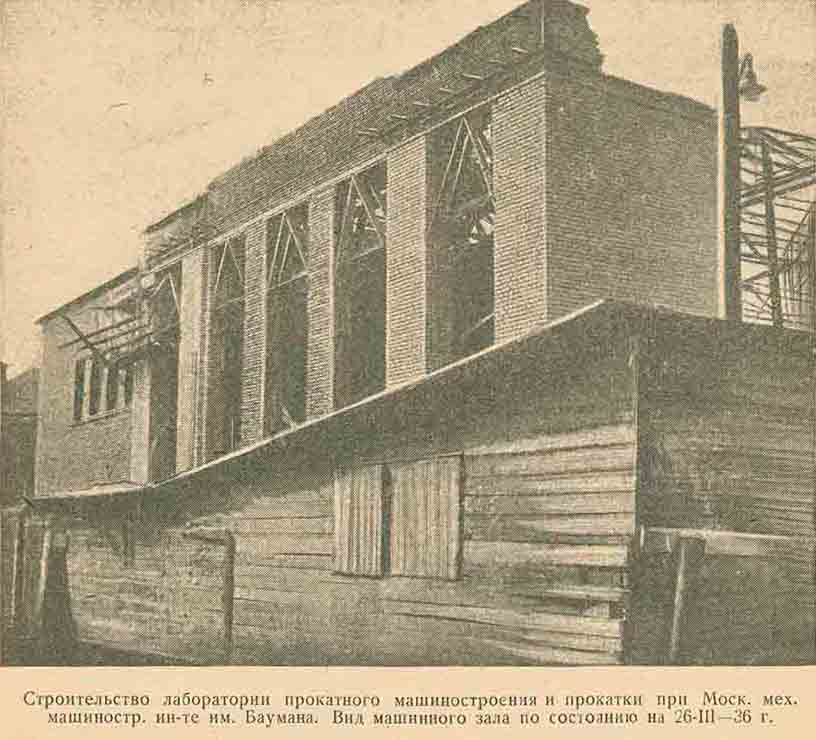
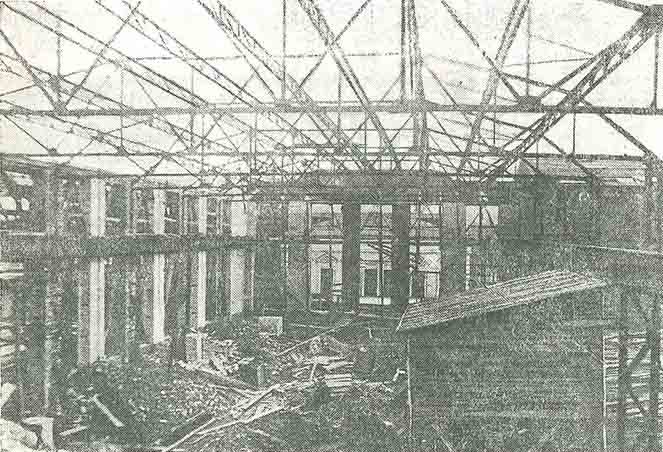
Строительство прокатной лаборатории МММИ им. Н.Э. Баумана
Проектное задание в ходе строительства дополнялось, в результате лишь «к началу лета 1937 года было подведено под крышу основное здание лаборатории прокатки (машинный зал). Подходил к концу монтаж 2-х электро-печей и была начата прокладка кабеля» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 44, л. 146). 1 декабря 1937 года: «лаборатория прокатного машиностроения – она все еще строится. И когда достроится, еще неизвестно. В свое время был издан приказ: лабораторию прокатного машиностроения приказываю подчинить непосредственно ГУУЗу. Изъяли ее из ведения института» (л. 88).
(2 фото сверху с сайта PastVu.com /pastvu.com/390712, 392729, uploaded by Kugushin/; 2 фото снизу – ЗПК 1936 № 6, c. 27; № 13, с. 85)
* * *
В октябре 1935-го года в МММИ учреждается электротехническая лаборатория. О важности этого события, ее первой заведующей Е.В. Абрамовой и проводившихся работах, как и о неизбежных трудностях, с которыми сталкивалась лаборатория в первый год своего существования, отчитывается «За промышленные кадры» (1936 № 17 /декабрь/ с. 48, В. Иослович, Е. Макаров «Две лаборатории»).
|
«Электротехническая лаборатория была организована в МММИ им. Баумана в октябре прошлого [1935] года. Это означало, что для лаборатории выделили две комнаты, нуждающиеся в ремонте и совершенно пустые. Кроме того, назначили заведующего и отпустили небольшую сумму денег. С этих пор считалось, что институт имеет свою электротехническую лабораторию. По существу же нечто похожее появилось только в нынешнем учебном году.
Электротехника не является основной дисциплиной для большинства специальностей МММИ. Однако совершенно очевидно, что немыслим современный инженер-механик, не знающий электротехники … |
Бедственное положение электротехнической лаборатории было, конечно, временным. Уже существовавшие лаборатории МММИ оборудованы, по крайней мере с точки зрения ВКВТО, на должном уровне (ВТШ 1935 № 11, инж. Г.Д. Весман, Материально-техническая база высшей школы): «Во многих вузах имеется также оборудование современного типа. В Московском механико-машиностроительном институте им. Баумана очень хорошо поставлены лаборатории прикладной механики, металловедения, тепловозная. В последней наряду с лабораторной работой студентов под руководством проф. Шелеста ведется научно-исследовательская работа по заданиям промышленности...».
В 1935-м году отмечают большую перегрузку преподавателей втузов, в частности МММИ, и связанные с этим проблемы в научно-исследовательской работе. «Большая перегрузка педагогического персонала, особенно профессуры, не позволяет вести систематическую глубоко научную работу. В большинстве случаев разработку научных тем ведут младшие научные сотрудники: аспиранты, ассистенты, исполняющие обязанности доцентов и т.д. Приведем в качестве примера одну из мощных кафедр Краснознаменного механико-машиностроительного института им. Баумана – кафедру электротехники. Эта кафедра в семестре обслуживает 192 группы...» (ВТШ 1935 № 9, аспирант Я. Галкин, Состояние научно-исследовательской работы во втузах).
«Заметки о высшей школе» в Известиях:
«именно это следовало делать осторожнее» (о связи образования с производством); проводы парттысячников;
самостоятельность старшекурсников и пр.
Подшефная Радищевка
26 октября 1935 г. в «Известиях» выходят «Заметки о высшей школе» Цибарта. Притом, что любое мнение, высказанное в советской печати, было едва ли не властной директивой, эта статья отражала начатый в 1932-м году поворот партии в сторону здравого смысла в техническом образовании. В ней Цибарт 1) фактически приветствует снижение партийной составляющей в наборах студентов и с оптимизмом ждет времени, когда во втузах простынет след парт- и профтысячников. 2) Положительно отзывается о российской дореволюционной, а также французской и американской технических школах. Причем, касаемо последних, в том числе и в столь важном идеологически вопросе, как сближение образования и производства: «Учеба должна в максимальной степени оперировать практикой, вырабатывать у студента те качества, которых требует сейчас от инженера жизнь. И в этом отношении нужно многое позаимствовать у американской школы, сумевшей в преподавании соединить научную глубину с запросами практической жизни». 3) Отмечает недостатки собственного, т.е. вообще советского опыта в деле сближения образования и производства – и это даже не поминая безумие «непрерывного производственного обучения» до 1929–1932-х годов: «Мы пытались итти по этой линии, давая нашим дипломникам разрабатывать реальные проекты для какого-либо предприятия. Но именно это следовало делать осторожнее, чем мы полагали. Сплошь и рядом реальные проекты, нужные заводам, не удовлетворяют нас, ибо снижают уровень технических требований, которые мы пред'являем к студенту. ... Бывает, однако, и так, что проект, никем не заказанный, превращается в реальный». Прямое подчинение учебы практике, кажущееся столь рациональным чиновничеству, себя не оправдывает. Показательно, что статья нашла понимание у руководителя ГУУЗа, в свое время так энергично проводившего партийную линию на это сближение: «Петровский читал. Ему понравилось» (Дневник). Мысли, выражаемые в ней Цибартом, находились вполне в русле тогдашних, новых установок ГУУЗа.
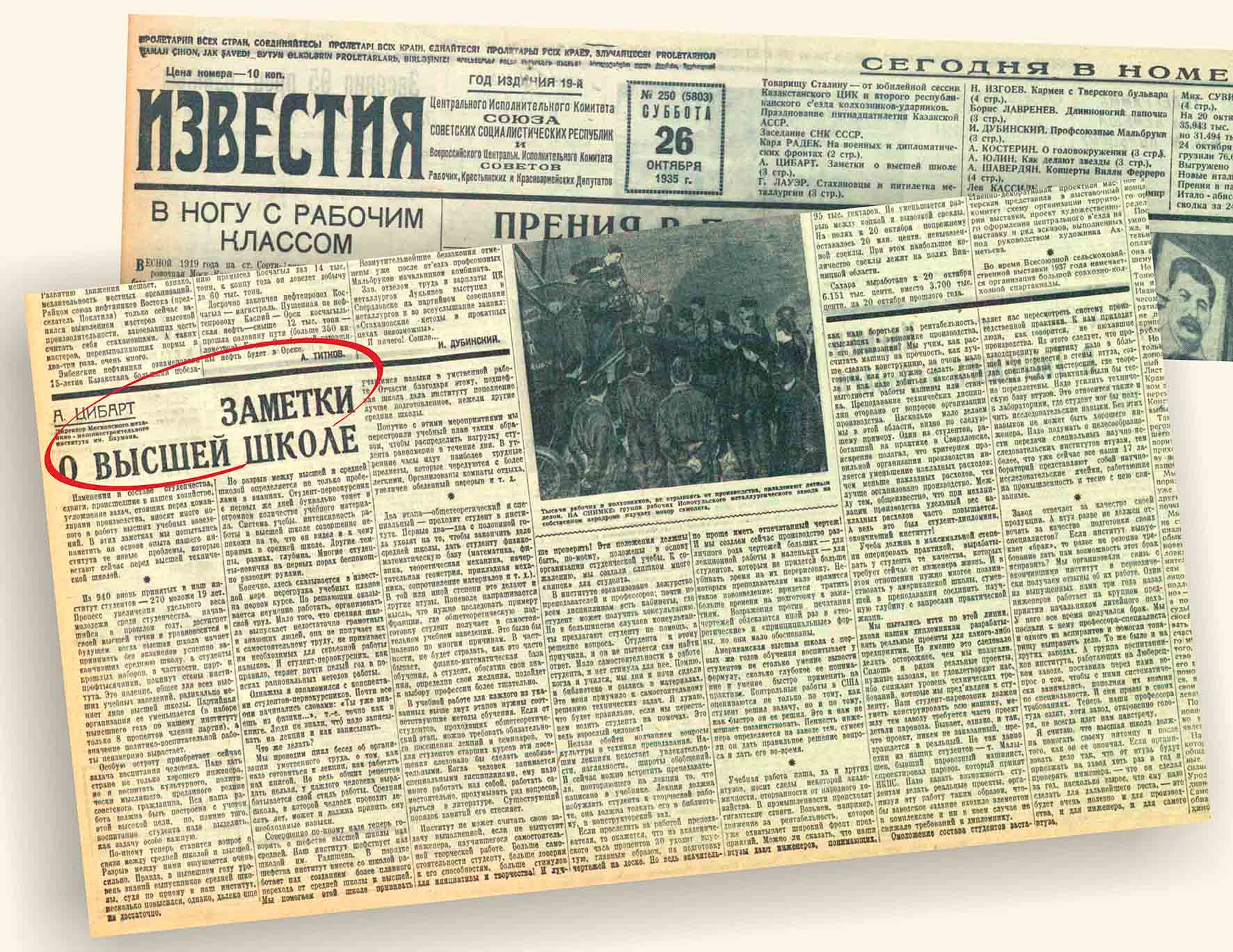
Парадоксально: тезис статьи Цибарта «учеба должна в максимальной степени оперировать практикой» составляет, казалось бы, главный лозунг еще недавно революционно продвигавшейся ВКП(б) реформы технического образования, и однако относительно советского опыта в этом направлении Цибарт пишет «именно это следовало делать осторожнее», одновременно призывая «многое заимствовать у американской школы»! (В последнем, впрочем, он солидарен с Петровским – см. Петровский, Втузы...) Мысль, которую он по понятным причинам не имел возможности выразить явно, может быть сформулирована, видимо, так: учеба действительно тесно связана с практикой, но характер этих связей не могут определять чиновники – это в компетенции исключительно самих инженеров.
|
Что до заинтересованного отношения к «буржуазному опыту» – тут А.А., конечно, не революционен. На этот опыт всегда возлагала особые надежды ВКП(б), и он в то время (и ранее), хоть и пристрастно, но систематически изучался. Заграницей, на заводах, бывал Петровский, заграницу на заводы и в учебные заведения направлялись инженеры-преподаватели, которые публиковали затем подробные отчеты о своих впечатлениях, напр., в журнале ГУУЗа «За промышленные кадры». Переводилась не только специальная литература, но и касавшаяся в частности постановки технического образования за рубежом. С одной из таких книг, порекомендованных журналом, мы из любопытства ознакомились: это изданный ОНТИ НКТП в 1934 г. «Сравнительный очерк технического образования в Европе и Соединенных штатах Северной Америки» Вильяма Э. Уиккендена. Авторский текст, как сообщается в предисловии, в переводе почти вполовину сокращен (объем восполнило само это предисловие, ориентирующее читателя с марксистско-ленинских позиций), и все же, сколько мы можем судить, достаточно информативен. Думается, с этой книгой А.А. был хорошо знаком. |
При этом А.А. сторонник увеличения самостоятельности студентов вплоть до свободного посещения занятий – подобно тому, как это было в ИМТУ в студенческие годы самого Цибарта (мы этого уже касались выше): «если от студентов, проходящих общетеоретический этап, можно требовать обязательного посещения лекций и семинаров, то для студентов старших курсов эти посещения следовало бы сделать необязательными. Когда человек занимается специальными дисциплинами, ему надо много работать над собой, продумывать ряд вопросов, рыться в литературе. Существующий порядок занятий его стесняет» (Известия, 1935).
|
Опять же, вопрос о необязательности определенной части занятий – при столь зарегламентированной и тяжелой советской жизни – ставился в то время в ГУУЗ постоянно. «Тов. Маев в статье "О свободном расписании" пишет: "Бичом сегодняшних будней студенчества является чрезвычайная регламентация рабочей недели, при которой невозможно развитие творческой работы студента"» (ЗПК 1935 № 15). Необязательными одно время рекомендовалось сделать лекции, для старших курсов, по тем предметам, по которым имелись учебники и если то были «описательные курсы и предметы, в которых сущность трактуемых понятий и процессов ясна без добавочных разъяснений преподавателя» (ЗПК 1934 № 12, Жирицкий). Затем необязательными решили сделать, напротив, не лекции, а семинары – «групповые занятия в их современной постановке отучают студента от самостоятельной, глубокой творческой работы, заставляя его в принудительной форме "разжевывать" лекционный материал. При таком положении в центре внимания учебной работы втузов является группа, как учебная единица, но не отдельный живой студент»; «групповые занятия – это печальное наследие школы, периода до издания постановления ЦИК СССР от 19/IX 1932 г.» (ЗПК 1935 № 16, Красноперов). Последняя линия побеждает наголову – 23 июня 1936 г. в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой» указывается: «Ликвидировать все еще практикуемые в ряде втузов, несмотря на категорическое запрещение, групповые занятия для проработки лекционного материала, представляющие пережиток осужденного в свое время так называемого бригадно-лабораторного метода обучения»... Одним словом, особенность слов А.А. исключительно в том, что вопрос самостоятельности студента он прямо ассоциирует с «предметной системой» ИМТУ («я помню, когда я учился...»). Что, собственно, до самостоятельности старшекурсников, то и здесь А.А. солидарен с Петровским. В 1934-м году Петровский цитирует двухтомник Общества поощрения инженерного образования в США: если «сравнительно строгий режим работы, который теперь проводится, должен применяться и впредь в отношении всех групп первых курсов», то «план работы старших классов [курсов?] должен быть изменен в целях обеспечения более высокой степени самостоятельности наших студентов» (см. Петровский, Втузы...). Идея самостоятельности студентов простирается у Петровского и гораздо дальше, чем только свобода посещения некоторых занятий. В 1935-м году, еще до выхода статьи Цибарта, он (вразрез с установками ВКВТО, о чем рассказывалось выше) издает следующее распоряжение: «Всем директорам втузов НКТП / В целях увеличения бюджета времени домашней работы студента и усиления элементов самостоятельности в проработке специальных дисциплин, предлагаю директорам втузов при составлении расписания на осенний семестр 1935/36 уч. года провести следующие мероприятия: / 1. На IV и V курсах во втузах выделить для домашней самостоятельной работы 1-й и 5-й день шестидневки, освободив его от всяких занятий, и сократив таким образом нагрузку в шестидневку до 24 часов. / 2. На III курсе занятия во втузах в 5-й день шестидневки сократить до 3 часов, что уменьшает нагрузку до 27 часов в шестидневку...». (А ведь еще пять лет назад Петровский находил, что во втузах царит «обломовщина»...) Во многих втузах распоряжение было выполнено сразу: «та легкость, с которой втузы осуществили выделение свободных дней за счет числа часов групповых занятий, лучше всего говорит о том, что групповые занятия на старших курсах как метод преподавания уже изжили себя полностью...» (ЗПК 1935 № 16, Красноперов). Видимо, это была общая линия партии. 23 июня 1936 г. в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) в числе прочего указывается: «Выделять для студентов III и IV курсов по одному дню и для студентов последнего курса – по два дня в шестидневку, кроме выходного, для самостоятельных занятий». Как использовали студенты это время? Между прочим, в ГУУЗе разъясняли по этому поводу, что «посещение в дни самостоятельной работы театров, концертов, чтение литературы, занятие музыкой, спортом не должно считаться каким-то преступлением. Но всему, конечно, надо знать меру» (ЗПК 1936 № 14 /октябрь/, «Дни самостоятельной работы», Красноперов). Можно не сомневаться, что несознательные студенты, не знавшие этой меры, находились. На совещании директоров московских втузов с участием студентов-старшекурсников о таких упоминают, конечно, в оптимистическом ключе: «студенты разных втузов, курсов и специальностей говорили, что в их среде люди, злоупотребляющие свободными днями, насчитываются единицами и так как они хорошо известны товарищам по потокам и группам, то их нетрудно будет призвать к порядку и заставить работать. Лень, разгильдяйство и самонадеянность среди этой части студенчества можно будет путем воспитательных мер легко изжить» (там же). ...Поддерживают ли эти сверх-либеральные веяния «реакционные» профессора? Пока нам встретилось лишь одно задокументированное свидетельство позиции профессора. В 1934-м году на Совете института проф. А.Н. Шелест, в дискуссии об отмене лекций (тогда еще не семинаров) для некоторых дисциплин, говорит (ЦГАМ ф. Р-1992, оп. 4, д. 11, л. 16): «мы имели многолетний опыт, и было установлено, что необязательное посещение лекций приводит к тому, что раньше 7–8 лет студенты не оканчивали учебного заведения. А нужно принять во внимание, что люди прежде были лучше подготовлены по сравнению с тем, что мы имеем сейчас»... |
В статье упоминается и создание общетехнического факультета – крупнейшее достижение МММИ, перенятое затем всеми советскими втузами. «Два этапа – общетеоретический и специальный – проходит студент в институте. Первые два – два с половиной года уходят на то, чтобы закончить дело средней школы, дать студенту физико-математическую базу (математика, физика, теоретическая механика, начертательная геометрия, прикладная механика, сопротивление материалов и т.д.). В той или иной степени это делают и другие втузы. Поневоле напрашивается мысль, что нужно последовать примеру Франции, где общетеоретическую подготовку студент получает в самостоятельном учебном заведении. Это было бы полезно по многим причинам. В частности, не будет страдать, как это часто бывает, физико-математическая база обучения, а студент, обогатив свои знания, определив свои желания, подойдет к выбору профессии более тщательно.»
|
Имеются заграницей даже втузы, целиком (не как ступень обучения) посвященные общей подготовке. Так, в США: «Четырехлетний общеинженерный курс в Питтсбургском университете (США) вводится с осени 1935 г. Курс ведет к степени "бакалавра наук по инженерному делу" (Bachelor of Science in Engineering) и характеризуется отсутствием в учебном плане узкоспециальных дисциплин и значительным количеством часов (22% всего учебного времени), отводимых на свободно выбираемые (элективные) предметы...» (ВТШ № 9, Хроника). И во Франции, на пример которой ссылается А.А.: «"Инженер должен получить общую культуру и общее профессиональное образование. Специализация придет после: на заводе, в мастерской, на верфи". Эти слова ... деятеля высшей школы Ф а й о л я характерны для всего инженерного образования Франции» (ВТШ 1935 № 11, О.П. Сергеева, Кого и как готовят втузы Франции). |
Проскальзывает в статье Цибарта мысль о «...будущем, когда высшая школа начнет принимать без экзаменов успешно закончивших среднюю школу...». Еще недавно, заметим от себя, без экзаменов зачислялись в вузы все едва закончившие рабфак, не говоря уж о парттысячниках, и об успешно закончивших среднюю школу можно было только мечтать.
|
Кроме того, скажем в пользу высказанного А.А. пожелания, экзамен – это не в меньшей мере проверка прочности нервов, чем знаний. |
Короче говоря, тема приема успешных школьников в вузы без экзаменов в то время активно дискутировалась, решения принимались, и Цибарт в «Известиях» высказал свою позицию, он – за.
Еще одна тема статьи в «Известиях» – шефство втузов над школами, на примере МММИ. – Власть возвращалась к здравому смыслу в вопросе среднего образования. Постановлением СНК и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. «О структуре начальной и средней школы в СССР» была наконец введена десятилетка. Имелось в виду в т.ч. устранить разрыв между той подготовкой, которую давали прежние девятилетки, и той, которая требовалась для учебы в вузах. Двигаясь в этом направлении, летом 1934-го года «профессора и доценты Московского института тонкой химической технологии выступили с инициативой: "мы обращаемся к профессорско-преподавательскому коллективу московских втузов МММИ, МЭИ, МАИ, им. Менделеева и др. приступить к развернутой работе по помощи средней школе"» (ЗПК 1934 № 12, «Институт – шеф над средней школой»).
Самое позднее с декабря 1934-го года МММИ им. Н.Э. Баумана уже тесно работает с «опытно-показательной» школой № 7 им. А.Н. Радищева при Наркомпросе РСФСР – в том декабре пионеры этой школы участвуют в институтском «Вечере иностранных языков». «Однажды я ознакомился с конспектами студентов-первокурсников, – пишет Цибарт. – Почти все они начинались словами: "Ты уже знаешь из физики...", т.е. точно как в книге. Люди не знали, что надо записывать на лекции и как записывать. / Что же делать? / Мы проводим цикл бесед об организации умственного труда, о том, как надо готовиться к лекции, как работать над книгой. Но ведь общих рецептов дать нельзя, у каждого человека вырабатывается свой стиль работы. Средняя школа, в которой человек проводит десять лет, может и должна привить ему необходимые навыки. Совершенно по-иному надо теперь говорить о шефстве высшей школы над средней. Наш институт шефствует над школой им. Радищева. В порядке шефства институт вместе со школой работает над созданием более плавного перехода от средней школы к высшей. Мы помогаем этой школе прививать учащимся навыки в умственной работе. Отчасти благодаря этому, подшефная школа дала институту пополнение лучше подготовленное, нежели другие средние школы.»
В Радищевке училась и старшая дочь самого А.А., он должен был быть в этой школе частым гостем... Об этой удивительной школе, ее учителях и школьных товарищах, о журналистах, которые посещали школу (и однажды поместили в своей статье фото двоечника, симпатичного, бойкого и упитанного парня, вместо отличника), и т.д., она рассказывала много... Было и воспоминание о первом дне в школе после ареста отца – пионервожатая сорвала с нее пионерский галстук...
«Разоблачение» Цибарта в 1937-м году привело к тому, что в статье «Радищевка» бывш. директора школы З.Н. Гинзбург (Народное образование, 1967, № 4) о шефстве МММИ над школой нет ни слова (говорится о шефстве ЦАГИ): видимо, эту информацию не пропустили редакторы.

Ул. Радио 10а. В этом здании (бывш. Елизаветинского училища) в 1920-1930-х гг. находилась школа № 7 им. А.Н. Радищева
(фото И. Нагайцева 1986-1987 г. Cайт pastvu.com)
Черная полоса с конца 1935-го года: запуск «стахановского движения»,
утрата лидерства в последнем туре Всесоюзного соревнования втузов
Очередная черная полоса для техобразования настала с запуском ВКП(б) «стахановского движения».
25 ноября 1935 г. состоялось расширенное заседание Совета КрМММИ им. Н.Э. Баумана совместно с руководящими и научными работниками московских втузов НКТП. Нач. ГУУЗа Петровский делает доклад «Стахановское движение и задачи втузов». «...Инженеры учились, овладевали высотами техники, а между тем новую эру в технике возвестили не они, а возвестили ее Стаханов и Бусыгин, которые не обучались ни в каком вузе...» В самых обтекаемых выражениях получает предостережение зав. кафедрой организации производства МММИ профессор О.А. Ерманский, чьи мысли об оптимуме производительности труда вступили уже в кричащее противоречие с линией Сталина на «выжимание из техники всего, что она может дать». В своем ответном выступлении Ерманский, естественно, в т.ч. говорит: «стахановское движение – праздник для работников организации производства» (ЗПК 1935 № 22 /ноябрь/, Стахановское движение и втузы)... Запускается безумная лихорадочная кампания по переписыванию программ, учебников и учебных пособий: от преподавателей втузов требуют, чтобы в новых пособиях вводились «стахановские» псевдо-нормы выработки на производстве, развенчивались «эмпирические формулы» и «коэффициенты» и пр., а ответственными за эту деятельность назначают персонально директоров. В области тяжелого машиностроения всем этим обязан был заняться МММИ им. Баумана. По первым результатам, МММИ им. Баумана и лично Цибарт, к их чести, навлекут на себя крупное недовольство ГУУЗ...
Этой интереснейшей теме в настоящем очерке посвящена отдельная рубрика – «Чудесное продолжение соцсоревнования: "стахановско-бусыгинское движение" и абсурдизм во втузах. "Все учебники надо пересмотреть и по-новому составить." Ерманский, Шаумян, Беспрозванный и другие. Почетный нагоняй Бауманскому и Цибарту».
* * *
...Вскоре МММИ постигает крупное разочарование. Письмо ЦК машиностроения появилось, видимо, не напрасно. К концу 1935-го года до руководства МММИ доходят слухи, что ЦК Комсомола намерен лишить институт первенства в очередном, Третьем соцсоревновании втузов. Опасение подтверждается (см. Дневник, 7 декабря): «К вечеру – тяжелый удар. ЦК комсом. решил знамя передать энергетикам – нашим заклятым врагам. Сказал об этом Манин. Позвонил Володе. Он подтвердил. Позвонил Петровскому. Он оказывается не знал результатов, но когда я ему сказал, что присуждено энергетикам, то не удивился и спросил "почему неправильно"»... Дело не только в несправедливости решения – худшее опасение Цибарта явно в другом: не означает ли оно изменившееся отношение наркомата к МММИ?.. К счастью, как сказал Цибарту в частной беседе в Ермоловском (институтском) доме отдыха Петровский, «соревнованию втузов они [ГУУЗ, вообще НКТП] не придают никакого значения, т.к. это не авторитет<ное> дело, не участвует профес<сура>, исключительно молодежь. Много вокруг этого интриг, склоки, озлобления между втузами и пр. Серго даже слушать не хочет о соревновании. – Успокоился. Успокоил М.О. [супругу]».
(Вот как! Оказывается, сомнительность столь важного советского ритуала, как соцсоревнование, была видна самому Серго! Не является оно и собственной страстью Цибарта, как может показаться из его статей, – оно важно лишь как средство к упрочению положения и процветанию института.)
Итак знамя «лучшего втуза», удерживаемое МММИ им. Баумана два года, переходит МЭИ. Об этом, впоследствии, А.А. говорит следующее (см. Партсобрание, повторим цитату): «И знаете за что отняли? Считали, что мы имеем большие достижения по линии производственной, а отняли знамя за слабое развитие политико-воспитательной и культурно-бытовой работы». В других текстах А.А. эта победная «линия» точнее называется «учебно-производственная» и просто «учеба». Пока вопрос еще только решался, до Цибарта дошла информация, что первенство МММИ будет признано «только по учебе» (см. Дневник).
То есть, по делу претензий не было.
А если на то пошло, то и в «общественной работе» МММИ наверняка был в первых рядах. В институте действуют институтская и факультетские организации ОСО Авиахима (ОСОАВИАХИМа), работает Совет ОСО Авиахима. «Партгруппе Совета ОСО и Комитету Комсомола немедленно развернуть работу по сдаче военно-технического экзамена», «вовлекая в это дело широкие слои студенчества и всего состава Ин-та». – Идет подготовка «Ворошиловских стрелков», кружка парашютистов и снайперской школы. – «О состоянии работы МОПР» (упоминавшегося уже Международного общества помощи борцам революции): «немедленно развернуть массовую мопровскую работу, вовлечение новых членов МОПР»; «в первых числах декабря провести общеинститутскую мопровскую конференцию». – «Комплектуется сеть» «парт., комс. и проф. просвещения по факультетам, НИК"у, ЗСК и столовой», организуется «индивидуальное изучение классиков марксизма-ленинизма»... (Партком, 22 ноября 1934 г.)
(Вообще же, если учесть, что Г.М. Кржижановский, председательствоваший в Комитете по высшему техническому образованию, был и «главным энергетиком страны», а первенство в соревновании ушло к МЭИ лишь на третий его год, то останется только удивляться объективности комитета соревнования, два раза подряд присуждавшего звание лучшего втуза МММИ.)
Подробнее об успехах МММИ им. Баумана в 1-м, 2-м и 3-м (последнем) Всесоюзных соревнованиях вузов, втузов и техникумов «на лучшую реализацию постановления ЦИК 19 сентября 1932 г.», – см. в рубрике «"В первой шеренге социалистического соревнования". Ударничество и звание "Лучший втуз Советского Союза"».
...Без неудач не обходится, но в главном, учебном направлении институт продолжает развиваться. И, что немаловажно, НКТП, в лице наркома Орджоникидзе и начальника ГУУЗа НКТП Петровского, к нему вполне благоволит.
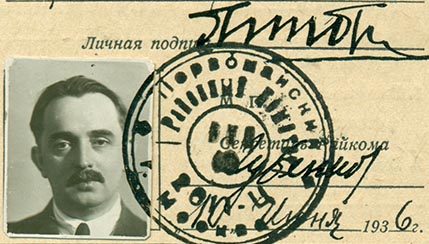
В 1936-м году А.А. интенсифицирует свои всегдашние занятия по «росту» – то есть учебе, работе над своей профессиональной (научной и инженерной) квалификацией. Повторяет математику, физику, химию и сопромат с преподавателями института (Манасевичем, Фроловым, Язвинским, Солоноуцем и другими), углубляется в физику и физическую химию также и самостоятельно. Включается в педагогический процесс: «Я включен в расписание по математике и физике. ... Как ассистент физики я впервые получил сегодня свое первое жалованье. Работаю с Язвинским в лаборатории физики, занимаюсь с Солоноуцем по математике. Вот это реальное достижение» (27 сентября). А.А. также ассистент кафедры математики; ведет приемные экзамены, составляет устные и письменные задания. Приступает к работе над (кандидатской) диссертацией в области металловедения и физической химии (научный руководитель – проф. В.О. Крениг). Но, может быть, темой диссертации будет и другая: «Думы больше вокруг науки, чем вокруг работы. Сегодня мне пришло в голову по физике заняться исследованием истечения электричества с острой [поверхности – ?]. Это облегчит все. Имеет большое значение для авиации...». О методизме и напряженности, с которыми А.А. отдался науке, и том значении, которое он этому придавал, свидетельствует почти на каждой своей странице его личный дневник.
Вопрос о своем профессиональном уровне и призвании беспокоил А.А. исключительно. Из самых первых сохранившихся записей в его дневнике, 1931-го года: «Использов<ать> все время на рост и усовершенствование. а) Иметь план роста и 1 раз в неделю его проверять...» (под «ростом» А.А. имел в виду именно рост профессиональный), и в дальнейшем эта тема в дневнике постоянна. В 1936-м году в журнале «За промышленные кадры» он пишет: «...несмотря на то, что, назначенный директором института, я поставил себе задачу стать научным работником, я до сих пор не сумел этого сделать. Только в начале этого года, серьезно продумав вопросы своего собственного роста, я пришел к выводу, что, если дальше так будет продолжаться, т. е. если я сам технически и научно не смогу в институте расти и не приобрету научной квалификации, то как инженер совершенно деквалифицируюсь и не получу возможности успешно справляться с руководством крупнейшим научным и учебным учреждением, каким является наш институт» (см. Заметки директора).
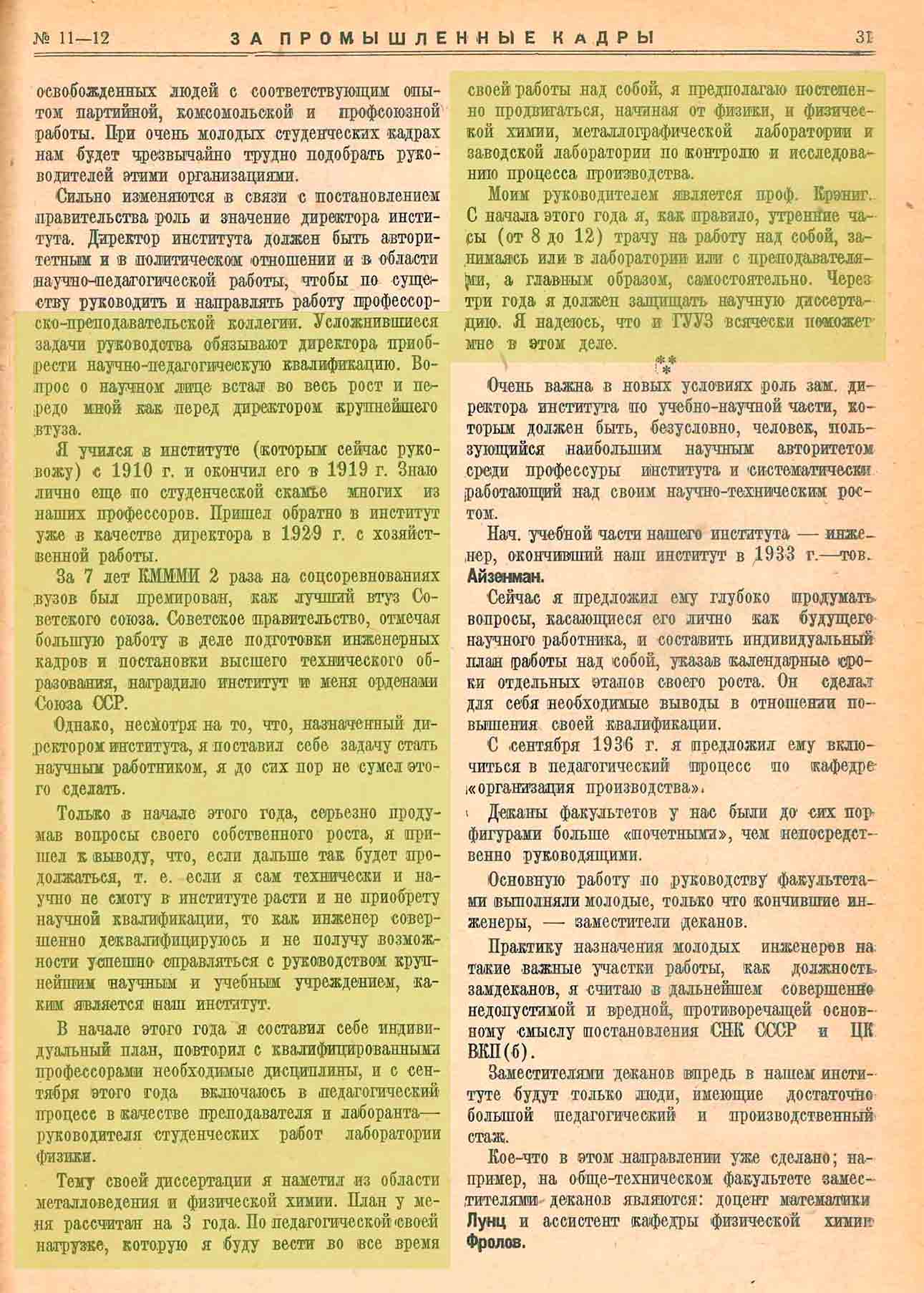
Впоследствии, в письме 1944 г. из лагеря, где в это время он работал в Конструкторском бюро Дальстроя, к бывшей сотруднице по институту Кл. Дм. Буренковой, он сообщает: «много работаю над собою в области науки, чтобы хоть частично восполнить пробел за время моего администрирования». В письмах к дочери 1944 и 1945 г., поступившей на биологический факультет МГУ, говорит о своем личном призвании подробнее: «У меня за эти 6 лет [заключения] было достаточно времени, чтобы продумать и проанализировать всю свою жизнь. Жизнь меня выкинула из своих рядов формально без всяких проступков и вины с моей стороны "в зените славы" и это является весьма характерным. Основная ошибка в моей жизни заключалась в том, что я дал себя увлечь жизнью, а не пошел по пути начертанному мне судьбой и внутренними данными натуры»; «Часто жалел о том, что в молодости не пошел по биологии. Я пошел по технической специальности – по теплотехнике, но и здесь по свойственной мне особенности я уходил все глубже в область теории (а на практике на сегодня любимыми моими науками являются: математика, физика /и особенно ее область термодинамика, гравитация, электричество/ и физическая химия)»; «я ушел от своего призвания далеко в сторону» – «меня захлестнула война и революция». «Все еще надеюсь что мечты моей жизни осуществятся и свою жар-птицу еще поймаю».
Советы по учебе, которые он дает дочери в письмах из Маглага, – это советы профессионала. «...Биология как и медицина построены на богатом экспериментальном материале, имеются и некоторые научные обобщения и законы, но прочной математической и физико-химической основы еще нет, особенно в свете новейших теорий. Если хочешь быть в своей области ученым и внести в науку новое, капитальное нужно теперь же подготовиться в части точных и физических наук. Рекомендовал бы на первых порах начать со следующего: 1. Грэнвиль и Лузин. Курс диффер. и интегр. исчисления. 2 тома. Написан очень понятно, но не снижается до популяризации. 2. Раковский. Физическая химия. Очень хорошая книга для университетов. Есть на эту тему книга еще лучше: Эйкен. Физическая химия и химическая физика. Но она очень объемна и трудно переваривается. 3. Роберт Поль. Введение в электричество. Популярная книга. Оригинально и интересно написана...» «Как хорошо Элечка было бы, если бы я скоро вернулся к вам и мы опять зажили одной дружной семьей. Я помог бы обрабатывать твои материалы с точки зрения математики, физики и языков...» «... Смотрю на тебя и вижу свои черты и наклонности, ту миссию, которую я не смог осуществить...» «Сейчас читаю биологию: Лункевич "Основы жизни". Вижу что это наука прямо необъятная, тут нужна какая то более узкая специализация»... А в своих планах на жизнь после лагеря А.А. видит себя не администратором, не «хозяйственником», а специалистом: преподавателем, инженером в НИИ или на производстве, заводским механиком (профиль – теплотехника). Впрочем, и табельщиком...
...11 июня 1936 г. А.А. Цибарт назначен членом совета при наркоме тяжелой промышленности. «...Впервые на заседании совета НКТП я начал писать свою теорию [в перепечатке пропуск] строения материи» (Дневник)...
23 июня 1936 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) предъявили новые, обеспокоившие А.А. требования к квалификации директоров втузов: отныне они должны были иметь законченное высшее образование и опыт педагогической и производственной деятельности. Как видно из дневника и писем А.А., его работа над своей профессиональной квалификацией шла с самого начала его пребывания во втузе, и с этим постановлением не связана даже косвенно.
«Требуем расстрелять»
24 августа 1936-го года завершается показательный «первый московский процесс» – процесс «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра».
Факультетские и прочие партячейки МММИ выносят свои резолюции. Вот произведение его «аппарата» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 35, л. 16):
«РЕЗОЛЮЦИЯ
Заслушав доклад тов. Айзенмана о подлой деятельности контрреволюционной троцкистско-зиновьевской банды – мы работники аппарата Кр.МММ Ин-та с чувством великого возмущения отмечаем позорную контрреволюционную роль фашистских агентов, направляющих удар против дорогих нам вождей Партии и Правительства.
Презренные гады убили дорогого и любимого С.М. Кирова, они хотели убить величайшего человека в мире, создавшего нам счастливую радостную жизнь.
Гадина подкрадывалась к сердцу тов. Сталина, зная что это сердце нашей страны.
Враги просчитались.
Гнусные убийцы и террористы из Троцкистско-Зиновьевской банды пойманы с поличным.
Мы требуем суровой кары бандитам и изменникам готовившим покушение на наших вождей.
Мы требуем самой суровой и строгой кары этим выродкам и злодеям из лагеря фашизма. Эти гады должны быть уничтожены – расстреляны.
Мы приветствуем и гордимся нашим НКВД, который бдительно охраняет нашу родину и вождей.
Мы даем наказ: зорько охраняйте нашего любимого вождя и друга тов. Сталина, зорько охраняйте всех руководителей партии и правительства, разоблачайте врагов народа.
В ответ на действия контрреволюционной троцкистско-зиновьевской банды, мы еще теснее сплотимся вокруг партии Ленина – Сталина, еще больше повысим революционную бдительность и непримиримость к врагам народа. Мы обязуемся быть бдительными на каждом участке нашей работы, разоблачая врагов народа.
Да здравствует наша славная большевистская партия!
Да здравствует вождь и организатор великих побед тов. Сталин!
Да здравствует зорький часовой Наркомвнудел и его руков. тов. Ягода. –
Председатель: /Сукиясов/
Секретарь: /Минская В.И./»
Процесс, конечно, сопровождался митингами трудящихся. «В своем постановлении профессора, преподаватели, студенты, рабочие и служащие Краснознаменного московского механико-машиностроительного института им. Баумана заявляют: "Враги народа, гнусные предатели, презренная кучка прислужников немецкого и японского фашизма по прямым указаниям злейшего врага народа изувера Троцкого занимались террором, отравлением и удушением рабочих, вредительством, шпионажем и диверсиями. / Они, трижды презренные фашисты, хотели ликвидировать колхозы и совхозы и отдать землю кулакам и помещикам, а заводы и фабрики капиталистам, вернуть свободный трудящийся народ обратно к нищете и безработице, обратно к капитализму. Они, эти кровавые псы, торговцы родиной, хотели на клочки разорвать нашу страну, наш Советский Союз и отдать его своим фашистским хозяевам. / Нет более омерзительных и подлых дел, чем те, которые творила эта шайка озверевших бандитов. Мы требуем расстрелять этих бешеных псов» (ЗПК 1937 № 2 /январь/).
Повышается бдительность; в этой связи ГУУЗ припоминает МММИ и МАИ историю с преподававшим в них беспартийным сыном Троцкого, талантливым инженером С.Л. Седовым. «Для характеристики недостатка большевистской бдительности, формального понимания ее в некоторых звеньях системы наших втузов необходимо привести и следующий факт. Младший сын Троцкого С.Л. Седов, оставшийся в СССР под предлогом расхождения во взглядах со своим отцом, в действительности выполнял долгие годы роль его лазутчика в нашей стране. Этот ядовитый отпрыск гнилого корня получил за счет советского государства высшее образование, работал инженером, преподавал в КМММИ и МАИ и, наконец, получил по представлению МАИ почетное звание доцента, пройдя дважды квалификационную комиссию. Он попался тогда, когда выполнял задание по массовому отравлению рабочих на одном из наших сибирских предприятий...» (там же).
Зиновьев, Каменев и еще четырнадцать человек расстреляны 25 августа. «Чувством безграничного гнева и презрения охвачен многомиллионный народ нашей родины. Кучка презренных гадов, аккумулировавших в себе, в действиях, мыслях, чувствах своих всю гнусность и смрадную низость предателей, изменников и наемных убийц всех времен и народов, посмела посягнуть на сердце и мозг страны победившего социализма – на вождей нашей партии и государства. Убийцы из-за угла, в союзе с фашистской охранкой, замыслили отнять у трудящегося человечества его вождя, гения пролетарской революции, великого зодчего счастья тружеников и угнетенных всего мира – товарища Сталина и его ближайших и верных соратников»; «Взбесившиеся псы фашизма понесли заслуженную кару. Они расстреляны. Груди миллионов свободней вздохнут. "Чище стал воздух, легче стало дышать после того, как раздавлена эта погань"» («Правда», 25 августа 1936 г.)»; «Мы должны зорче смотреть вокруг себя, уметь во-время придавить ядовитых гадин к земле, выхватить их из мрака их нор и логовищ» (ЗПК 1936 № 11-12 /август/).
Сентябрьский прием 1936 г.: имеющих аттестат не хватало
Сентябрьский прием – особенный. Борьба за достаточную довузовскую подготовку студентов продолжается, но сломать предыдущую систему не так легко. «Прием 1936 г. проходил в условиях, более трудных и ответственных, чем в прошлые годы. То обстоятельство, что к приемным испытаниям в вузы допускались лишь лица, имевшие аттестат об окончании средней школы, заметно сократило контингент поступающих. Это сокращение коснулось прежде всего лиц, проходивших подготовительные курсы для поступления в вуз. Условием допуска их в высшую школу была сдача экстерната за полный курс средней школы»; «Несмотря на ряд сигналов, ни одна школа даже в Москве экстерната не принимала»; «В общей сложности в вузы СССР было подано заявлений лишь на 15-20% больше числа имеющихся вакансий» (Высшая школа /ВШ/ 1936 № 2).
Борьба ВКП(б) с забытым бригадным методом: из одной нелепости в другую
16 сентября в Краснознаменном МММИ им. Баумана состоялся совет, подведший итоги первой декады нового учебного года. Совет фактически проводит Петровский: ГУУЗ контролирует выполнение постановления СНК и ЦК ВКП(б) «О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой» от 23 июня 1936 г.
Самая острая тема заседания – предполагаемые пережитки бригадного метода. Здесь партия, как и следовало ожидать, впала в противоположную крайность – вернее сказать нелепость – теперь она требует покончить с семинарами («так называемыми семинарскими занятиями»): «ликвидировать все еще практикуемые в ряде втузов, несмотря на категорическое запрещение, групповые занятия для проработки лекционного материала, представляющие пережиток осужденного в свое время так называемого бригадно-лабораторного метода обучения».
Отчет о событии помещается в журнале ГУУЗа. «Совету КМММИ пришлось высказаться по поводу упражнений, которые были проведены под руководством доцента Манасевича, по сопротивлению материалов. Продолжая аргументацию доц. Арустамова, он также утверждал, что первые упражнения он посвящает... лекциям о методике решения задач по сопротивлению материалов. И в данном случае нам представляется, что мы имеем дело, правда с несколько видоизмененными, но все же пережитками осужденного так называемого бригадно-лабораторного метода. / Короче говоря, Совету пришлось констатировать, что дело в Краснознаменном механико-машиностроительном институте – во втузе, который больше всего насыщен компетентными, опытными, тонко знающими свое дело специалистами, мы еще далеко не наблюдаем той успешной борьбы против пережитков и отрыжек старой школярной системы, которая, казалось бы, в первую очередь должна было быть ликвидирована в старейшем и ведущем машиностроительном вузе. Вряд ли приходится доказывать, что в других втузах мы сталкиваемся с еще более серьезными извращениями директивы партии и правительства» (ЗПК 1936 № 13 /сентябрь/, редакционная статья)...
Разумеется, как нежелание бауманцев исполнять большевистскую директиву, так и ее предсказуемые результаты (надо думать, они были одинаковы во всех вузах), спишут опять же на «извращения решений», а также и на «вредительство» на местах. Через год на партсобрании в МММИ, исключавшем директора из ВКП(б), один из главных обвинителей Цибарта П.М. Зернов изложит эту историю так. – «Явное извращение решения Партии и правительства 36 г. Там ставился вопрос, что отменяются семинарские занятия и вводится лекционная система. Петровский приехал к нам использовать трибуну – предложил ликвидировать всякие упражнения и Цибарт ему поддакивал. И отменили упражнения по всем предметам. Получилось то, что в зимнюю сессию буквально зарезали половину студентов, до 50% было неудовлетворительных отметок. А сколько студентов вообще не явились на зачетную сессию? 820 человек. Это дело явно вредительское и ему другого имени быть не может» (см. Партсобрание)...
Студенческое время
О том, как проходили студенческие каникулы в МММИ в это время, о зимней спартакиаде, работе библиотеки и пр. можно кое-что узнать, напр., в статье Варлама Шаламова (псевдоним Ю. Владимиров) «Зимние каникулы 1936 г.» (ЗПК 1936 № 3). Это путевки в дома отдыха, лыжные походы, соревнования, литературные вечера, самодеятельность... Ощущение чрезвычайно налаженной, во всех смыслах здоровой и благоустроенной жизни!
«В Краснознаменном московском механико-машиностроительном институте им. Баумана пятьсот студентов получили на каникулы путевки в дома отдыха – двухнедельные и однодневные, получили туристские путевки. Лыжный поход КМММИ тематически весьма интересен. Это – поход по черте Новой Москвы, будущей Большой Москвы. Маршрут выбран чрезвычайно удачно и с общественной, и с физкультурной стороны. Второй большой лыжный поход – Подольск – Москва. Во время этого похода проводилась сдача норм ГТО 2-й ступени. Для студентов КМММИ во время каникул устроен кинофестиваль с показом шести лучших фильмов. Проводится встреча студентов с поэтами и писателями и организуется литературный вечер, посвященный "Чапаеву" Фурманова. Если МЭИ принимал спортсменов Харькова и Ленинграда у себя, то КМММИ послал пятьдесят своих физкультурников в Ленинград для участия в спартакиаде втузов тяжелого машиностроения. КМММИ обратил особое внимание на снабжение студентов художественной литературой на время каникул. Эти две недели – время, когда студент стремится почерпнуть как можно больше из литературы, театра, кино. И спрос на художественную литературу студентов во время каникул увеличивается многократно. Центральная библиотека КМММИ перебросила в общежития значительное количество художественной литературы. В общежитиях же проводились вечера самодеятельности. Организована массовая сдача норм на ворошиловского стрелка, широко развернута лыжная, конькобежная работа, волейбол, баскетбол.»
Шахматисты Бауманского делегируются в 1936-м году в Ленинград, играют (и выигрывают) с командой Индустриального института, аспирантом которого в это время был Ботвинник...
Втуз развивается, но у директора «настроение тяжелое»
С конца 1936 и в 1937 году ведется проектирование новых помещений МММИ им. Баумана «уже по тому новому варианту, где фигурирует МЭИ» (см. Партсобрание) – т.е. возвращенное заведению здание бывшего физического (еще раньше физико-электротехнического) института предполагается реконструировать. Институт продолжает расти.

КрМММИ им. Баумана в 1936 г. Фото (ред.) с сайта ГОСКАТАЛОГ.РФ
(слово на постаменте скульптуры – "Краснознаменный"; памятник Баумана на крыльце)
Итак, дела в институте идут хорошо, начинает сбываться и давняя мечта А.А. о собственной научной и педагогической работе (см. предыдущую рубрику). Однако «неприятности» по линии НКТП начинаются. Вновь начинают поговаривать об очередной скорой «переброске». Дает о себе знать неопределенность с законченным или незаконченным высшим образованием А.А., а также отсутствие у него опыта как ученого или инженера: строго говоря, согласно постановлению СНК и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г., он уже не мог оставаться директором втуза. Видимо, лишь чрезвычайная успешность МММИ при директорстве Цибарта заставляла ГУУЗ колебаться в этом вопросе. «27 июля 1936 г. Сегодня в 2.30 меня вызвал Петровский и весьма предварительно предложил назначить директором института профессора, а меня в Новочеркасск или Станкир. Настроение тяжелое. Природа! Дорогая, чего я хочу? Быть профессором. Быть у науки. Вот цель вот смысл моей жизни...» А.А. (как уже упомянуто выше) резко возражает Петровскому относительно кандидатур на эту должность профессоров И.И. Куколевского (которого высоко ценит – о Куколевском в 1933 году в МММИ выходит брошюра, см. также: Проверка качества) и М.А. Саверина. Между прочим, известный своей прямотой Куколевский сам говорил о себе, что он остался «на том берегу» (то есть не разделяет коммунистического энтузиазма), и для А.А. это достаточное основание полагать, что директором института такой человек стать не может. Но, все-таки, не более того. – «В августе 1936 г. на узком Совещании (Швейцер, Беляков, Красноперов и Шумский) Петровским был поставлен вопрос об освобождении Цибарта от работы директора Института и о назначении его директором Станкина. Однако это Петровским сделано не было. Директором же Кр.МММИ Петровский намеревался назначить Куколевского» (из выводов институтской партийной комиссии о вредительской деятельности Цибарта, заслушанных 22 июля 1937 г.; ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 44, л. 91). Между прочим, ни Куколевский, ни Саверин не стали директорами МММИ и после ареста Цибарта (назначить Куколевского, по словам Цибарта, не разрешил ЦК еще в 1936-м).
Чем жил Бауманский в 1937-м году, если не считать партийных боев.
Пушкинские дни, художественная самодеятельность, научно-техническая конференция...
До середины февраля общественность МММИ, как и вся советская общественность и в т.ч. втузы, весьма занята подготовкой к странному торжеству – 100-летию со дня гибели Пушкина. К этой теме мы скоро вернемся.
В феврале – марте 1937-го года проходит один из самых зловещих пленумов ЦК. И в марте этого года начинается травля Цибарта, закономерно последовавшая за арестом начальника Главного управления учебными заведениями НКТП Д.А. Петровского. С этой темы начнется следующий раздел очерка – «Продолжение. Февральско-мартовский пленум 1937 г. "...Как меня травят, как троцкистская сволочь хочет меня выжить"».
За этот год у нас меньше всего архивных сведений (главный источник – архив парторганизации) о профессиональной жизни института. Видимо, это тот случай, о котором сказал деятель ГУУЗа Г.П. Беляков в 1933-м году: «...а ведь надо иметь в виду, что за сухими цифрами количества людей, побывавших на должности директора одного и того же втуза ограниченные отрезки времени, еще скрываются чрезвычайно нервные и болезненные для учебного заведения периоды, предшествующие снятию или освобождению того или иного работника». Понятно, что в периоды ожесточенных административно-партийных склок и подсиживаний, причем грозящих всякому проигравшему в них не взысканиями, смещениями или на худой конец нечаянным инфарктом, а побоями на допросах, лагерем или пулей в затылок, – в такие дни и месяцы парткому не до науки.
В журнале ГУУЗа НКТП «За промышленные кадры» Д.А. Петровский, тесно контактировавший с Цибартом, уже не является редактором, и статей его в журнале более не появляется. Сменяется обложка. Понятно, что это связано с его скоро последовавшим арестом. Кстати, не печатается в журнале и Варлам Шаламов – считавший, что его собственный арест связан с его отношениями с Петровским.
В остальном заботы журнала прежние. В феврале в журнале замечают, что МММИ слишком строг с оценками: в некоторых втузах и в т.ч. в КМММИ отметки «отлично» составляют около 25%, в то время как в других до 48%. «Неудов» 14,8% – это «недопустимо высокий процент» (ЗПК 1937 № 3-4 /февраль/). МММИ слишком взыскателен.
Студенческая жизнь МММИ и в 1937-м году протекает так – по крайней мере так может показаться – как если бы адского фона не существовало. «По решению ЦБ студенческих организаций и президиума ЦК Союза тяжелого машиностроения в период зимних каникул с 29/I по 2/ II 1937 г. в Ленинграде был проведен всесоюзный смотр художественной самодеятельности учебных заведений тяжелого машиностроения»; «хорошее темпераментное исполнение репертуара показал джаз-оркестр КМММИ (17 чел.) / Смычковые квартеты КМММИ и ЛИИ показали высокое художественное качество в исполнении произведений Бетховена, Шуберта, Чайковского и Бородина.» «Из исполнителей художественного чтения можно отметить студентов КМММИ Монастырского, Поваркову и студ. Горьковского техникума Болталову» (ЗПК 1937 № 3-4 /февраль/)...
Во втузах НКТП, как говорилось, должны были пройти торжественные мероприятия, посвященные столетию со дня смерти А.С. Пушкина. Эта печальная дата широко, на государственном уровне отмечалась в СССР (не отразился ли в этом характер Сталина?), готовился к ней и ГУУЗ. В декабре 1936-го года в ЗПК № 17 выходит последняя в журнале статья Варлама Шаламова «Готовиться к пушкинским дням во втузах» с обстоятельным очерком значения Пушкина как поэта, создателя современного русского языка и мыслителя (слова «Пушкин – это культура» повторяются в ней три раза, рефреном). В статье сообщаются и организационные подробности. «"Пушкинские дни должны стать началом нового мощного подъема в борьбе за повышение общей культуры нашего студенчества, за критическое изучение литературного наследства". Так формулирует это ГУУЗ НКТП в своем письме директорам учебных заведений НКТП о проведении столетней годовщины со дня смерти А.С. Пушкина. Участие в пушкинских днях – дело всего втуза, и поэтому юбилейные пушкинские комиссии создаются в учебном заведении под председательством директора учебного заведения. В эту комиссию входят представители общественных организаций, профессуры и в первую очередь кафедры социально-экономических дисциплин. Работа пушкинских комиссий строится на основе почина и инициативы молодежи. Научно-педагогические работники и местная общественность должны обеспечить помощь и руководство. ...» «В день столетней годовщины смерти поэта, 10 февраля 1937 г., ГУУЗ рекомендует организовать в каждом учебном заведении торжественное заседание, посвященное памяти А.С. Пушкина, с участием общественных организаций. Примерная программа этого заседания: 1) доклад на тему "Жизнь и творчество Пушкина" и 2) художественная музыкально-вокальная часть. ...»
О том, как встречали эту дату в МММИ, имеется упоминание в июньском (6-м) номере ЗПК (А. П-ев, Пушкинские дни в технической школе):
«Московский механико-машиностроительный институт им. Баумана провел две лекции [А.С.] Балагина: "Жизненный путь Пушкина" и "Творчество Пушкина", в сопровождении чтения художественных произведений Пушкина мастером художественного слова [М.И.] Гриневой.
Проведены два вечера самодеятельности факультета [какого?] от 5-го и 3-го потоков. Организованы коллективные просмотры кинофильмов: "Дубровский", "Капитанская дочка", "Коллежский регистратор". Организованы три фотовыставки о жизни и творчестве Пушкина, а также выставка изданий произведений Пушкина. Для студентов-отличников закуплены абонементы в ЦДКА на цикловые лекции о Пушкине.
11 февраля был проведен вечер, посвященный творчеству Пушкина. Вечер сопровождался выступлением учащихся музыкального техникума им. Гнесиных».
Архив парторганизации на подобные сведения скуп, но есть интересный печатный документ, касающийся научной деятельности МММИ.
19–27 февраля 1937 г. прошла очередная научно-техническая конференция КрМММИ, подведшая итоги научно-исследовательской деятельности института за 1936 год. «19 февраля 1937 г. в 6 часов вечера в зрительном зале института состоится пленарное заседание конференции. Докладчики: а) А.Д. Пудалов – "О задачах научно-исследовательской работы в НКТП" б) Проф. И.И. Николаев "Доклад о научно-исследовательской деятельности института за 1936 год"»; «Заключительное заседание состоится 27 февраля 1937 г., в 6 час. веч. (аудитория 319) / Докладчик проф. И.И. Николаев. / Директор Краснознаменного Московского Механико-машиностроительного Института им. Баумана А.А. Цибарт». Всего докладов – включая доклады д.т.н., председателя технического совета НКТП Пудалова и зам. директора по учебной части МММИ проф. Николаева, и заключительное слово Цибарта – было 50. Cсылку на скан брошюры см. в списке литературы, ее текст (с упрощением форматирования) на этой странице.
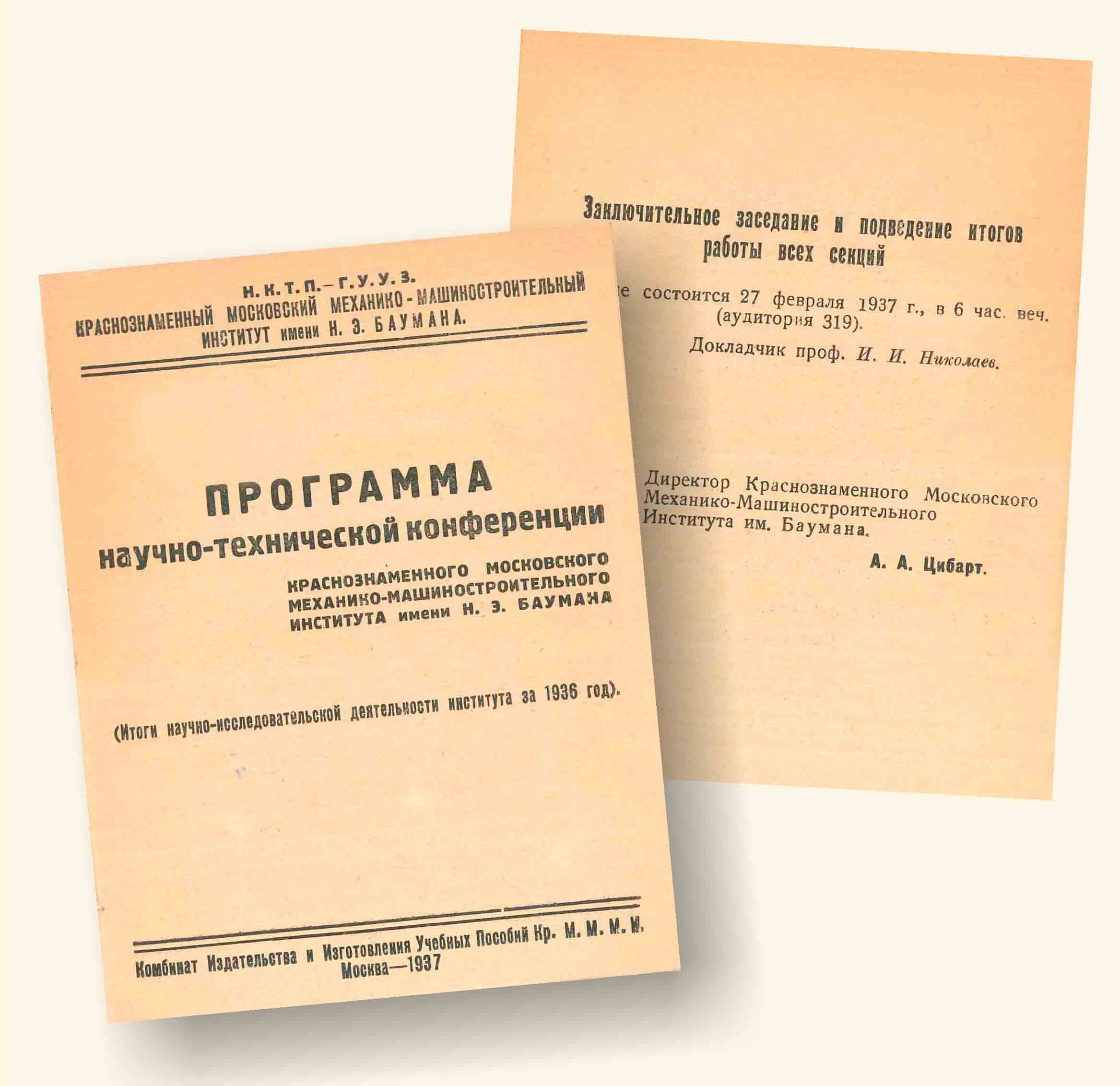
|
ПРОГРАММА |
В это же время в МММИ организуется выставка научно-исследовательских достижений института (ЗПК 1937 № 5 /март/).
«Выставка научно-исследовательских достижений
Краснознаменный механико-машиностроительный институт им. Баумана (Москва) организовал в актовом зале института выставку работ коллективов кафедр и лабораторий института за 1936 г. На выставке сосредоточены экспонаты по 25 кафедрам в виде приборов, станков, научных трудов, макетов, образцов, диаграмм, чертежей и т. п.
Некоторые экспонаты имеют крупное промышленное значение. Так например, лабораторией "Резание металлов" выставлен малый сверлильный прибор.
Химическая лаборатория выставила прибор для некомпенсационного потенциометрического титрования и прибор для электролиза.
Сварочная лаборатория выставила ценный прибор "Дефектоскоп" системы профессора Хренова.
Кафедра литейного дела в истекшем году продолжала работу над весьма актуальной темой "Отливка деталей и металлические формы". Эта тема выполнена и представлена в виде отлитых в постоянные формы карбюраторов, толкателей, втулок и пр.
Лаборатория точного приборостроения выставила несколько приборов, среди которых наибольшее внимание привлекает "Станок для навивки мелких винтовых пружин". Применение этого станка дает промышленности большую экономию.
Тепловозная лаборатория выставила индикатор, сконструированный в лаборатории. Несколько штук таких индикаторов, изготовленных лабораторией, уже находят широкое применение в промышленности.
Обращает на себя внимание тема, выполненная лабораторией прокатки "Бесслитковая прокатка металлов", представленная в виде первоначальной опытной установки.»
С 7 по 11 апреля 1937 г. в МММИ им. Баумана проходит и первая студенческая научно-техническая конференция – смотр первых 20 студенческих научных работ. «По поводу организации конференции и помощи ее участникам, надо отметить большую работу проведенную тов. Рябовым (профком) и тов. Айзенманом (учебная часть)», – пишет в «Ударнике» (№ 12, 20 мая 1937 г.) участник конференции, выступивший по секции «Двигатели внутреннего сгорания» с докладом «Чередование вспышек в многоцилиндровых двигателях и крутильные колебания коленчатого вала» студент авто-тракторного факультета Р. Ротенберг. – «...Продолжительные общие разговоры о значении исследовательской работы студентов "вообще" начинают сменяться конкретными делами. Если в дальнейшем эта работа не будет предана забвению, то надо думать, что организация студенческого научно-исследовательского общества даст вполне реальные результаты»...
«Предоставляется право приема докторских и кандидатских диссертаций...»
20 марта 1937 г. постановлением Совнаркома СССР МММИ им. Н.Э. Баумана (в числе 11-и машиностроительных втузов) «предоставляется право приема докторских и кандидатских диссертаций и представления к ученой степени доктора наук» (ЗПК 1937 № 7-8). Это имело «большое значение для подъема научной работы в институте» (см. Прокофьев), «оживило работу ученого совета института, ставшего в нашей стране одним из центров развития науки» (см. Прокофьев, МВТУ им. Баумана 150 лет, 1955).
Это сообщение из журнала «За промышленные кадры» и из юбилейной книги Прокофьева – во всяком случае, не вполне точное. Постановление СНК 1937-го года «Об ученых званиях и степенях» было скорректированной версией аналогичного постановления от 13 января 1934 года, впервые в СССР введшего сами ученые звания и степени, и также предоставлявшего некоторым вузам (включая, разумеется, МММИ им. Баумана) и НИИ, право приема диссертаций. Это право МММИ реализовывал еще до 1937 года.
Самый большой набор среди московских втузов
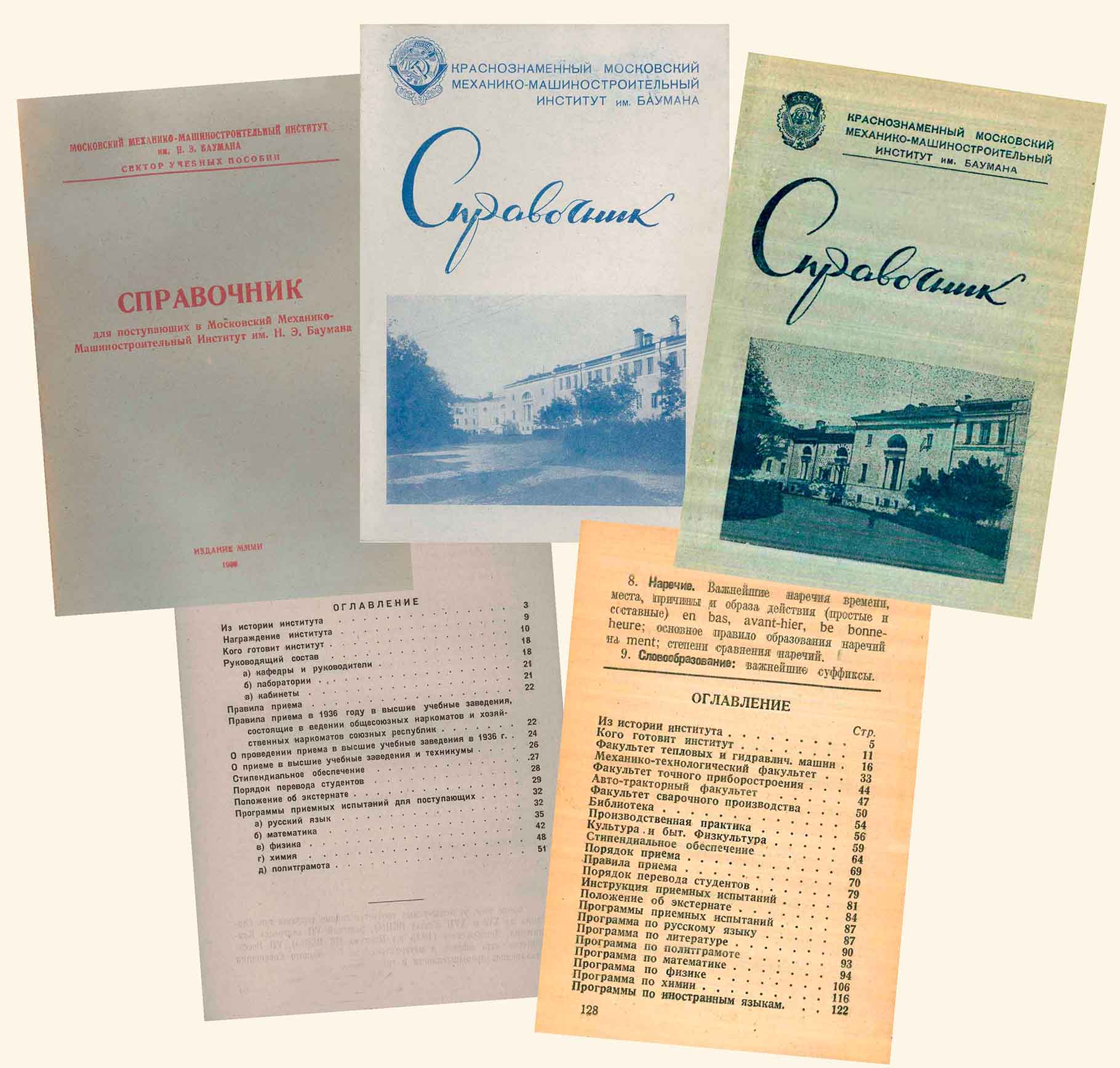
Справочник и программы для поступающих в КрМММИ. 1933, 1936, 1937 гг.
Оглавления справочников за 1936 и 1937 гг.
Осенью 1937-го года в МММИ им. Баумана планировалось принять 475 человек, – это самый большой набор среди всех московских втузов. За ним следует МИХМ – 400 человек, МЭИ – 375 (из них 25 вечерников), МХТИ – 350, МИСИ – 250, и далее по нисходящей. (Много больше, чем в МММИ, набор в Ленинградский индустриальный, в отличие от Бауманского воссоединивший свои бывшие до 1930-го года факультеты во втуз-гигант: это 850 человек, включая 50 вечерников.) (см. ЗПК 1937 № 7-8)
Бауманский был на подъеме и в 1937-м году.
К сожалению, 1935 – 1937-й годы – это и время значительного разлада отношений с супругой, следствием и катализатором которого была связь А.А. с Кл. Дм. Буренковой, а также его особые давние отношения с О.А. Адамович. «Работаю над собою и на службе прямо до одурения.» «Физическую болезнь надо переболеть. Видно и душевную надо переболеть. У меня организм и физический и видно духовный сильный, здоровый; поэтому я болею иногда пустяковую болезнь долго. И эту болезнь (любовь к Мурке) я переболевал очень долго и мучительно»... Все это было особенно тяжело для А.А. тем, что разрыв грозил бы ему разлучением с дочерьми, без которых – особенно младшей Светы – он не мыслил себе существования. «А без Светки я жить не сумею.»
(И дети это чувствовали. «Сегодня утром моя Светка ... утром, когда я еще спал пришла ко мне на постель и стала долго, долго меня целовать в лицо» – 27 сентября 1936 г.; «И Элечка понимает в чем дело. А Светка, <она> же бедная любит меня до болезненности» – 30 декабря.)

Ул. Садовая – Земляной вал, д. 23 («Дом специалистов»). Здесь, в кв. 20 на 4-м этаже, семья Цибартов жила с 1935 г.
Период «пожирания революцией собственных сынов», старт которому дал в свое время Ленин, находился в своей высшей фазе.
В декабре 1936 г. состоялся секретный пленум ЦК ВКП(б). В докладе наркома внутренних дел Ежова разоблачалась деятельность некой «организации правых», якобы возглавляемой Рыковым, Бухариным, Томским и др., имеющей связи с «троцкистами» и «зиновьевцами» и также ставящей своими целями убийство Сталина, вредительство и саботаж, реставрацию капитализма и проч. В дальнейшем эту «организацию» Ежов именует также «правотроцкистским блоком».
С 23 февраля по 5 марта 1937 г. проходит пленум ЦК ВКП(б), ставший особой вехой в истории Большого террора. 3-го марта в своем докладе на пленуме («О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников») Сталин указал, что «нынешние вредители и диверсанты, троцкисты, – это большей частью люди партийные, с партийным билетом в кармане, – стало быть, люди формально не чужие»; «теперь узловым вопросом для нас является не ликвидация технической отсталости наших кадров, ибо она в основном уже ликвидирована, а ликвидация политической беспечности и политической доверчивости к вредителям, случайно заполучившим партийный билет». Случайными могут оказаться и практические заслуги: необходимо «разъяснять нашим партийным товарищам, что никакие хозяйственные успехи как бы они ни были велики, не могут аннулировать факта капиталистического окружения и вытекающих из этого факта результатов». А посему: «Принять необходимые меры для того, чтобы наши товарищи, партийные и беспартийные большевики, имели возможность знакомиться с целями и задачами, с практикой и техникой вредительско-диверсионной и шпионской работы иностранных разведывательных органов. ... Необходимо разъяснить нашим партийным товарищам, что троцкисты ... давно уже перестали служить какой-либо идее, совместимой с интересами рабочего класса, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду вредителей, диверсантов, шпионов, убийц, работающих по найму у иностранных разведывательных органов. Разъяснить, что в борьбе с современным троцкизмом нужны теперь не старые методы, не методы дискуссий, а новые методы, методы выкорчевывания и разгрома».
Теоретические дискуссии и правда были неуместны: даже когда истребители «троцкистов» и пытались сформулировать какие-то идейные разногласия с ними, выходило до смешного неубедительно. «Троцкист» – это и был тот, кто подлежал «выкорчевыванию и разгрому». Что до самих идей, то, как известно, даже замысел «индустриализации» принадлежал Троцкому, тогда как Сталин, до победы над Троцким, был его противником...
Сталин продолжает. – «Наши успехи в области социалистического строительства, действительно, огромны. Но успехи, как и все на свете, имеют и свои теневые стороны. ... есть ... опасности, связанные с успехами, опасности, связанные с достижениями. Да, да, товарищи, опасности, связанные с успехами, с достижениями»...
И в своем заключительном слове на пленуме, 5 марта: «необходимо разбить и отбросить прочь другую гнилую теорию, говорящую о том, что не может быть будто бы вредителем тот, кто не всегда вредит и кто хоть иногда показывает успехи в своей работе. / Эта странная теория изобличает наивность ее авторов. Ни один вредитель не будет все время вредить, если он не хочет быть разоблаченным в самый короткий срок. Наоборот, настоящий вредитель должен время от времени показывать успехи в своей работе, ибо это – единственное средство сохраниться ему, как вредителю, втереться в доверие и продолжать свою вредительскую работу».
Уровень, до которого должна была простираться бдительность «товарищей», Сталин задает в обычной для него лицемерной, как бы примиряющей манере. Из его слов явствует одно – формального предела нет, и хотя бы какого-то внятного критерия, по которому можно «разоблачить» троцкиста, не существует. «...Но я боюсь, что в речах некоторых товарищей скользила мысль о том, что: давай теперь направо и налево бить всякого, кто когда-либо шел по одной улице с каким-либо троцкистом или кто когда-либо в одной общественной столовой где-то по соседству с троцкистом обедал. Давай теперь бить направо и налево. / Это не выйдет, это не годится. Среди бывших троцкистов у нас имеются замечательные люди, вы это знаете, хорошие работники которые случайно попали к троцкистам, потом порвали с ними и работают, как настоящие большевики, которым завидовать можно. Одним из таких был т. Дзержинский. (Голос с места. Кто?) Тов. Дзержинский, вы его знали. Поэтому, громя троцкистские гнезда, вы должны оглядываться, видеть кругом, дорогие товарищи, и бить с разбором, не придираясь к людям, не придираясь к отдельным товарищам, которые когда-то, повторяю, случайно по одной улице с троцкистом проходили...» В нормальной правовой среде ни о чем подобном немыслимо было бы и пошутить. Кстати, Сталин дает понять: если ему лично потребуется устранить «товарища» уровня Дзержинского, то будет «разоблачен» и такой. Любой намек Сталина воспринимался как абсолютная директива, но никто из тех, кто оказывался заподозрен в «троцкизме», не посмел бы прямо сослаться на эти его слова в свою защиту: каждый понял намек правильно.
Итак на фоне повального неизбирательного террора обозначилась очередная приоритетная мишень. Погром готовился на тогдашнюю советскую элиту как таковую: партийных, хозяйственных, промышленных руководителей – по принципу их заметности. Врагов и их приспешников надо было активнее искать среди тех далеко не чужих ВКП(б) лиц, «с партбилетами в кармане», кто мог гордиться «успехами и достижениями».
Фамилия Цибарт, что называется, вертится на языке.
В книгах авторов МГТУ (см. Анцупова, Павлихин; Волчкевич) сообщается, что Сталин в своем докладе прямо обвинил А.А. Цибарта в связях с «врагами народа». В дневнике А.А. эти слова не цитируются, однако говорится, что Сталин «мне недоверил». В отредактированной стенограмме доклада Сталина, как и других докладчиков пленума, фамилии Цибарт нет; это можно понимать так, что в заведении не могут не помнить и тех слов, что не вошли в окончательный текст стенограммы.
Во второй половине января МММИ упоминается на страницах журнала ГУУЗ – в опасном контексте. «Для характеристики недостатка большевистской бдительности, формального понимания ее в некоторых звеньях системы наших втузов необходимо привести и следующий факт. Младший сын Троцкого С.Л. Седов, оставшийся в СССР под предлогом расхождения во взглядах со своим отцом, в действительности выполнял долгие годы роль его лазутчика в нашей стране. Этот ядовитый отпрыск гнилого корня получил за счет советского государства высшее образование, работал инженером, преподавал в КМММИ и МАИ и, наконец, получил по представлению МАИ почетное звание доцента, пройдя дважды квалификационную комиссию. Он попался тогда, когда выполнял задание по массовому отравлению рабочих на одном из наших сибирских предприятий ...» (ЗПК 1937 № 2, редакционная статья). – Сын Троцкого преподавал в Бауманском.
За пять дней до февральско-мартовского пленума 1937 г. предсказуемо уходит из жизни, «от паралича сердца» (или кончает с собой, или убит) благоволивший к институту «Серго». «18 февраля в 5 часов 30 минут вечера скоропостижно скончался крупнейший деятель нашей партии, пламенный бесстрашный большевик-ленинец, выдающийся руководитель хозяйственного строительства нашей страны – член Политбюро ЦК ВКП(б), Народный Комиссар Тяжелой Промышленности СССР товарищ ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ.» Проходит траурный митинг «институтов [МММИ] им. Баумана и [МЭИ] им. Молотова»; выступающие говорят: «...на каждом шагу своей учебы и работы мы чувствовали заботливую руку нашего наркома, являющегося подлинным сталинским садовником, бережно выращивающим кадры работников тяжелой промышленности. … Да здравствует наша славная партия, наш великий советский народ. Теснее сплотимся вокруг родного Сталина и завершим великое дело, во имя которого жил и боролся Серго Орджоникидзе!» (ЗПК 1937 № 3-4 /февраль/).
Орджоникидзе сменяет В.И. Межлаук.
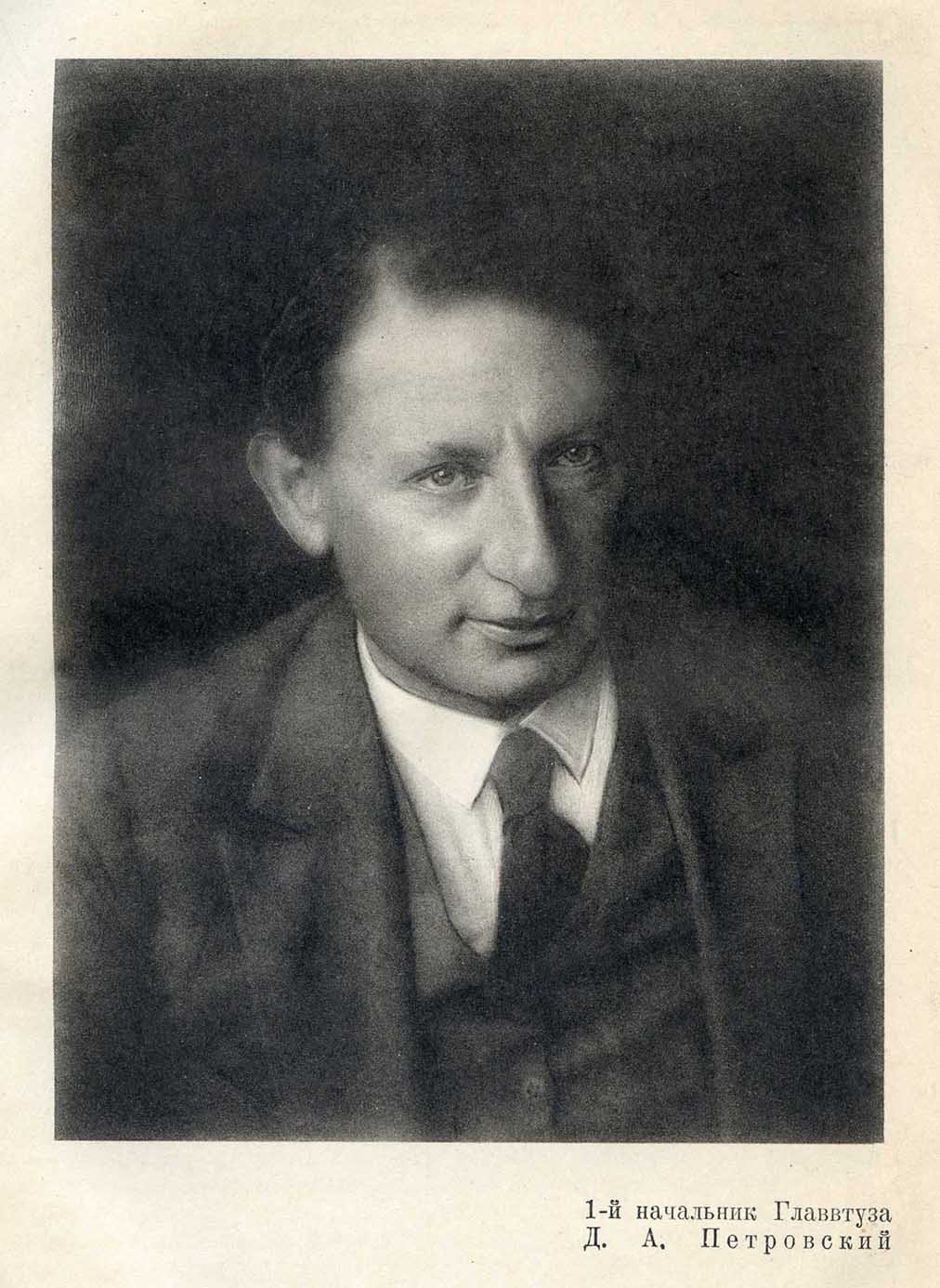
Уже 11 марта 1937 г. по подозрению в причастности к «организации правых» арестован (а в сентябре будет расстрелян) подписавший приказ ВСНХ о разделении МВТУ и назначении Цибарта директором ВММУ Д.А. Петровский, с октября 1933 г. начальник ГУУЗ НКТП и главный редактор журнала НКТП «За промышленные кадры», в котором А.А. регулярно публиковался. С ним А.А. имел постоянные рабочие и личные контакты («Петровский все-таки очень хороший товарищ. Как будто он меня щадит. Это видно из его обращения со мною»), был знаком и с его (также вскоре расстрелянной) супругой Розой Морисовной (Роуз Коэн, бывш. английская феминистка, суфражистка и коммунистка, в СССР зав. иностр. отделом газеты The Moscow News)...
Журнал, недавно еще редактировавшийся Петровским, сообщает:
«...Во главе учебных заведений тяжелой промышленности в последние годы стоял человек, оказавшийся врагом нашей партии и народа.
Д. Петровский, бывший начальник ГУУЗа, разоблачен лишь недавно. Пораженным оказался самый штаб учебных заведений тяжелой промышленности.
Д. Петровский совершенно несомненно пустил вредительские корни в системе подготовки кадров. Далеко еще не все распутано в сложном лабиринте его преступной работы, но и то, что уже замечено, говорит о многом. ...
Руководящее ядро ГУУЗа (Швейцер, Шумский, Беляков) не разглядели действительной природы матерого троцкистского двурушника Д. Петровского и несомненно особенно повинны в том, что он не был разоблачен во время.
Прямую ответственность несут также коммунисты, отвечающие за конкретные участки работы, пораженные вредительской рукой Петровского (т. Тишков – капитальное строительство; т. Весбланд – массовая учеба; т. Сорокин – квалификационная комиссия и т.д.)...» (ЗПК 1937 № 5 /март/).
(Между прочим, старая большевичка, член РСДРП с 1903 года В.Л. Швейцер не пожелала пинать Петровского и после его ареста, и ее травят; удивительно, но она умерла в 1950-м году свой смертью.)
В дальнейшем приводятся и разные конкретные примеры «запутанной преступной работы» Д.А. Петровского, но лишь один из них безусловно заслуживает нашего внимания. Он озвучен директором Московского геолого-разведочного института в журнале Комитета по делам высшей школы: «...Когда же кем-либо поднимался вопрос о лицах из враждебного нам лагеря, Петровский тщательно заметал следы и развивал бешеную работу по защите их» (ВШ 1937 № 4, Очистим высшую школу от врагов народа).
«Бешеная работа по защите лиц враждебного лагеря», неизменно проводимая Д.А. Петровским при каждой очередной «разоблачительной» кампании – это заслуживает доброй памяти о нем.
...По-видимому, теперь А.А. вполне согласен с тем, что Петровский – вредитель (хотя само определение «вредитель» выражало скорее священную волю партии, с которой А.А. был заведомо солидарен, чем наличие у обвиняемого каких-то реальных антисоветских умыслов). Согласно короткой записи в дневнике, 16 марта он имеет разговор с С.Б. Волынским, заместителем И.И. Межлаука (брата нового наркома) по Комитету по делам высшей школы СНК СССР, «о вредительстве Петровского по втуз'ам». Обсуждение идет в деловом ключе: «Что надо делать? Я один не справлюсь. Надо мобилизовать Козлова и Айзенмана мне в помощь, иначе я пропаду». К некоторому облегчению для себя, можно быть уверенным в том, что на судьбу Петровского никакие разговоры уже не могли повлиять, – его участь была предрешена.
Для полноты картины: 2 июля И.И. Межлаук доносит Молотову на Волынского о каком-то разговоре последнего с Бухариным, и вскоре Волынский (брат знаменитого певца Ефрема Флакса) арестован, получит 8 лет ИТЛ, а еще до ареста А.А. будет арестован и в итоге расстрелян сам Межлаук.
Разумеется, «разоблачение Петровского — еще не все. Надо разворошить все его контрреволюционное наследие в ГУУЗ НКТП и в вузах. Необходимо выгнать оттуда всех его пособников» (ВШ 1937 № 4).
Очень скоро институтская партийная общественность начнет травлю Цибарта – члена партии большевиков еще до Октябрьского переворота (собственно, это и стало к 1937-му году одной из примет «врага»). «...Будто Головинцев [секретарь институтского Комитета ВЛКСМ] говорил с [И.И.] Межлауком и тот сказал "ну что же, надо вам менять хозяина"» (Дневник). О чем А.А. не знает: КВШ посещает и секретарь парткома с ноября 1937 г. Симонов. «Этот вопрос [о снятии Цибарта] мы ставили и перед комитетом по Высшей школе. Межлаука не было – уехал заграницу. Был его зам. Волынский. И тогда у нас был разговор: "фамилия очень неподходящая". И это оправдалось» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 43, лл. 111, 112).
Формальная реакция директора Цибарта на разоблачение очередного врага уже никого не устраивает, ибо мишенью стал сам Цибарт. «Ряд директоров сами сделали попытку применить решение пленума ЦК в конкретной обстановке своего учебного заведения, но не нашли в себе необходимого мужества, а, может быть, и желания поставить вопросы с необходимой политической остротой. Так, в частности, т. Цибарт (директор КМММИ) в сущности ограничился перечнем общих положений, в то время как в институте сами участники актива вскрыли ряд исключительно безобразных [ф]актов и с организацией учебного процесса и с общей обстановкой работы педагогов и студенчества» (ЗПК 1937 № 7-8, Активы учебных заведений, редакционная статья). Еще в марте формулируется и главное обвинение против Цибарта – как будто не столь и строгое. «Нужно ясно понять, что холуйство и чинопочитание не имеют ничего общего с партийными методами работы. / Это обстоятельство, видимо, не было ясно директору КМММИ т. Цибарту, когда он в своем кабинете вывесил портрет бывш. нач. ГУУЗа Петровского в надежде на более высокие ассигнования. Не случайно, поэтому, продолжая ту же линию, комендант института в свою очередь вывешивает у себя портрет директора. / Такие примеры не единичны... [конкретных не приводится]» (ЗПК 1937 № 5 /март/).
Итак, начиная с начала. На второй день после ареста начальника ГУУЗа Д.А. Петровского, на закрытом общеинститутском партсобрании 4–13 марта 1937 г. (ЦГАМ ф. П-158, д. 39, л. 12) поднимается тема в т.ч. «подхалимства» дирекции перед Петровским, а также его пока не выявленной в МММИ вредительской агентуры.
«1. Хозяйство института находится совершенно в запущенном состоянии, а состояние отдельных участков работы является прямым следствием вредительства со стороны бывш. нач-ка ГУУЗ"а и его еще не выявленной агентуры внутри Института.
2. Вместо борьбы за оснащение Института современной техникой и просто нормального санитарного и с точки зрения техники безопасности состояния лаборатории и всего Института, дирекция Института и в первую очередь директор Ин-та тов. ЦИБАРТ не встречая должного отпора и борьбы со стороны парткома встала на путь делячества и подхалимства.
3. Аппарат Ин-та в некоторых случаях подобран не по большевистскому принципу, а по принципу личных отношений к директору Ин-та что привело к тому, что аппарат не действенный и не обеспечивает действенной борьбы за перестройку высшей школы.»
Большого значения этим обвинениям в свой адрес А.А., видимо, не придал – во всяком случае в своем дневнике никакого беспокойства по этому поводу он не выражает.
Однако «козел отпущения» уже назван. Обвинение в подхалимстве перед врагом народа быстро конкретизируется – в кабинете директора висел портрет Петровского. Да кроме того в 1933-м году, узнав, что Пятаков, в ходе планируемой отставки Штейна, выдвинул Петровского на должность начальника ГУУЗа, Цибарт распорядился поместить портрет Петровского на вкладке в подготавливаемый тогда юбилейный сборник МММИ. (Поскольку же Петровский еще не был назначен на эту должность, подпись под портретом дали – «1-й начальник Главвтуза [Главтуза ВСНХ]», что было не совсем верно – первым начальником Главтуза был известный партдеятель С.И. Аралов. – Имеется в книге и фотография Штейна.)
22 марта А.А. записывает в дневнике: «Кончился актив при парткоме. Стоял вопрос о хозяйственных делах. Матвеева [с конца 1935 г. зам. директора по АХЧ] как ставленника Петровского постановили снять с работы. Меня здорово поколотили из-за портрета Петровского. Сам искренне по-партийному покаялся. Тяжело, больно, попало здорово. Устал. Нет у меня друзей. Никого. ... Тяжелые мысли. Настроение. Если бы не моя Светка, покончил бы с собой. Природа! Теперь в эти очень тяжелые минуты думаю только об одном – что договор в силе...»
Вот как это покаяние звучит в передаче секретаря институтского парткома (см. Партсобрание, 1.12.37): «На этом [22.03.37] партийном комитете, т. Цибарт, выступая по вопросу о Матвееве, заявил следующее – что он на протяжении шести лет в институте проводил непартийную линию, что он в своей работе не опирался на партийную организацию, что он людей, которые критиковали его, считал своими личными врагами, подхалимничал – я передаю дословно – перед Петровским, причем по его заявлению сделано это в интересах института "с паршивой собаки хоть шерсти клок"».
А как это было в передаче Цибарта (см. Партсобрание)? «...Каждый из вас понимает, что кроме того, что он член партии, он есть еще и человек. И когда в 11–12 часов ночи собираются 20 человек, кругом накурено, надымлено, и говорят: – Петровский вредил. – Вредил. – Ты видел. – Не заметил. – Содействовал или не содействовал... И это тянулось несколько часов. А до этого трепали меня здорово. Поделом трепали. Я сказал: – Об'ективно [т.е. без умысла] конечно. А люди сейчас же записывают: Цибарт сознался, что шесть лет занимался вредительством...» – Удивительно: Петровский «вредил» институту так, что Цибарт того «не заметил», однако сам Цибарт как будто бы верит в то, что Петровский действительно «вредил»; при Цибарте МММИ им. Баумана был признан лучшим втузом СССР, но партком как будто бы верит, что «вредил» вместе с Петровским и Цибарт. Сама истина была партийна...
Вот несколько цитат из протокола заседания парткома 22 марта, дополняющих картину. В числе обвинений, между прочим, такие: «Стиль работы Цибарта сводился к деляческому обывательскому руководству» (т.е. деловому, без идеологической составляющей); «У него отсутствует опора среди [партийного] актива»; «Как расценить то, что в момент доклада тов. Сталина выключается радио, ясно, что это было сделано с целью вызвать возмущение среди студентов»...
«Тов. ЦИБАРТ. «Тов. ПОГРЕБНОЙ. … Цибарта окружают ненадежные люди, возьмем ШЕВЦОВ – человек подхалим, он говорит с активом одно, а с Цибартом другое, его конечно надо гнать. Распустил он слухи, что Цибарт друг Ежову и тем самым глушил критику и самокритику. ...» «Тов. ГОЛОВИНЦЕВ. Мне кажется, что корень зла находится в Цибарте и системе его работы. Приказы Цибарта не выполняются. Над ними издеваются и это верно. Вас тов. Цибарт предупреждали об этом на комсомоле, а АЙЗЕНМАН выступил как деканат в защиту Цибарта. «Тов. ХОВАХ. … я уже 5 лет работаю в ин-те, но не видел ни одного разу в мех. цехе тов. Цибарта. Хаос творится в ин-те и он зависит только от дирекции. Помню когда о Матвееве ставился вопрос и в то время Цибарт и Наугольнов защищали его, я уверен, что Матвеев знал о Петровском. «Тов. ЗЕРНОВ. ... Стиль работы Цибарта сводился к деляческому обывательскому руководству. Когда отчитают Цибарта, тогда он во всем признается, а дела не делает и потому получается худший вид зажима самокритики.» «Тов. АЙЗЕНМАН. ... Со стороны ГУУЗа мы имели самый звериный зажим самокритики. Я в присутствии Межлаука выступал в кабинете Цибарта с критикой Петровского, а на 2-й день Петровский звонит по телефону Цибарту говоря, что там болтает Айзенман. … Подхалимство у нас существует, но необходимо различать его от дружбы. У нас с Цибартом существует дружба, которую мы дополняем критикой.» «ПОСТАНОВИЛИ: (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 44, лл. 33-38) |
23 марта проходит общее партийное собрание. Тов. Симонов вводит в курс дела: «... Дальше выступает директор ин-та т. Цибарт, он заявил, что в течение 6 лет проводил непартийную линию в институте, что он проводил вредительскую линию, что он подхалимничал Петровскому, что он не любил самокритики, не воспринимал ее как следует – воспринимал ее болезненно, часто людей, которые критикуют, считал бузотерами, что он был оторван от партийного актива. / Какие еще нужны доказательства, чтобы об"яснить сегодняшнее положение нашего института? / Напрашивается законный вопрос – за что Вам, т. Цибарт, орден дали?» (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 44, л. 6).
29 марта и 5 апреля отчет об этом собрании, под названием «За широкую большевистскую самокритику», печатается в многотиражке МММИ «Ударник». «Большинство выступавших указывали на безобразнейшие явления, имевшие место в практике руководства нашего института в области академики и хозяйственных вопросов, подчеркивая огромнейшую вину в этом директора института т. Цибарта.» «На протяжении ряда лет в институте проводилась вредительская работа по линии ГУУЗа. А директор т. Цибарт занимался подхалимством, заискивал перед бывшим начальником ГУУЗа Петровским, рядом с портретами вождей повесил его портрет.»
Между прочим: «Остро критиковал работу парткома т. Ховах, который указал, что важнейший участок партийной работы – политическое воспитание коммунистов и всей студенческой массы был передоверен т. Наугольновым и т. Цибартом второстепенным лицам, неспособным дать должного руководства. В результате этого, политическое воспитание студентов находится на чрезвычайно низком уровне»; «тов. Ховах приводит интересный факт, как разбазаривались фонды зарплаты института. При кафедре ДВС числился работник ГУУЗ’а проф. Красноперов, которому выплачивали в течение 5 лет по 500 руб. в месяц, несмотря на то, что он никакой работы не выполнял» (встречаемся здесь с проф. Н.В. Красноперовым, создавшим в МММИ первый в Союзе общетехнический факультет и редактировавшим первые учебные программы и планы...).
Тему портрета Петровского подхватывает партийный актив Комитета по высшей школе. «В прениях была обрисована атмосфера подхалимства и угодничества, которая специально культивировалась Петровским, стремившимся разложить неустойчивых директоров мелкими подачками. Директор Бауманского механико-машиностроительного института тов. Ц и б а р т признался активу, что портрет Петровского, торжественно повешенный им у себя в кабинете, преследовал именно эту цель – расположить сердце начальника ГУУЗа и приоткрыть его карман, откуда сыпались "подкидки" подхалимам и который наглухо закрывался перед директорами, сохранявшими свое достоинство советского гражданина. Тов. Цибарт мелкой лестью заменил партийную, большевистскую борьбу за кредиты, за планомерный отпуск средств, защиту до конца той государственной финансовой политики, которую он считал правильной» (ЗПК 1937 № 6, О. П-ий, Первый актив при Комитете по высшей школе).
Нечего и поминать о том, что «подхалимство» перед начальником ГУУЗа имело свой практический смысл. А необходимое в административной деятельности «выстраивание отношений» с вышестоящими принимало в те времена (да и не только) именно такие формы. Интересно, как впоследствии А.А. оправдывается в этом своем прегрешении перед товарищами по партии. 22 июля на парткоме он говорит: «Вывешен портрет был с целью добиться улучшения положения института, некоторые признаки уважения к Петровскому способствовали получению средств от Петровского для Института. Метод плохой, это надо признать, но это делалось. Портрет висел долго, но никто не указал мне на это». И на партсобрании 1 декабря: «Я в этой общей атмосфере, которая существовала в системе высших учебных заведений, я не сумел найти достаточно мужества для того, чтобы бороться с Петровским, для того чтобы ставить вопрос о Петровском. Больше того, я пошел на подхалимство, повесив его портрет из-за каких-нибудь нескольких десятков тысяч рублей, которые ВУЗ получил. Тут тоже путают это дело, оспаривают, но это никак не оспоришь.» «Для меня, для старого члена партии – это непростительное дело – подхалимство, делячество. Из-за каких-нибудь 30-40 тыс. рубл., которые я могу лишних получить, – повесить портрет Петровского рядом с портретами вождей»... О добытых для института десятках тысяч, как косвенном результате «подхалимства», А.А. справедливо не может не напомнить.
Да было ли и «подхалимство»? С момента, как нач. ГУУЗа Петровский оказался «врагом народа», директору МММИ Цибарту могли приписать (и припишут) соучастие, чему он, понятно, предпочитает этот не столь тяжкий грех. Но большая (как свидетельствует «Советское студенчество») художественная фотография позирующего Петровского, вывешенная в кабинете Цибарта – это не любительский снимок, а явно изданный в печати (как раз для «вывешивания») портрет, вероятно, как члена президиума ВСНХ СССР. Появление портрета начальника управления учебными заведениями НКТП в кабинете директора передового втуза СССР рядом с портретами других «вождей» было скорее естественно. («Одно время у нас очень легко обращались со словом – вождь. Этим именем наделяли чуть ли не каждого ответработника из советского аппарата» – см. Сперанский, Наш Сталин.) Висел этот портрет и в каких-то других заведениях: когда на парткоме МММИ прозвучало, что «никто еще не мог бы повесить в кабинете портрет начальника главка», Цибарт возражает: «были еще». Кроме того, «портрет Петровского был и в газете Ударник и не в одном номере. Кто это делает рук-во парткома не указывало и само этим занималось».
Впрочем, отношение Цибарта к Петровскому действительно было, как мы уже видели, положительным – «очень хороший товарищ». Со своей стороны и Петровский видимо ценил Цибарта. Так, в послании Зернова в НКВД от 16 октября 1937 г. в числе прочего сообщается: «Петровский – враг народа – очень крепко поддерживал Цибарта, когда о нем поднимали вопросы. Мне врезалась одна фраза Петровского на заседании совета ин-та, когда он сказал, что пока я в ГУУЗе Цибарт будет работать у вас. Цибарт создавал ореол вокруг Петровского...» Перечень свидетельств благоволения Петровского к Цибарту собран специальной группой парткома МММИ (полный текст этого документа см. в следующей рубрике). Из выступления Цибарта на партсобрании в декабре 1937 г.: «Как доказательство, что Петровский особенно благов<оли>л к институту, приводится следующее: присылали Комиссию, обнаружили целый ряд недостатков, а Петровский, вместо того чтобы хлопнуть Цибарта, прислал ему эти выводы»...
...Примечательно, что масштабным хитроумным планом «вредительства» Петровского – Бухарина, согласно «чистосердечным признаниям» Петровского на Лубянке, предполагалось как раз не то, чтобы мешать МММИ развиваться, а, напротив, то, чтобы исходно превратить этот втуз (и некоторые другие) в образцовый. Образцовым он и являлся, иначе бы Петровскому не пришлось в этом каяться. Так что предъявляемые Цибарту обвинения в «совершенно запущенном» хозяйстве и проч. были не только несправедливы (проблемы есть всегда), но и никак не укладывались в версию НКВД... Но члены институтского парткома таких подробностей знать не могут, да и на Лубянке на подобные несостыковки никакого внимания, конечно, не обращают.
Но – далее. «Решения, которые выносились институтскими организациями, и ходатайства дирекции прятались врагом народа Петровским под сукно. Тов. Цибарт об этом знал, но никаких мер, в смысле постановки вопроса об этом, перед наркомом и ЦК ВКП(б), не принимал.» «В бытовых вопросах, дирекция зачастую попирала требования студентов. Общежития никогда в срок не ремонтировались. В самый разгар учебы, обычно, производились строительные работы, так называемых, "недоделок". В целях экономии средств (культурные запросы студенчества не принимались во внимание) был снят в первом общежитии дирекцией телефон и установлен взамен его автомат.» «В постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР записано, что за политическое воспитание студентов несет ответственность лично директор института. А тов. Цибарт свалил этот участок работы на второстепенных работников»...
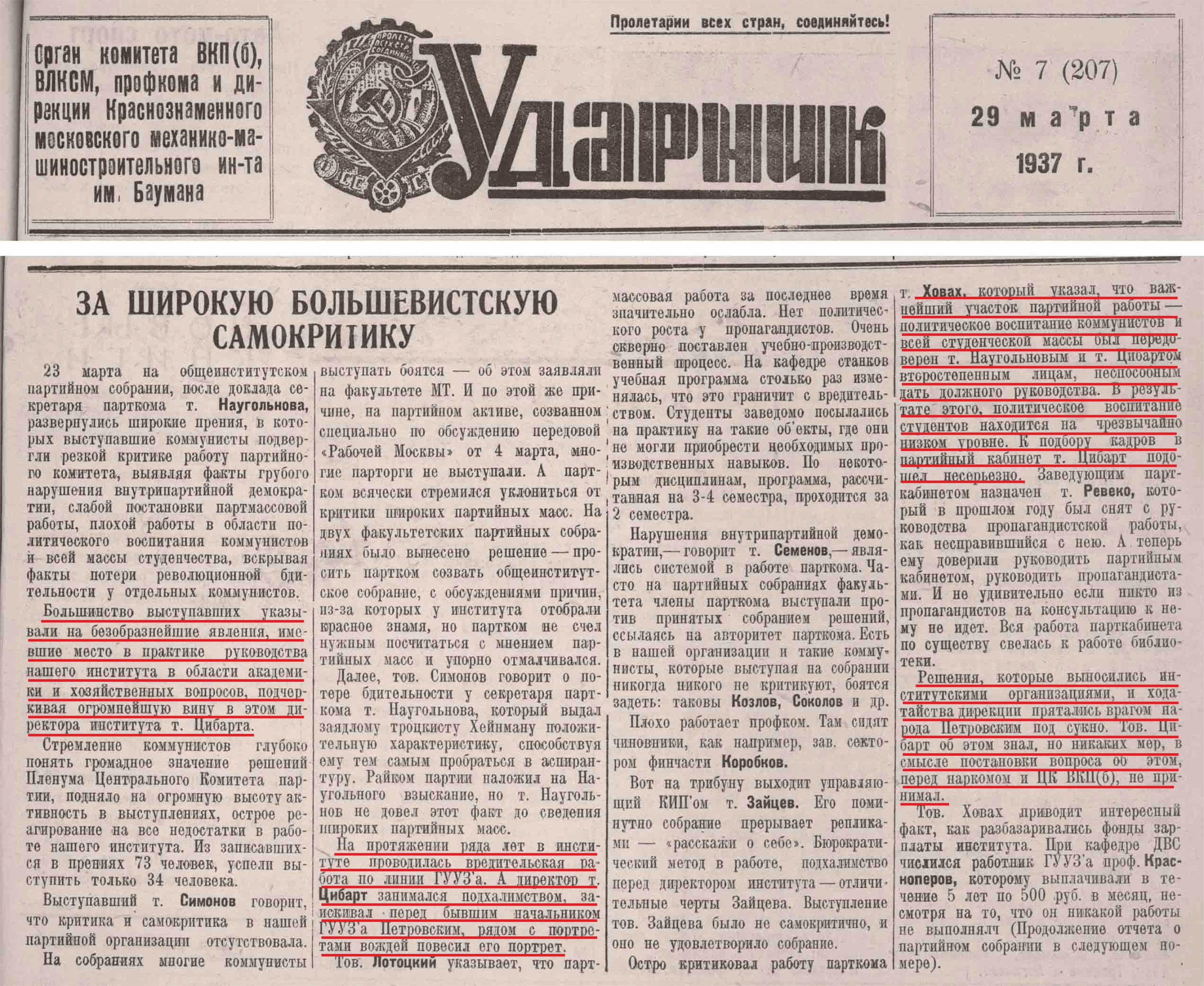
На этом (23 марта 1937 г.) собрании дают слово Цибарту – он говорит, что перекладывать всю ответственность за дела в институте с общественных организаций исключительно на дирекцию «вкорне неверно», – так что в целом дело выглядит как очередное мероприятие по утверждению партийной «критики и самокритики, невзирая на лица». Однако в той атмосфере непрерывной ожесточенной свары, взаимных обвинений и публичных доносов, которую провоцировала предусмотрительно насаждаемая сверху «большевистская самокритика», разоблачение очередного «вредителя» ощущалось как нечто естественное. Выпады в адрес Цибарта явно перевешивают, а увязка его имени с делом арестованного Петровского носит характер зловещий.
Журнал «Советское студенчество» в марте 1937-го еще публикует вторую часть коротких воспоминаний Цибарта об Орджоникидзе – «Он учил нас работать», – последнее из обнаруженных печатное произведение А.А. «...В феврале 1937 года я был записан на прием к нашему наркому и ежедневно ожидал звонка его секретаря т. Семушкина. И вдруг – эта страшная весть о смерти Серго, бессмертного своими делами. / До конца жизни я не забуду светлых встреч и бесед с этим необыкновенным государственным деятелем-большевиком и необычайно добрым, отзывчивым человеком.»
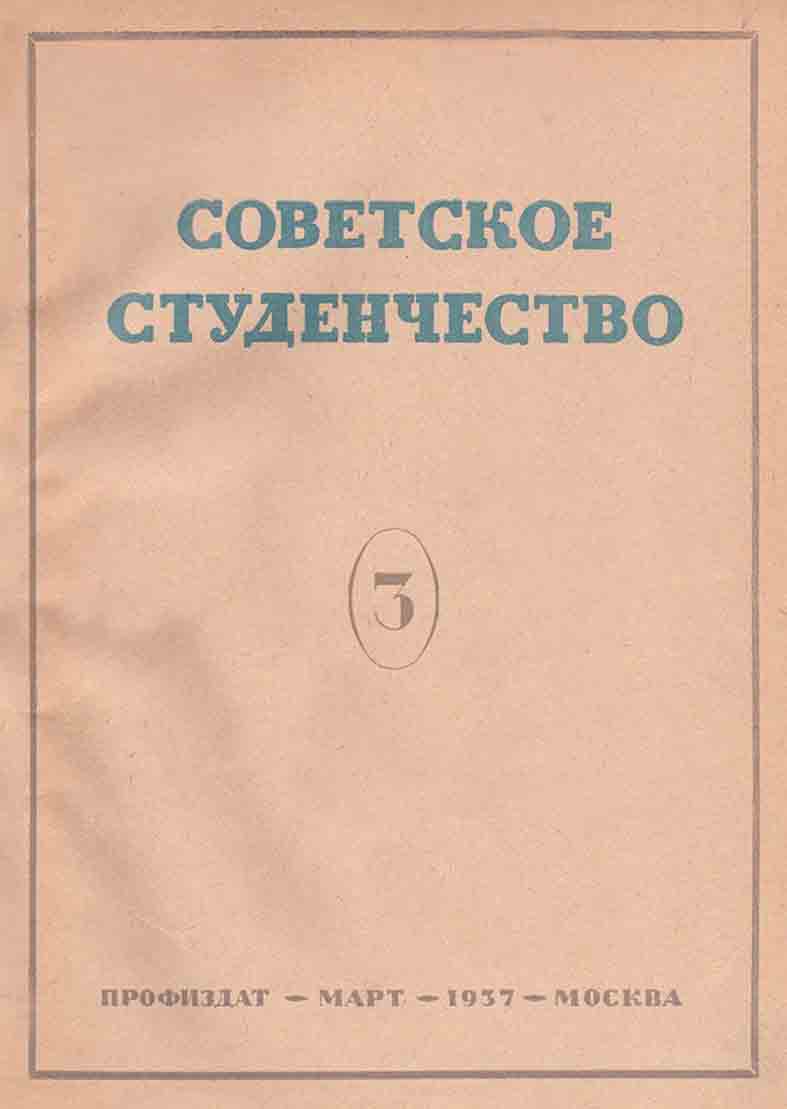
23 апреля в «Ударнике» помещается редакционный материал об отчетно-выборном собрании парторганизации института. В новый состав парткома А.А. не попадает: «Хороший урок получил директор института тов. Цибарт. Его, как говорится, с треском отвели из списка. Собрание оценило Цибарта по заслугам. Оно сказало Цибарту, что он заболел подхалимством на почве деляческих отношений, что он, будучи членом партийного комитета, работал плохо, что он, как директор, в первую очередь должен нести ответственность за все недостатки и безобразия, которые имели и имеют место в нашем ВТУЗе». («Меня не избрали. Отвели из списков, но меня все таки приписало 36 чел. т.е. 10%.»)
В результате тайного голосования не попадает в партком и преследующий Цибарта Головинцев. Причиной была растрата 600 рублей комсомольских взносов (впрочем, не доказанная).
«24 апреля закончилось длившееся 3 дня совещание актива Краснознаменного московского механико-машиностроительного института им. Баумана. / Актив профессоров, преподавателей, студентов, рабочих и служащих подверг резкой критике работу дирекции и учебной части института. Всего в прениях выступило 38 чел. На активе вскрыт ряд фактов вредительства в строительстве лабораторий и учебных корпусов. Вскрыто вредительство и в учебно-производственной работе института, которое, безусловно, является следствием вредительской работы окопавшегося в руководстве ГУУЗ ныне разоблаченного врага народа Петровского», – так начинает свой отчет о событии журнал «За промышленные кадры» (1937, № 7-8 – его последний номер). Пока дирекцию обвиняют лишь в «самонадеянности» и «беспечности».
Кроме «молодых» профессоров, доцентов и аспиранта Зернова, к критике дирекции на этом активе были привлечены, в иезуитской советской манере, и «старые» профессора – Куколевский, Цыдзик, Осецимский. Оценивая их участие в этой убийственной кампании, надо понимать, что в настоящей ее цели они не могли быть достаточно осведомлены: согласно инструкции райкома, беспартийные сотрубники института не должны были ничего знать о том, что происходит на его партийных совещаниях (см. Партсобрание, Жебровский). Взятое само по себе, выступление Куколевского огорчает свой несправедливостью (об этом в рубрике «События, победы и бедствия 1934–1935-х гг.»), но уж о «вредительстве» он, конечно, ничего не говорил. Проф. Цыдзик выступил с обычной рабочей критикой: «функционалка» в работе дирекции, недостаток средств на развитие кафедр, в т.ч. его собственной. Подобным этому было выступление проф. Беспрозванного, одновременно «старого» и «молодого» (нам неизвестно, чем кончилось его вступление в кандидаты в члены ВКП(б) в 1933-м году). Выступление проф. Осецимского, как оно передано в журнале, по-своему экстравагантно: он винит партийную и комсомольскую организации в том, что они не оказывают помощи профессорам и преподавателям... в «овладении большевизмом»; вряд ли профессор сам стремился им овладеть! Если не ошибаемся, речь профессора – не что иное, как уклонение от участия в травле дирекции.
«Молодой» профессор, зав. кафедрой математики Л.А. Тумаркин жалуется, в частности, на то, что плохо обстоит дело «с политическим воспитанием аспирантуры и профессорско-преподавательского состава». Это серьезный ученый, и, возможно, его забота о «политическом воспитании» профессоров – того же рода, что и забота об «овладении большевизмом» Осецимского. – Доцент Арустамов критикует аппарат по существу, хотя, как и в случае выступления Куколевского, его претензии скорее могут быть отнесены к высшему руководству НКТП или ЦК ВКП(б), чем к Цибарту или даже Петровскому: «если некоторыми руководителями кафедр и вносятся замечания по существу [учебных] планов, то в ГУУЗ они отвергаются, а учебная часть их не отстаивает».
Лишь аспирант Зернов определенно приводит «яркие отдельные примеры того, как проводилась вредительская линия врага народа Петровского в КМММИ руками непосредственных работников института».
В дневнике Цибарта упоминаний об этом активе нет – видимо, слишком тяжелого впечатления от выступлений профессоров и преподавателей он не вынес.
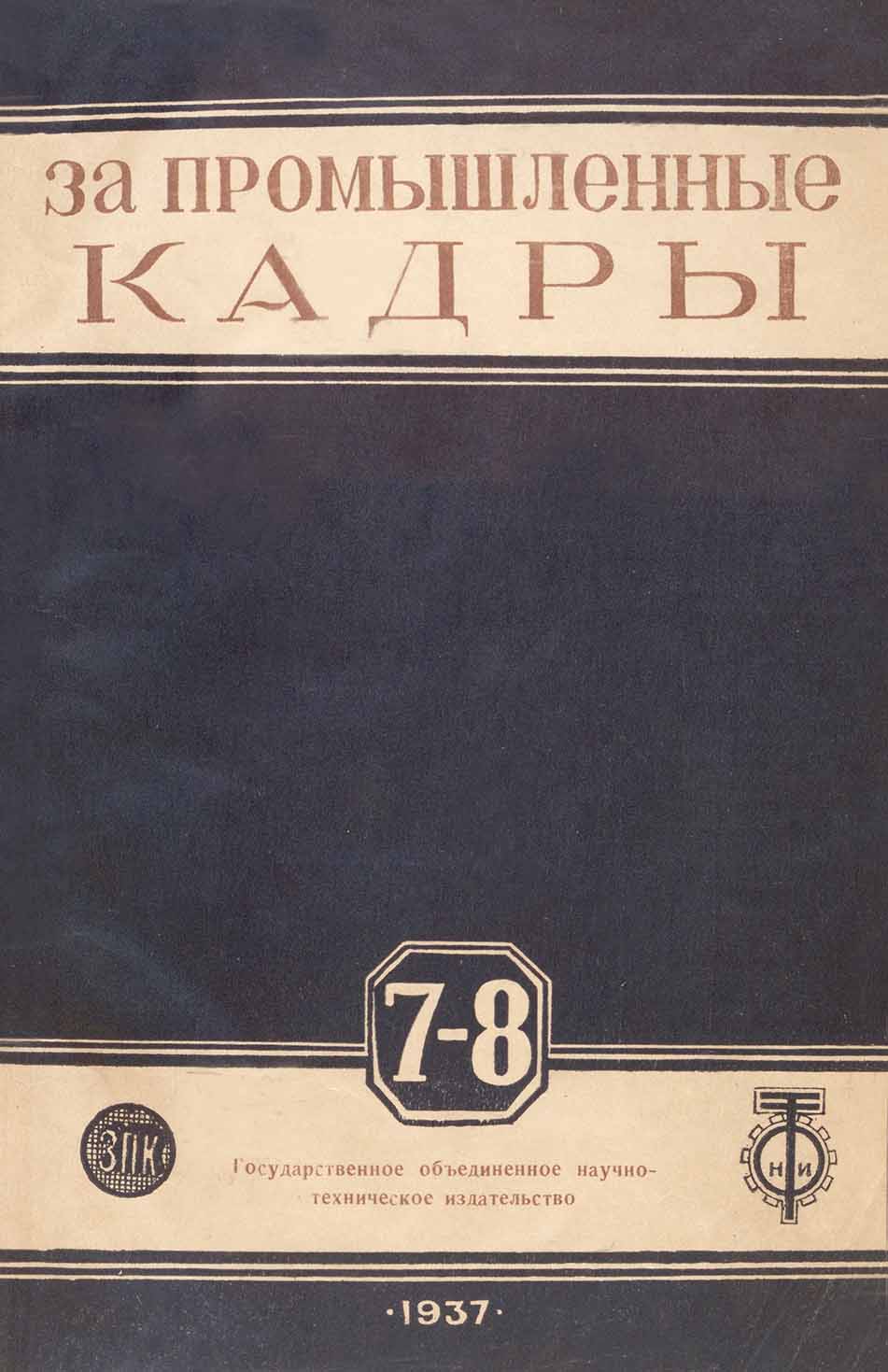
Результат беспечности |
Отсюда и далее – каждое лыко в строку: Цибарт, вообще подолгу задерживающийся в институте, иногда «отсутствует, либо занят с кем-либо из аппарата» в приемный час для студентов – «по существу получается не выполнение постановления партии и правительства, а издевательство»; «дирекция, разломав наш старый тир, безобразно затянула постройку нового»; «директор института т. Цибарт лично обещал дать автомашину для автомотосекции института ... автомобиля, обещанного т. Цибартом, нет до сих пор»; «шофер машины т. Цибарта Гавричев разбил новую легковую машину М-1, налетев на грузовой автомобиль... Но никто не потрудился выяснить причину аварии. Знал о ней и т. Цибарт, но не принял никаких мер»; «архив института находится в самом хаотичном состоянии ... Работники института и в частности я обращали на это внимание лично директора института т. Цибарта, но положение не улучшилось» (Ударник)...
Политические новости все так же чудовищны: вряд ли расстрел Тухачевского (12 июня 1937 г.), некогда «рвавшегося на Варшаву», в то время как Цибарт в Минске работал председателем совнархозбела, мог не произвести на А.А. ужасного впечатления. «Мечом пролетарской диктатуры разгромлена еще одна банда предателей и врагов. Тухачевскому и Ко, притаившимся в рядах нашей славной Красной Армии, не помогли ни глубокая законспирированность, ни весь опыт маскировки разведчиков»; «Предатель и трус Гамарник, побоявшийся предстать перед судом советского народа и покончивший самоубийством, Тухачевский, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Фельдман, Примаков, Путна — все они превратились в прямых агентов мирового фашизма» (ВШ 1937 № 7)...
Пока еще А.А. занимают всегдашние мысли – о внутреннем росте, о своих занятиях по математике и другим наукам, о начавшейся преподавательской деятельности, мечты о будущей научной работе («клянусь через 4 года стать научным работником!» – Дневник, 1937), предположения о возможных назначениях (а говорили и о возможном назначении начальником ГУУЗа); продолжаются даже и хлопоты по строительству дачи в Малаховке (которую успевает построить).
Однако в ежовском ведомстве решение расправиться с Цибартом, очевидно, уже принято. На допросе 23 июня 1937 г. у Петровского получают нужные «показания» на А.А. (Осуждать Петровского, конечно, не приходится. «...Все эти протоколы советской полиции, – как писал И. Ильин, – что бы в них ни стояло и кто бы под чем бы ни подписался в них, – суть документы не права и не правды, а живые памятники мучительства и мученичества».) К списку тех, кого он якобы уже завербовал в свою организацию, Петровский, явно по подсказке, добавляет: «кроме того мной был использован в контрреволюционной работе среди молодежи недовольный политикой партии директор Московского механико-машиностроительного института Цибарт». Это все. В чем конкретно состояла контрреволюционная работа Цибарта, об этом Петровского, видимо, не спрашивают и сочинять не заставляют – таких сведений в его деле нет (см.: ГАРФ, ЦА ФСБ). Впрочем «троцкизм» – к этому времени сущность уже вполне мистическая и «входит» в человека, как нечистая сила, уже от одного контакта с «разоблаченным» таким же образом «троцкистом» (именно так, как шутил Сталин 5-го марта: «кто когда-либо шел по одной улице с каким-либо троцкистом или кто когда-либо в одной общественной столовой где-то по соседству с троцкистом обедал»). Что говорить о наличии «показаний».
К июлю 1937-го года заместителем и исполняющим обязанности начальника ГУУЗ назначен М.М. Каплун – тот самый «Миша Каплун», ударник соцсоревнования, закончивший со своей группой учебу на два триместра раньше срока и боровшийся вместе с парторгом Кривиным (фактически против Цибарта) за сокращение срока обучения во втузе. (Каплун – член партии с 1918-го г., с 1935-го года был заместителем заведующего отделом науки Московского городского комитета партии, – ЗПК 1937 № 7-8.) В дневниковой записи А.А. от 18-го марта, между прочим, говорится: «Только что говорил со ШВЕЙЦЕР [Вера Лазаревна Швейцер, зам. нач. ГУУЗ]. Речь о новом нач. ГУУЗ"а: называют КАПЛУНА, МАКАРОВСКОГО и зав. сектор КУНТУРГ Госплана. Если придет КАПЛУН, то я должен сворачивать манатки».
«3 июля 1937 года. Опять очень горячий день. Матвеева партком исключал из партии. Сегодня и вчера общее парт. собрание. Матвеев, чтобы выгородиться валит на меня. Будто я предатель и связан с Петровским. Всякую клевету валит на меня. Природа! Помоги мне сегодня и потом, выйти из этой грязной клеветы!..» (Дневник).
Кампания против А.А. идет по нарастающей. Для А.А. это еще только время «страхов и подозрений», с которыми кое-как удается справляться, но со стороны, видимо, его обреченность сомнений не вызывает и желающие ускорить развязку находятся. Как позже опишет ситуацию расположенный к Цибарту секретарь райкома Нестеров, «если человек качается то надо его еще подтолкнуть ... а когда ты в почете, то всякие безобразия сходят». Дело, конечно, не только в архаичном инстинкте «заклевывания» попавших в беду; это реванш партийных активистов за экзамены и отсевы «ценных товарищей», парттысячников. Какое-то дело, пишет А.А., «заварили против меня Зернов и Ховах» (П.М. Зернов до 1925 г. рабочий на заводе, в 1926-м году секретарь РК ВЛКСМ; М.С. Ховах до 1927 года слесарь). 15 июля – «совещание комиссии Ховаха по расследованию хозяйственных вопросов. Трепали меня. Обидно, ведь я у них на глазах все время работал. Меня ведь знают. И вдруг? Природа помоги мне...».
22 июля 1937 г. – заседание парткома (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 44, лл. 84-89). «С треском» отведенный из парткома тов. Цибарт – в качестве приглашенного. «СЛУШАЛИ: Сообщение тов. Ховаха о работе комиссии, выделенной парткомом по проверке фактов выдвинутых на партсобрании, на партактиве и на отчетно-выборном собрании.» Душа комиссии, очевидно, Ховах – хотя он дипломатично не помещен первым в списке членов комиссии, но подписывается под ее выводами все-таки первым, и отчитывается о ее работе. Зернова в состав комиссии не включили, видимо как слишком явного противника Цибарта; он достаточно активен в прениях. Для вящей объективности в составе комиссии присутствует Айзенман, говоривший, что «мы дружим с Цибартом». Видимо, обвинительный уклон комиссии уже был предзадан какими-то вышестоящими товарищами.
Кроме отношений с «врагом народа» Петровским, других «троцкистских» связей Цибарта комиссия не исследовала. Возможно, это было проявлением нежелания части комиссии подводить Цибарта под арест. Во всяком случае, впоследствии (28 декабря, две недели после ареста) комиссию за это бьют: «Кунявский член парткома. Примиренчески относился к Цибарту. Будучи членом Комиссии по делу Цибарта не использовал имеющиеся у него факты. Факт, что у Цибарта была здесь семья, которая уехала в Польшу … получилось так, что Цибарт только "шляпа", что он имеет большие хозяйственные прорехи. Политически остро Кунявский вопрос о Цибарте не поставил. Вчера Кунявский сказал, что нам дали 4 вопроса и мы их разобрали, и только. Кроме этого были еще факты о политическом лице Цибарта и комиссия эти факты оставила в стороне».
Выводы этой комиссии по существу можно и не комментировать – достаточно привести этот первый по времени обвинительный документ против Цибарта, приложенный к протоколу, полностью.
|
ВЫВОДЫ СОСТАВ КОМИССИИ: Кунявский, Ховах, Айзенман, Осипов и Козлов. В процессе своей работы Комиссия выяснила следующее: I. Об отношении Цибарта к врагу народа Петровскому. 1/ Со стороны тов. Цибарта было проявлено явное подхалимство перед врагом народа Петровским, выразившееся в том, что тов. Цибарт повесил в своем кабинете рядом с портретами вождей и руководителей партии и Правительства портрет Петровского. Для выяснения этого вопроса мы обратились в парторганизацию ГУУЗ"а /парторг тов. Орлов/. По его указанию мы провели беседу с членами ВКП(б) т.т. Кирилловым и Беляковым, работающими ныне в ГУУЗ"е и с тов. Дыгерном, работающим ныне директором Полиграфического института. 1/ В состав Совета при Наркоме были выдвинуты лично Петровским четыре директора институтов, в том числе и т. Цибарт, из них трое исключены из ВКП(б) и сняты с работы. /Об этом сообщил тов. Дыгерн, назвав фамилию одного из директоров Ефимова и Беляков, назвав фамилию Шингарева/. Все указанные выше факты доказывают, что Петровский не только не относился к Цибарту плохо, а наоборот, по возможности выгораживал его. II. О капитальном строительстве. Комиссия ознакомившись с материалами о начале строительства и его консервации установила следующее: 1/ Строительство было начато в 1933 г. в порядке выполнения приказа Наркома тов. Орджоникидзе за № 144. III. Хозяйственное положение в Институте. По руководству хозяйственной жизнью Института и по состоянию хозяйства на сегодняшний день необходимо отметить: 1. С хозяйственным руководством института тов. Цибарт не справился, в результате чего хозяйство института в настоящий момент находится в весьма тяжелом положении. IV. О выполнении приказа № 144 Наркома т. Серго Орджоникидзе в связи с юбилеем Института. Не выполнен: 1/ Основной пункт приказа тов. Серго — о строительстве нашего института. V. Руководство учебным процессом. 1. Руководству учебным процессом тов. Цибартом не было уделено должного внимания и по существу было передоверено учебной части и второстепенным работникам. О перестройке работы в связи с решением февральского Пленума ЦК ВКП/б/. В течении последних трех месяцев несмотря на целый ряд указаний со стороны парторганизации /партактив, парт.собрания посвящ. феврал. Пленуму, выборных собраниях и др./ и актива при директоре, надлежащего перелома в работе директора Института не имеется и вопрос о руководстве институтом по-прежнему остается острым. Члены комиссии [автографы] Ховах Кунявский Айзенман Осипов Нрзб Нрзб (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 44, лл. 90-93. Орфография, нумерация и пр. как в тексте) |
Между прочим, бывший помощник Петровского и новый, после Петровского, главред журнала ГУУЗ «За промышленные кадры» Г.П. Беляков, на которого ссылаются авторы расследования, ко времени заседания парткома скорее всего уже арестован: в июле подписан к печати ставший последним номер (ЗПК № 7–8) журнала, без имени редактора. А в апреле о Белякове вспомнят так: «Исключительную помощь Петровскому в подборе кадров из врагов народа на руководящие посты оказывал пом. начальника ГУУЗ Беляков. Сей помощник дошел до такой наглости, что выступал инициатором представления Петровского и его подручных для награждения орденами Союза» (ВШ 1937 № 4)...
Конечно, и на эти обвинения, и на те, что звучат далее в прениях, Цибарту есть что ответить. «Вывешен портрет был с целью добиться улучшения положения института...» «...Вопрос о записке тов. Дыгерна и Кириллова. В этой записке много склочных дел, мелочей, но дельного принципиального ничего нет. Теперь они заявили комиссии, что в свое время предлагали меня снять. Это неправда. В записке этого нет.» «Я не знаю ничего о статье исправленной Петровским.» (Это статья, из которой Петровский вычеркнул «резкие места» о Цибарте в связи с тем, что при переписывании учебных программ в свете безумного «стахановского» увеличения норм выработки на производстве МММИ представил в ГУУЗ до 30% не пересмотренных программ, т.е. сопротивлялся безумию...) «О капитальном строительстве. Тов. Орджоникидзе в феврале 1933 г. подписал приказ о развитии нашего ин-та. По этому приказу мы получили все, за исключением вопроса о капитальном строительстве. Был другой приказ в октябре того же года по НКТП, об оказании помощи нашему ин-ту, МЭИ и Авиационному ин-ту. Перед этим приказом я был у Серго, говорил с ним. Откуда берет комиссия, что я не ходил, не добивался, никаких мер не предпринимал. Я был в октябре и в ноябре у тов. Серго... Я поставил тогда вопрос о необходимости строительства специального корпуса для [комбината] горячих и шумных цехов, кроме обещанного помещения МЭИ... Вопрос о строительстве этого комбината только недавно снова был разрешен и деньги на проектирование строительства частично получены. У Наркома я бывал, вопросы ставил, говорил о положении ин-та и о необходимости строительства.» «...Строительство комбината горячих и шумных цехов застряло на долгое время. Это не наша вина. Я писал об этом зам. Наркома тов. [А.Д.] Пудалову. Я требовал отпуска средств для строительства комбината еще в 1934 г., согласно титульных списков. Мы просили ГУУЗ от промышленности и конечно из этого ничего не получилось, ГУУЗ денег тоже не давал, лимитов ему не спускали. Таким образом, несмотря на наши просьбы, мы ничего не получили. Лбом стену не прошибешь.» «Меня обвиняют в том, что протокол строительной комиссии я направил в дело. Куда же его направлять. Не в корзину же, а в дело.» «Факты вещь упрямая. Разве многие даже из вас не подписывали доклады о состоянии ВТУЗ"а по трем турам соцсоревнования. Там писалось совершенно обратное...» «В выводах сказано, что мои заместители разваливали работу по хозяйству. Это надо доказать, надо иметь факты. Я с этим не согласен. Нет фактов развала хозяйства...» «В отношении Совхоза. Всем известно, что в то время была линия на приобретение подсобных хозяйств. Мы тоже приняли совхоз, но совхоз оказался нерентабельный.» «В отношении руководства учебным процессом, получается так, что я ничего не делал. Мои заместители тоже, а ВТУЗ все время идет вверх. Числился лучшим ВТУЗ"ом, чем же это об"яснить. Неужели все идет самотеком. Это неверно.»
От институтских дел партком быстро переходит к выяснению «троцкистских связей» Цибарта: «Вопрос: разбирался о тебе вопрос в Минске в связи с оккупацией»; «Каково твое отношение с Червяковым. Только ли на почве приема детей в наш институт»; «Знал-ли ты и знаешь ли где твои родные за границей»; «Знал-ли лично Кнорина, если знал, то в какой степени»...
Явно, что какое-то высокое указание о снятии Цибарта с директорства уже поступило.
|
Тов. Палкина: « ...выводы комиссии надо расширить, пополнить. Партком должен решить, что дальнейшее руководство ин-том тов. Цибартом невозможно. Тов. Цибарт с работой не справился и надо решительно поставить вопрос о снятии его с работы». Тов. Побяржин: «... у тов. Цибарта была попытка быть с массой, но это было как-то по казенному, не от души. Много было сигналов со стороны и от местной парторганизации, но никаких результатов нет. Тов. Цибарт удовлетворить нас не может. Никакого авторитета не имеет. Надо тов. Цибарта от работы освободить». Тов. Осипов: «написали письмо Наркому, а тов. Цибарт до сих пор приема у Наркома не добился ... оставаться ему нельзя, вопрос предрешен». Тов. Айзенман: «выводы [комиссии] об"ективные. Однако нельзя всю ответственность за недостатки свалить только на одного тов. Цибарта ... Очень во многом тов. Цибарт и не виноват, но в очень многом и виноват ... Нужен новый работник. Цибарту надо из ин-та уйти. Он хотел это сделать еще в прошлом году...». Тов. Кунявский: «...вопрос об освобождении тов. Цибарта решен, тут двух мнений быть не может. Сам он тоже хочет уйти. Однако никто не говорит о безнадежности тов. Цибарта. Он работать будет [имеется в виду как партийный деятель], это ясно». Тов. Ховах: «основной факт вредительства [в МММИ, пока без прямого указания на Цибарта] это срыв строительства и наполнение нашей коробки [здания втуза] за счет впитывания других ин-тов без соответствующего обеспечения аудиторно-лабораторным фондом ... Следует вывод, что тов. Цибарт не сможет работать в ин-те, не сможет перестроить свою работу в соответствии с решениями партии». Тов. Наугольнов: «...надо прямо поставить вопрос, что тов. Цибарт не может работать в ин-те. Вполне естественно, что мы не должны обойти молчанием вопрос о знакомстве и о связи Цибарта с врагами народа ... Кроме того, вопрос о партийности тов. Цибарта необходимо поставить дополнительно после его выяснения отдельных политических моментов». |
«Тов. ЦИБАРТ. За время моей работы в ин-те я пользовался доверием парторганизации. Меня выделяли на ответственные партийные работы. Странно, теперь, когда стоит вопрос о моем снятии, то выдвигаются такие моменты, которые не соответствуют истине.
Обстановка в ин-те сложная и с этой сложной обстановкой мне пришлось много поработать. Естественно, что за эти 7 лет было много и ошибок. Основная моя ошибка это то, что я проглядел врага народа Петровского. Я вывесил портрет Петровского в своем кабинете, проявлял другие признаки уважения. Это моя основная ошибка.
Капитальное строительство протекало на глазах всей партийной организации. Я один ничего не предпринимал.
Вопрос о моем снятии поставлен еще Кривиным в 1931 г.
Вопрос о состоянии ВТУЗ"а я ставил неоднократно. В 1935 г. говорил с тов. Осиповым /секретарь Сталинского РК ВКП/б//, писал ему письмо, где ставил некоторые вопросы очень резко (читает письмо тов. Осипову [в стенограмме текст письма отсутствует]). Вот как стоял вопрос тогда. Теперь после 7-ми лет работы получается, что я никуда не годен. Напрасно некоторые товарищи говорят, из жалости ко мне, что я еще не безнадежен. Я еще не хочу получать пенсии и буду работать. Другое дело, что в ин-те мне не было создано условие для работы. Все время говорили о моем снятии, распускали слушки, слухи, естественно в таких условиях работать трудно. Я не могу работать в ин-те это верно, но я не хочу уйти с ин-та по инвалидности. Я буду драться против этого и здесь и в ЦК. Моя вина в том, что я не ставил вопрос в ЦК, а только в Райкоме. Вопрос о моем уходе надо решить. Но надо посмотреть почему подорван мой авторитет в ин-те и кто в этом виноват. Я не согласен с тем, что я развалил работу, что я срываю новый прием, что хозяйство института разрушено. Это неверно. Должен быть новый директор, которому надо создать авторитет и условия для работы, а то может получиться то же, что со мной»...
Итог ожидаем: «ПОСТАНОВЛЕНИЕ. ... Перелома в работе в результате широкого обсуждения итогов февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) по хозяйственной и учебной работе т. Цибарт не обеспечил.
Партийный комитет считает, что тов. Цибарт и в дальнейшем не может обеспечить руководства институтом и просит РК ВКП(б) поставить вопрос перед МК и ЦК ВКП(Б) о снятии тов. ЦИБАРТА с работы директора нашего института и скорейшем назначении нового директора.
2. В связи с тем, что при обсуждении данного вопроса на парткоме выявлены некоторые моменты, требующие выяснения, вопрос о партийности тов. Цибарта поставить дополнительно на заседании парткома...»
...С этого же месяца Зернов (по его словам) требует от парткома, чтобы «материалы» по Цибарту были переданы в НКВД, и партком обещает это исполнить. 23 августа: «Дело близится к развязке. Партком хочет со мной расправиться во что бы то ни стало». Разбирательство идет весь сентябрь и длится в октябре, А.А. не теряет надежды на его благополучный исход, пишет секретарю ЦК А.А. Андрееву, секретарю Московского обкома Н.С. Хрущеву, посещает Губенко – секретаря Пролетарского райкома, в котором А.А. обменивал партбилет, и некоторых других партдеятелей разных рангов, а главное – если судить по дневнику – все более уповает на свой интимный «договор с Природой»; требования к себе становятся становятся жестче, расписываются все детальнее...
17 октября партком постановил исключить А.А. Цибарта из ВКП(б).
Члены парткома все так же твердили о «подхалимстве», вспоминали «связь» Цибарта с Репке, родных заграницей, отъезд приехавших в СССР отца и брата в Польшу. Но появились и новые обвинения – их подготовила бухгалтерская ревизия из НКТП: в неких финансовых нарушениях в институте и в частности Цибарта при строительстве дачи, получении денег из кассы за недоданные преподавательские часы, «использовании служебного положения»...
Внеочередную ревизию в МММИ распорядился провести, по сведениям Цибарта, не кто иной, как новый начальник ГУУЗ НКТП М.М. Каплун – недавний парттысячник и ударник «Миша», с комсомольским задором заканчивавший в МММИ в 1930-31 гг., «при слабой подготовке», по три семестра за два. Можно сказать, что подходящее время для расправы с Цибартом пришло и очередная заложенная в то время мина в отношениях «правого оппортуниста» Цибарта и парттысячников сработала.
Если в «Акте документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности института за 1935-1936 годы от 22 октября – 28 ноября 1936 г.» говорится лишь о небольших нарушениях во втузе, от «выбытие учащихся отмечается простым вычеркиванием из списка» до «в институте значительное число не утвержденных профессоров и доцентов получающих по ставкам не соответствующим присвоенному кому званию», «передвижение кредитов внутри статьи сметы» на приобретение оборудования, перерасход по статье соц. бытовое обслуживание студентов, бесхозяйственность командировок тт. Зайцева и Котляра по сдаче дома отдыха ГУУЗа и т.д., а директор не упоминается вовсе – то совсем другое дело к концу 1937-го года. Постановлением ГУУЗ НКТП «по результатам обследования финансовой деятельности института за период с октября 1936 года по 1ое июля 1937 года от 16 декабря 1937 г.», упомянутом Наугольновым – постановление это оказалось излишним, т.к. Цибарта арестуют на три дня раньше – предлагается «произвести начет нижеследующим лицам, за незаконно полученные суммы: / а) директору института Цибарт / за недодачу пед. часов – р. 1.376 / за участие в приемно-испыт. комиссии 1.501 / пособие из фонда директора 2.070 (кроме дебиторской задолженности 991 р.». Также отбирают какие-то суммы у нач. учебной части Айзенмана и других, Айзенману и зам. директора по адм.-хоз. части Осипову объявляют выговоры (ЦГАМ ф. Р-1992 оп. 4 дела 14, 15)...
|
«Заседание парткома КМММИ им. Баумана от 17/Х-1937 года. Говорит Наугольнов: «... В результате тщательного анализа имеющихся материалов, особенно в связи с дополнительными фактами и полученными материалами дело выглядит значительно серьезнее и потому необходимо обсудить дело Цибарта вновь с точки зрения возможности дальнейшего пребывания его в партии». «Совсем недавно выяснилось очень много безобразий в финансовых делах института, в результате обследования Комиссии Наркомата. В этом грязном деле Цибарт выглядит весьма некрасиво»; «по линии учебного процесса Цибарт до сих пор не дал анализа вредительской линии и не указал путей д/выкорчевывания вредительства, хотя время для этого было достаточно»; «...в аппарате были люди политически далеко не наши /Матвеев. Лунц, Лящук и друг./, причем некоторые из них арестованы органами НКВД, как враги народа /Лящук, Лунц/...». «ПОСТАНОВИЛИ: (ЦГАМ ф. П-158, оп. 1а, д. 44, лл. 129-131.) |
В частности об «использовании служебного положения» Цибарт кое-что говорит в первый день финального общего партсобрания МММИ, 1 декабря 1937 г. (см.), подтвердившем его исключение из партии.
«...Если вы честные люди, вы должны сказать, что первое ваше решение было не об исключении из партии .... А хотите знать, что послужило причиной для другого решения.
Меня вызывают в партийный комитет.
Тов. Цибарт. Завтра стоит твой доклад об аспирантуре. Я готовлю материал, иду на доклад. А Наугольнова нет. Он побежал в ГУУЗ собирать материал, потому, что он слышал, что назначена ревизия. А ревизию назначил Каплун – друг Кривина. И несмотря на то, что только бухгалтер составил выводы – идут в бухгалтерию к бухгалтеру, посмотреть.
Цибарт получал незаконно деньги. За что. Я скажу. Летом я экзаменовал вновь поступающих студентов. Приезжал сюда Межлаук. В ЦК мне об"явили выговор за то, что я экзаменовал студентов, а не участвовал в приеме студентов. Я в ГУУЗ представил весь материал с ведомостями, с расписками – за что я получал эти деньги: экзаменовал, задания составлял и устные и письменные. Я и в прошлом году это делал. Есть постановление партии участвовать в этой работе.
Дальше то, что я, будучи преподавателем, был зачислен в штат, получал 200 руб. в месяц как человек ведший группу и не додал часы: вместо 280 час. дал 80 часов. Я даю об"яснение партийному комитету. Верно, я вел группу. Из-за перегруженности я не мог додать часы, но я занимался, на занятия ходил. И не только я один – целый ряд преподавателей находится в таком же положении. Ревизору же надо вытащить только меня. Да, товарищи, это неправильно, хотя я и обязался додать эти часы. Если я их не додал в прошлом году, я обязан их додать в этом году.
Это "использование" моего служебного положения.
И после этого меня просят выйти с заседания парткома, остаются одни и решают вопрос в мое отсутствие. Звоню, звоню – как дело кончилось. Прихожу в партийный комитет: "ну, Саша [Наугольнов], как вы решили".
Покраснел Саша – видно ему неудобно. Наконец, говорит: "мы решили тебя исключить". – За что вы меня исключаете? Пойди, проверь в бухгалтерию. Верно – исключайте, неверно – зачем исключаете. – "Знаешь, так нужно. Если не подтвердится, мы тебя восстановим".
/В зале смех/.
– Я говорю: так дело не делается. Не надо подбирать специально материал...»
...Прозрачнее всего суть дела обозначил здесь Наугольнов: «знаешь, так нужно». Т.е. достаточно достоверный слух о том, что приговор Цибарту стал угоден кому-то «наверху», до парткома дошел, осталось лишь действовать соответственно. Хотя никаких официальных распоряжений на этот счет и не было: «если [слух] не подтвердится, мы тебя восстановим»...
Запись в Дневнике 19 октября: «второй день я беспартийный. Как-то странно и стыдно. Стыдно не за себя и позор. Стыдно за то, что я не извлек уроков. Договор ведь в силе, а я спал...»
От обороны А.А. переходит в наступление: «если хочу чтобы договор был в силе, чтобы победить, надо – энергично самому бороться за себя, с врагами партии никогда не откладывать назавтра». «Выводы – честность – твердость – действия.» «20/Х целый день писал. Передал заявление в ОРПО [Отдел руководящих партийных органов ЦК ВКП(б)], в НКВД Ежову и Межлауку»...
А.А. действительно уверен, что настоящие его преследователи – не кто иные, как «троцкистская сволочь». Из тех, кого он «сам исключал» (в 1929-м году А.А. – как председатель Комиссии по чистке партии Рогожско-Симоновского / Пролетарского района, в 1933-м – Бауманского / расширенного Сталинского района). «Меня сволочь, мерзавцы, враги затравили. Неужели Сталин ты не увидишь своих настоящих друзей? Мне еще много сил осталось. Все, что есть отдам чтобы эту сволочь вытравить, выкорчевать. Я уверен, что правда восторжествует, что троцкистам не удастся меня с'есть.» «На месте Сталина», предполагает А.А., он «сам бы действовал так»: ведь по сути «идет вторая гражданская война», «вторая революция»... «Помочь Сталину построить счастливое будущее честно до конца без колебаний». Есть в дневнике и пресловутое «лес рубят – щепки летят», правда, в роли «щепок» выступают не люди, – люди все-таки остаются жертвами: «может кого-то из честных людей и задеть, это неизбежно. Обижаться не надо, веру в то, что делает Сталин, нельзя [терять]»... «Но я, Природа, не хотел бы быть этой жертвой – помоги, годы уже не молодые, я должен выполнить свою миссию...»
В любом случае – «Пусть судит меня партия, но не троцкисты. А нашим парткомом, начиная с секретаря, завладели троцкисты». С этим убеждением А.А., загнанный в угол, исключенный из партии и явно подводимый парткомом к аресту, бескомпромиссно воюет с «троцкистами». 23 октября: «Был у Черкасского, оказывается мое заявление переслано Шкирятову»; 25-го: «Завтра пойду к Смирнову в КВШ, к Воинову в ЦК (если удастся), к Иванову – чтобы попасть к Шкирятову»... М.Ф. Шкирятов – в 1918–20-х гг. секретарь ЦК профсоюза швейников, а с 1934 г. секретарь партколлегии ЦКК ВКП(б), член Комиссии партийного контроля (ярый организатор партийных «чисток»). К нему А.А. не попадает. 28 октября «был у Воинова в ЦК ВКП(б) об'яснил ему положение дел в Институте», подал заявление в райком касательно Панкратова (предс. профкома МММИ), обвиняет его в давнем сотрудничестве с неким «троцкистом» Хейнманом. Панкратов успешно оправдывается: «Хейнман был год до него»... Когда-то «давал рекомендацию» (для поступления в аспирантуру) Хейнману Наугольнов, секретарь парткома МММИ (кстати, все трое – Хейнман, Панкратов, Наугольнов – еще недавно числились ударниками учебы и отмечены поощрением Орджоникидзе). Предпринимает ли А.А. какие-то акции против Наугольнова, которого называет Сашей, установить трудно. Попадает под ответный удар А.А. «группа Головинцева»: тот, между прочим, говорит о Цибарте (начальнику уч. части МММИ Айзенману) следующее: «я [Цибарт] тор[гую] дачей, пытался Грибину [Гржебину] дать за аренду дачи 70 часов. Исключение мое правильно. Развал хозяйства даже за этот год – сознательный, меня надо посадить и пр.». (Слово «посадить» в стенах родного втуза уже звучит...) На очереди Каплун, а также некто Сахаров... «Комиссия расследует деятельность Зернова и других, разоблачит их»...
...Все это слишком тревожно находить в дневнике, и трудно комментировать. Чтобы оценить образ действий А.А., так похожий на образ действий его преследователей, как и вообще все происходившее в ту эпоху всеобщего умственного и нравственного помрачения, приходится во многом отрешиться от нормальных человеческих представлений. В тоталитарном мире, мораль и верность власти, воплотившей сверхценную идею – тождественны, соответственно осведомительство – священный долг. Так, о составленных им «заявлениях» А.А. рассказывает своим преследователям на партсобрании 1.XII.37 – в доказательство своей чистоты перед партией. «Меня обвиняют в том, что я поздно стал говорить и кричать, когда на меня подали заявление. К сожалению, или к счастью, это неправильно, потому что это не соответствует действительности. Посмотрите, что я писал т. Андрееву в апреле этого года. Посмотрите, что я писал Николаю Ивановичу [Ежову]... /Реплика Наугольнова: "после того, как поставили вопрос о тебе на парткоме"./ Нет, не после. Это тебе так хочется, т. Наугольнов...»
Не существует в этом мире сколько-нибудь внятных критериев преступления: одних лишь сотрудничества по работе, родства, знакомства, случайной встречи с «врагом» и т.д. может оказаться достаточным для того, чтобы самому им стать. Зло контрреволюционности незримо и контагиозно, как чума или как мистическая сущность, – табуировано, в духе первобытного мышления, всякое прикасание к очередному «разоблаченному», всякая «связь». Поэтому заподозрен а приори каждый – это именуется «партийной бдительностью». Невозможно формально определить даже то, в чем состоит самый страшный смертный грех, пресловутый «троцкизм»: если Цибарта в конце концов арестуют за принадлежность к «право-троцкистскому блоку», то и сам он характеризует своих институтских гонителей как «шайку подлых троцкистов» и «троцкистскую сволочь». Нет здесь границ между домыслами и доказательствами: так, в МММИ арестованы «польские шпионы» Лотоцкий и Лунц (между прочим, как отчитался нач. уч. части Айзенман, «как преподаватели очень хорошие») – шпионов этих внедрил конечно Цибарт, уроженец Польши, «это не может быть случайностью» (Зернов)... Смертные гладиаторские бои на парткомах выглядят как проявления настоящего клинического слабоумия, хотя их участники могут, если говорить о Бауманском, преподавать хоть и сложнейшие предметы, – на самом деле это особого рода коллективная паранойя... Характерно, что даже вполне злонамеренные доносы могут по сути не содержать никакой клеветы – т.е. не указывать на какие-то факты, истинные или ложные, которые составляли бы по юридическим или просто здравым понятиям преступление, – троцкизм и вредительство это зло мистическое, происки дьявола. (Цибарт: «Троцкий – черт – ад».) Честны или нечестны добровольные информаторы? Верят ли они сами своим донесениям? – этот вопрос в данном случае некорректен, и ответить на него можно разве что так, что лучшие из них – честные – верят, что поступают правильно. (Цибарт: «в интересах революции, значит, правильно».) Что ж, в любом случае формальной вины информаторов нет, поскольку отсеивать или проверять подозрения граждан обязаны «компетентные органы». Но и «органы», как «верный страж революции», ее священная инквизиция, только решают, какие из бредовых виде́ний информаторов сгодятся в нужное партии обвинение (а какие потребуется еще у кого-то выбить)... И здесь возникает еще одно важное психологическое обстоятельство: в такой среде информатор теряет способность отличать в себе идейные мотивы от голоса инстинкта самосохранения и корыстных интересов (если только не преследует эти корыстные интересы осознанно). Представляется, что для А.А. в его борьбе – идейный мотив на первом месте. Как тактика самозащиты эта борьба очевидно была слишком опасна, ибо не оставляла его преследователям путей отхода... Внутри той параноидальной картины мира, в которую была погружена страна, действия А.А. представляются скорее слишком последовательными и дерзкими.
Кстати, ввиду всего этого устоявшееся ныне клише «по ложному доносу», как бы снимающее со Сталина часть вины в репрессиях, нужно отбросить как бессмысленное.
Вообще, хотелось бы заметить, что из всех действовавших лиц разворачивавшейся тогда социальной трагедии безусловным злодеем является лишь Сталин (и то, если считать его психически вменяемым); почти все прочие, за исключением явных садистов – в большей или меньшей мере ее жертвы. Также и то, что какой-то резкий обвинительный пафос, хотя бы в отношении институтских преследователей Цибарта, здесь неправомерен, поскольку все участники конфликта, включая А.А., действовали в особой, несопоставимой с естественной системе моральных координат.
...Однако исход борьбы очевидно предрешен в пользу «травителей» Цибарта, и намерения крайних из них самые определенные: добиться его признания «вредителем». Как указывается в обвинительном заключении по делу Цибарта, «материалы» на него начали поступать в 4-й отдел ГУГБ (Главное управление государственной безопасности) НКВД уже с середины 1937-го года. (Текстов этого времени в деле нет, но по завершении «следствия» сохранялось в деле не все. Вероятно, из дела были изъяты многие материалы, включая и доносы и протоколы допросов, относящиеся к бывшим связям Цибарта с расстрелянными белорусскими большевиками.)
Еще с 1936-го года «здорово взяли в работу – Сашу Наугольнова за рекомендацию ["троцкисту"] Хейнману» (Дневник). Тогда А.А. надеется, для своего «спокойствия по службе», что Наугольнов все-таки останется секретарем институтского парткома. В 1937-м парторг Наугольнов волей или неволей возглавляет войну против Цибарта (и симпатии у А.А. уже не вызывает), но самого его «треплют (как он выражается) ... Это в связи с его троцкизмом в 23 году». Дела Наугольнова нехороши: 16 ноября «бюро РК сняло Наугольнова из бюро Райкома и с секретарей Парткома». Впрочем, до исключения из ВКП(б), хотя разговор об этом и был, и ареста не доходит (в 1941-м году А.Ф. Наугольнов в числе преподавателей МММИ, ушедших в народное ополчение).
Характер предъявляемых партийцами взаимных обвинений предполагает расстрел (и эта мера входит в будни), а абсурдность этих обвинений делает ситуацию трагикомичной. Вот отрывок из дневниковой записи А.А. 28 октября 1937 г.: «Сегодня я, исключенный, был у секретаря ЦК Андреева, делал доклад о распределении оканчивающих. ... Кстати разговор с Наугольновым, когда мы вышли от Андреева: "[Наугольнов говорит:] Смотри, ты враг народа, а я террорист и сидели рядом с секретарем ЦК, ведь если бы я (Наугольнов) был террорист, что стоило бы мне его убить". Вот разговорчик секретаря [парт]кома. Я ему ответил: "Какой я враг народа Андреев знает, я ведь ему подал заявление, а что ты террорист он может и не знать, ведь об этом знает только райком"».
Как видим, бывший парттысячник, секретарь парткома МММИ Наугольнов, за десять дней до описанного эпизода голосовавший за исключение Цибарта из партии, не сомневается в том, что ни «врагов народа», ни «террористов» в обычной вне-партийной реальности не существует, и оценивает войну с ними (в которой сам был и нападающим и жертвой) совершенно трезво, как нелепый фарс. Не то директор Цибарт. Ирония Наугольнова приводит А.А. в замешательство и скорее возмущает. Даже нелепости ситуации, когда в райкоме известно, что такой-то, ни больше ни меньше, как террорист, и при этом там не предпринимают никаких мер для безопасности секретаря ЦК, он не замечает. За жизнь Андреева, столь беспечно пустившего в свой кабинет предполагаемого террориста, он и сам при этом нисколько не опасался...
Процесс истребления Сталиным старых большевиков (их в особенности) достиг своего апогея точно в годовщину Октябрьского переворота (десять лет как «Великой Октябрьской Социалистической Революции») – в чем, может быть, не стоит искать других причин, кроме характера психической патологии «вождя», его маниакального коварства и садизма. Это сочетание празднества и смертного страха составляет неповторимую черту 1937-го года, отраженную и в личных дневниках А.А.
Разумеется, не пропускает А.А. празднование 20-летия Октября.
Парторганизация Бауманского вовсю ведет подготовку к празднику. Идет «широкая работа по мобилизации всего коллектива Ин-та на право рапортовать 20-й годовщине Октябрьской революции о новых достижениях Краснознаменного Ин-та» (так значит, эти достижения при Цибарте были? – кто бы сомневался!); на всех потоках и факультетах вывешиваются специальные номера газеты «Ударник»; организуются «общеинститутские вечера, посвященные 20-й годовщине Октября», «в общежитиях вечера самодеятельности»; фотовыставка при парткабинете «отражающая борьбу партии Ленина–Сталина за Октябрь»; решают «оказать активную помощь в подготовке и проведении Октябрьских торжеств в подшефной школе» (т.е. в Радищевке), утверждают «эскиз оформления здания и колонн демонстрантов», в столовой и буфетах постановляют «усилить ассортимент продуктов обеспечив 7/XI и 8/XI всех горячими завтраками и обедами»; предполагаются «экскурсии в музеи и на места Октябрьских боев», «концерт силами квалифицированных артистов», «детский утренник с выдачей подарков», и проч., и проч. Но все это уже без А.А.
«7 ноября. День отдыха. В 8.30 пошел на демонстрацию. Вернулся только в 5 часов...» Вместе с А.Н. Зайцевым «читали статью Сперанского в Известиях о Сталине. Все правильно. Но об этом я говорил Анатолию еще летом, сейчас идет вторая гражданская война». (А.Д. Сперанский – с 1939 г. академик, физиолог; друг Горького, в будущем сторонник Т.Д. Лысенко.) Статья называлась «Наш Сталин».

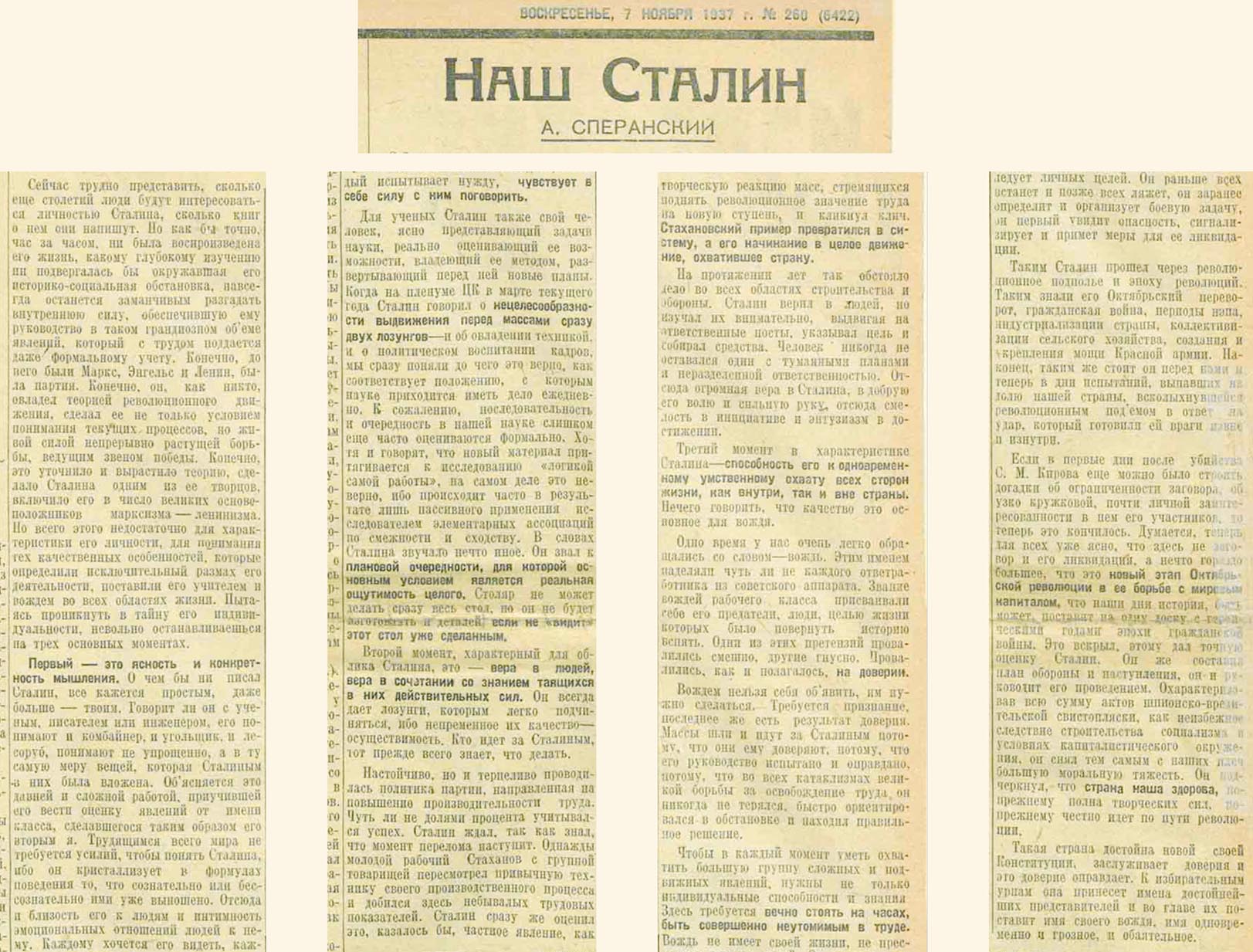
Находит А.А. время и для фильмов: 10 ноября в Деловом клубе (транспортников?) – «Колыбельная». Это неигровой фильм Дзиги Вертова о счастье советских женщин, премьера которого состоялась 1 ноября, и который через 5 дней проката был запрещен. Возможно, то был, как говорится ныне, «закрытый показ».
А.А. все так же верит в революцию, в Сталина, в Природу и свою миссию, в лучший исход. «...Я должен выполнить свою миссию. Я ее выполню природа мне поможет. Миссия – помочь Сталину, помочь человечеству. Я твой. Договор в силе. В 21 году [от Октябрьского переворота] будет перелом к лучшему. Будет» (7 ноября). «Перелом будет я в это твердо верю. Я выйду победителем. Крепче себя в руки. Никому не верить. Не показывай усталости. Смеяться. Не давать радоваться врагам. Миссия великая мне суждена. Договор в силе» (8 ноября; вместо «ноябрь» А.А. машинально пишет революционное «Окт.»). «Первый день работы после праздников. Должен быть перелом. + С утра борьба и целый день. Был у Федорова [директора Горного института]. Просидел с 11 до 1.30. Об'яснил подробно. Он очень любит рассказывать о себе какой он хороший директор. У него надо учиться. Я ему поддакивал. Обещал поехать в Горный институт – поучиться. Встретил Матвеева. ... Беседа с Айзенманом. Звонил в КВШ [Комитет по делам высшей школы] Кириллову. ... Настроение бодрое хорошее. Готов к борьбе. Прир<ода> я твой. Я должен победить. Этот год будет переломным – он принесет мне опять счастье и чудо»...
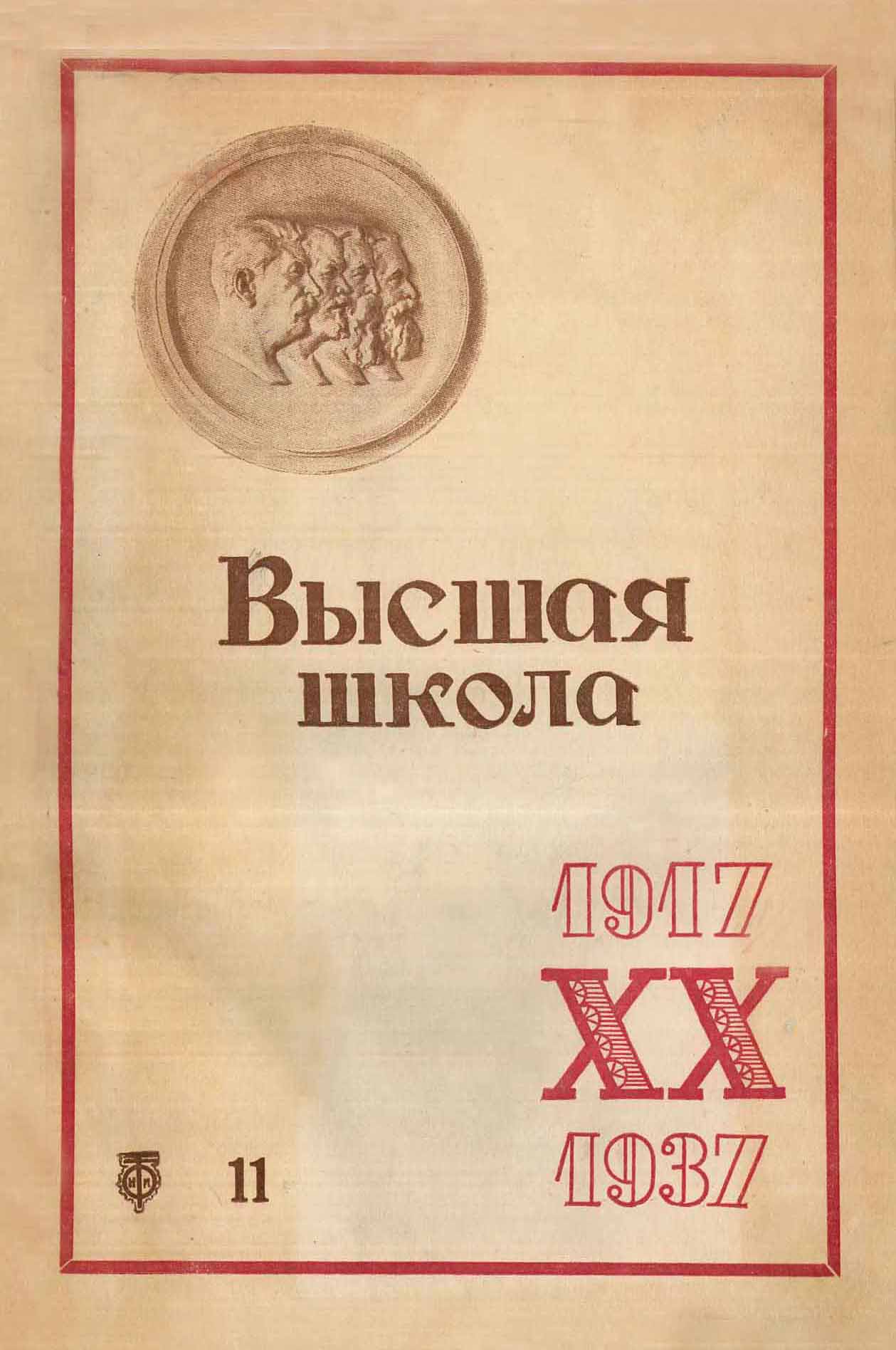
Меж тем в эти же «октябрьские дни», в ноябрьские праздники, партком поручает дежурному по институту в отсутствие директора обыскать его рабочий стол. В нем обнаруживают «Мою борьбу» Гитлера (переведенную в 1933-м году Зиновьевым для распространения в узком кругу номенклатурных работников), и, что оказалось хуже, книгу Каутского – «От демократии к государственном рабству (ответ Троцкому)». Заметки А.А. на полях этой книги перепечатываются, тщательно анализируются и направляются, вместе с отчетом дежурного и заключением секретаря парткома И.Е. Симонова (пришедшего после снятия Наугольнова) в НКВД. Это заключение состояло в том, что «весь строй мыслей развитых Цибартом в своей пометке на 29-й странице целиком совпадает со взглядами Троцкого на диктатуру пролетариата» (об этом чуть подробнее см. в рубрике о следствии по делу Цибарта). В споре Каутского и Троцкого для коммунистов образца 1937-го года не могло быть правого, и другим информатором НКВД Цибарт признается одновременно последователем обоих: «относительно книги, которая Вам сдана я могу сказать, как общую оценку, что мысли, высказанные Цибартом в виде наметки на полях, являются полным подтверждением того, что он стоит на позициях Каутского и Троцкого, т.к. в основном вопросе они сходятся оба. Переписанный текст его записей прилагаю»...
(К сожалению, приложенного к доносу текста следователь не сохранил – в деле НКВД этих записей нет.)
На общеинститутском партсобрании, где будут исключать Цибарта из ВКП(б), молодая коммунистка Субботовская в т.ч. сообщала, что «с тех пор как я пришла в институт т. Цибарт никогда авторитетом среди студентов не пользовался». Конечно, она имела в виду специфическую группу студентов, наследников «пролетаризации».
К 1937-му году в большинстве были уже другие, настоящие учащиеся. И здесь картина иная.
Следующее хотелось бы отметить особо. На всем этом беспросветном фоне сверкает вдруг и нечто по-настоящему отрадное – может быть, в чем-то и самое ценное для этой биографии. А.А. до того нигде раньше об этом не говорит, но – его определенно любят студенты. Это познается в его беде. В обвинения, видимо, они не верят, сочувствуют ему и даже осмеливаются публично, хоть и косвенно, это выражать (!). «Вечером в клубе [имени] Кухмистерова был студенческий вечер. Выбирали президиум. Саша Наугольнов предложил Партком, Профком и Комсом. Из зала трижды кричали: "Цибарта" – он делал вид, что не слышит, но зал заставил его слышать. Вынужден был меня включить в президиум» (2 ноября). «Хороший день. Договор в силе. ... В 3.30 митинг. Выступил Симонов. Очень сухо. Я выступил. Меня встретили студенты громом аплодисментов. Несколько раз аплодировали во время речи. Речь произнес с под'емом...» (13 ноября).
(Митинг 13 ноября 1937 г. был посвящен выборам в Верховный совет СССР 12 декабря, а точнее тому, что по Сталинскому избирательному округу Москвы, как сообщалось, «дал согласие баллотироваться» «вдохновитель и организатор побед социализма, наш родной, любимый, первый кандидат в Верховный Совет, великий Сталин». Митинги по этому поводу проводились и раньше этой даты – например, 11 ноября прошел 125-тысячный митинг на Спартаковской площади в Бауманском районе, неподалеку от МММИ.)

17 ноября «в 11.30 ночи отобрали партбилет».
Намерений «конкретизировать обвинения на каждого из троцкистов», продолжать борьбу А.А. не оставляет. Однако партийные чиновники, видимо будучи трезвее в отношении «троцкизма», не слишком расположены его слушать. Не проявил особого энтузиазма Воинов. «Заинтересовался» Глек [Т. Глек – деятель Комитета по высшей школе], но тут же выдвинул встречное: почему «не ставил вопрос» раньше? «Хотел жить с ними в мире»?.. Чиновник ЦК (будущий министр просвещения РСФСР) И.А. Каиров – назначает час приема, но распоряжается в бюро пропусков, чтобы без партбилета не пропустили. «Теперь они (Наугольнов[ы], Симоновы, Зерновы) которых за 10 верст нельзя подпускать к партии, могут свободно проходить в это святая святых – в ЦК свободно. А я вернейший сын партии – для меня двери заперты»; «Обидно. Горько. ... Почему своих, преданных людей так испытывать»... А.А. идет в Комитет по высшей школе, располагавшийся неподалеку, получает пропуск к знакомому чиновнику (Г. Кириллову) беспрепятственно, звонит из его кабинета Каирову, договаривается о разрешении пройти по паспорту. В ЦК распоряжения на проходной снова нет, опять приходится звонить; в конце концов все-таки попадает на прием. «Пришел. Вижу сидит Каиров, настороженный, злой, как будто я преступник, пришел его убить»...
22 ноября (об этом в дневнике Цибарта записей нет) арестован (и 15 марта 1938 г. будет расстрелян) П.А. Богданов, выпускник ИМТУ, в 1921–1923 гг. председатель ВСНХ РСФСР, тогда активный сторонник НЭПа и в частности трестовской организации производства. А.А. с января 1923 г. работал в системе ВСНХ директором треста...
В эти дни А.А. пытается осмыслить то, во что верует, – идею коммунизма, его грядущее торжество и роль в этом лично Сталина. 23 ноября: «...Наука убила веру. Верно. Но пришла наука (Маркс, Ленин) заменила веру. Обосновала то, что раньше чутьем, верой хотели достигнуть. Вооружила народ. Дала возможность разглядеть волков, притворившихся овцами. Дала в руки бедных – оружие богачей, знания богатых. И вот рождается новый Христос – Ленин, за ним апостол Павел – Сталин. 2 тысячи лет понадобилось для этого. Долой старую веру, долой непротивление злу. Силой победить силу. Наша сила – знания и самосознание себя как класса. / Наша цель та же. Счастливое будущее где "каждому по потребностям, от каждого по способностям". Устроить на земле рай, откуда оно было изгнано по проискам змея – богача, царя, короля. Только сильный достоин победы. Только тот достоин жизни и свободы, кто ежедневно с бою их берет. / "С бою", а не "подставляет другой щеки"»...
26 ноября: «Вечером с Зайцевым был на "Человек с ружьем". Очень сильная и хорошая пьеса».
Что до личной судьбы, А.А. продолжает верить в то (или убеждать себя в том), что «теперь берут только тогда, когда есть веские доказательства». Меж тем каждую ночь в «Доме специалистов» за кем-то приходили, шум лифта, как рассказывала супруга А.А. (и как это точь-в-точь описано у Солженицына), никому не давал заснуть – все вслушивались, на каком этаже он остановится; скоро из всех знакомых соседей А.А. осталась невредимой лишь семья Ойстраха. – Между прочим, с Ойстрахом семья А.А. общалась настолько тесно, что тот даже иногда играл для его гостей.
(Дом с мемориальной доской Ойстраха, находящийся неподалеку, еще только строился.)
...29 ноября: «Я опять выбит из колеи. 1 декабря должен стоять вопрос обо мне на общем собрании. Я беспокоюсь нервничаю. Помоги. Я ведь ни в чем не виноват. Я предан партии. Неужели шайка подлых троцкистов победит? Помоги. Природа».
1 декабря: «... Собрание состоялось в 8 вечера. Делал доклад Симонов. Я давал об'яснен<ия> больше 2 часов. На реплики не отвечал, не давал себя сбить. Люди хотят разобраться. Начинаю верить в массы. Не надо их бояться. Природа. Спасибо + Я твой. За силу, выдержку. Помоги до конца и 4 декабря. Договор в силе».
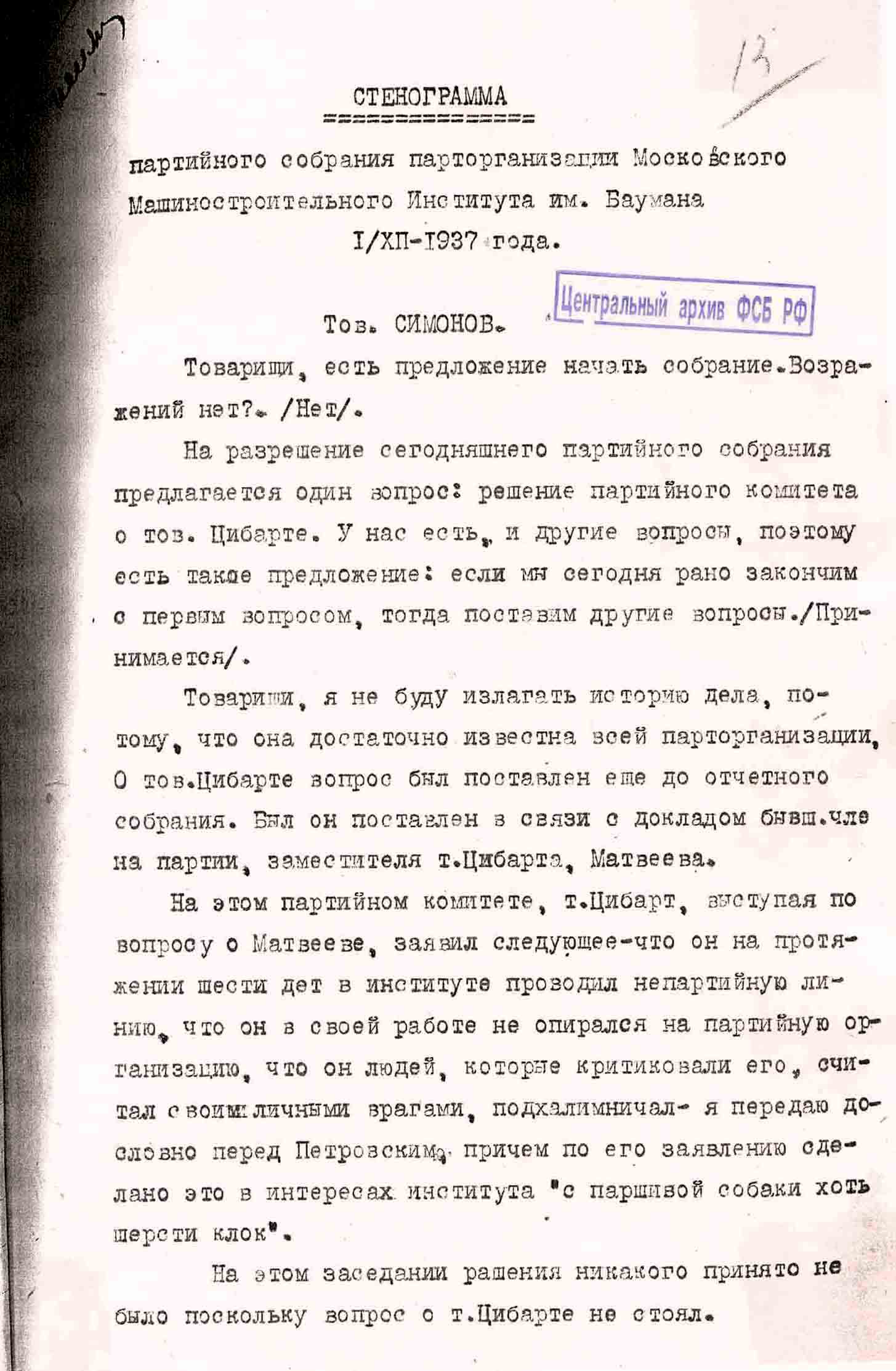
Скрупулезный и документальный разбор Цибартом на партсобрании МММИ 1 декабря всех обстоятельств прекращения строительства нового корпуса МММИ, неудачи с совхозом, разных ремонтов, вообще хозяйственной и учебной работы в МММИ не оставляет, во всяком случае, никакого сомнения в его достоинствах как директора и патриота института. Но, похоже, едва ли не более того А.А. волнует его партийная честь.
«Вы меня все время выбирали в партийный комитет. Райком оказал мне доверие и выдвинул меня на обмен партийных документов, организация рекомендовала, я все время член партийной комиссии. Что произошло со мной? До какой степени падения я дошел, что стал таким человеком, каким рисует эта комиссия, председателем которой назначили этого самого Ховаха, друга-приятеля Зернова, которые ведут вместе одну и ту же линию? В чем дело? Что со мной случилось?.. Неужели я так низко пал, что меня нужно сейчас исключать из партии? Мне нет места в партии? Я стал вредителем! Я законсервировал строительство! По моему предложению Петровский это сделал! Я зарыл фундамент! Совхоз я сознательно развалил! Больше того, оказывается, я сознательно развалил и учебно-производственный процесс, и хозяйство и проч!.. Я и комиссии [Кунявского, Ховаха и др.] говорил: я считаю это шельмованием, потому, что вы не имеете права так заявлять, если авторитетные комиссии, которые сюда приезжали три года подряд, признали наш ВУЗ лучшим в Советском союзе даже в 36-м году за учебно-производственные показатели ... Несмотря на то, что меня исключили, я считаю себя членом партии и дойду до Центрального Комитета и свой партийный билет я не отдам легко Зерновым и сумею доказать, кто из нас член партии и кто не член партии...»
Важное место из стенограммы партсобрания 1 декабря – оно касается упоминавшейся выше «связи с Червяковым». Директорские будни 1930-х гг. так занимательны своей узнаваемостью для нас нынешних, притом что текут эти будни на ирреальном, жутком и одновременно действительном фоне казней и лагерей, грозивших любому из участников институтских дискуссий. – «Меня обвиняют в том, что я был знаком с Червяковым. Верно, товарищи, я давно работаю и был знаком со многими. Вы учтите, что я был членом Правительства Белоруссии, был членом ЦК [прав. ЦИК] Белоруссии, а Червяков был председателем ЦИК Белоруссии. Должен я был знать его. Должен и обязан. Червяков был большой человек, а я простой директор ВУЗ'а. Червяков – председатель ЦИК'а [сопредседатель ЦИК СССР] – ему нужно устроить своих детей в ВУЗ. Он приезжает сюда. Разыскал меня, приезжает на двух машинах ко мне на дачу. "Помоги устроить детей". Я считал своим долгом помочь ему устроить его детей в институт. У нас учились раньше дети Калинина, сейчас учится сын [А.А.] Андреева...
/Забродский: почему вы ставите их рядом/.
Я не ставлю их рядом. Я прошу меня не понимать так, как не нужно. Я говорю, что Червяков был председателем ЦИК'а, ему надо было устроить детей. Он знает меня по Белоруссии, и он попросил меня. Я прикрепил к ним преподавателя, они стали заниматься и поступили на курс. Плохо они занимались. Он приезжал еще раз, просил меня помочь им – я помог. Я не знал, кто он. И с 1924 года по 34 год он не знал меня, не вспоминал меня, а когда ему нужно было устроить детей, он вспомнил, что есть Краснознаменный институт в Москве, лучший в Советском Союзе...»
Долг платежом красен, но... «Чем помогал Червяков строительству института. Ничем не помогал, хотя мы писали ему после того, как он здесь делал доклад, чтобы он, как председатель ЦИК'а, попросил бы ВСНХ помочь насчет строительства. Но из этого дела ничего не вышло. Письмо такое ему было послано, но никаких результатов от этого письма не было»...
|
(Дочь А.Г. Червякова Софья была исключена из комсомола и отчислена из МММИ на 2-м курсе. Кое-что о судьбе семьи Червякова, в частности его супруги, которую А.А. также знал лично, а также пересказ устных воспоминаний Софьи Александровны – можно найти в интервью Р. Горбачева с ее сыном, см. Источники. Кем был второй /вторая/ из упоминаемых детей Червякова, неизвестно.) |
Характерная деталь, рисующая тогдашнюю обстановку. При том, что национализма как такового в партруководстве не было еще и тени, «пролетарский интернационализм» в советском менталитете уступает место маниакальной подозрительности по отношению ко всему связанному с заграницей. Дело касается немецкого рабочего-коммуниста, эмигрировавшего в СССР. Впрочем, за три месяца до описываемого партсобрания он был исключен из ВКП(б) «за тесную связь с троцкистом его приемным сыном и поддержку его до последнего времени несмотря на то, что он арестован органами НКВД». – «Репке. Немецкий рабочий, который работал у нас в лаборатории. Просто не понимаю... Я владею немецким языком, вы это знаете. В 1935 году я получил путевку в санаторий "Светлана" на юг. Прихожу оформляться. До меня стоит человек, который ничего не понимает – его спрашивают имя, отчество, фамилию, а те, кто пишут, не понимают тоже по немецки. Спрашивают – нет ли кого нибудь, кто понимает по немецки, чтобы перевести. Я стал переводить, они заполнили анкету. Он член партии с 20 года, немецкий эмигрант. Мне сказали: так как он немецкий коммунист и не понимает по русски, давайте поселим вас в одну комнату, чтобы вы ему показали Сочи, и он мог ориентироваться. Ладно, давайте. Прожил я с ним один месяц. Он старый, довольно пожилой.
Потом приходит он ко мне и об'являет: "мне трудно тут работать. Нельзя ли мне на какую нибудь хозяйственную работу, более легкую". Назначил его зав. Домом отдыха. Но увидел, что он не может работать – снял его.
После этого он стал работать на военном заводе. Потом стали снимать всех иностранцев с военных заводов – на меня идет нажим, чтобы я опять взял его к себе. Я его не беру, потому что я увидел, какой он хозяйственник. Рекомендует его секретарь Мытищенского райкома Полещук – спросите его. Нажимали, требовали, тем не менее я его не взял.
Прошел еще год. Опять нажим – уже из МК, из иностранной секции: берите его простым рабочим, резервником, он имеет право на труд, иностранцы могут работать, но только не на военных заводах. Вызвал меня Ром. – Есть у вас место простого рабочего. Возьмите его. – Есть.
Взял. Сейчас все это мне приписывается, что я с ним как-то идейно связан»...
|
(Карл Августович Репке – р. 1882, Штаргард, Германия. Член КПГ с 1920 г., эмигрировал в СССР в 1931 г. и вступил в ВКП(б) в 1932 г. Его приемный сын Хорна, приехавший вслед за К. Репке в СССР, был на момент ареста зам. редактора газеты «Путь Ленина» в Днепропетровске, в июле 1937 года Хорна «за протаскивание троцкизма», а также за связь с заграницей был исключен из партии и в августе арестован. В сентябре 1937-го на парткоме МММИ обсуждается исключение К. Репке из партии, протокол фиксирует следующее. «Мать Хорна живет в Германии и получает пенсию от фашистского правительства. Хорна с ней переписывается и несколько месяцев назад послал ей посылку. / РЕПКЕ глубоко убежден, что Хорна не троцкист и что исключение из партии и арест является результатом склоки и клеветы и он уверен, что по окончании следствия он будет освобожден. Если следствие докажет, что он троцкист, тов. Репке готов публично отмежеваться от него. Репке имеет связь с неким Божаном, живущим в квартире, где жил Репке, по словам Репке Божан коммунист, где сидел в тюрьме, сейчас безработный и живет на пенсии, выдаваемой ему фашистским правительством. / На вопросы почему Гитлярское [так в тексте] правительство платит пенсию матери уехавшего в СССР коммуниста и безработному коммунисту, сидевшему в тюрьме, Репке отвечает, что мы себе неясно представляем условия жизни в Германии, что по безработице и старости в Германии кое кому платят пенсию.» В результате отметили, что К. Репке «для партии никакой ценности не представляет», и постановили: «Репке, члена партии с 1932 года за тесную связь с троцкистом его приемным сыном и поддержку его до последнего времени несмотря на то, что он арестован органами НКВД из партии ИСКЛЮЧИТЬ». В феврале 1938 г. К. Репке арестован, приговорен к 8-ми годам заключения.) |
То, что А.А. возлагает надежды на 4-е декабря, второй день общего институтского партсобрания, говорит лишь о его наивном оптимизме. Из 24-х выступавших в прениях ни один не высказался в его защиту, и лишь друг и «оруженосец» Цибарта Зайцев прямо, а друзья Цибарта Айзенман и Шевяков уклончиво, возразили против определения «вредитель». За исключение А.А. из ВКП(б) голосовали все при одном воздержавшемся.
За скобками всех обвинительных речей в прениях стояло то, что никакие документы, представляемые Цибартом в свою защиту (после предъявления ему «Выводов комиссии» Кунявского – Ховаха и др.), не являются оправданием в принципе. Видимо, документы оказались слишком убедительными. Раз так, «надо читать документы, как коммунисту» (учит бывший парторг Кунявский). «Что я считаю главным? Цибарта обвиняли и на партийном комитете, и обвиняем сейчас вовсе не за то, что у него мало или недостаточно исписано бумаги, и что не везде проставлены подписи и печати. И напрасно ты думаешь, что этими бумагами можно забаррикадироваться. А за то, что он, в лучшем случае, является об"ективным пособником врагам в их вредительской работе, которую они здесь, в институте, на протяжении целого ряда лет проводили. Известно, что есть два рода документов. Один их них тот, что ты продемонстрировал собранию. Исписанные пачки бумаг. А другой вид документов – жизнь, живые факты и живые люди. О втором-то документе ты соизволил умолчать и ничего не сказать...» (Зернов), и т.д. Само наличие преступления сомнению не подлежит: поскольку начальник учебных заведений Петровский – враг народа, то в головном втузе, Краснознаменном МММИ, необходимо «вскрыть» вредительство, а «проводить вредительскую работу» в нем должен был, естественно, непосредственный подчиненный Петровского и к тому же «подхалим», вывесивший портрет Петровского в своем кабинете, директор Цибарт. Состав преступления в этом плане ясен – в МММИ все должно быть плохо. Пускай в «октябрьские дни», меньше чем за месяц до партсобрания, МММИ в лице того же парткома рапортует партии о своих новых успехах и достижениях, – одно другому не мешает. Все полученные при Цибарте знаки официального признания МММИ попросту игнорируются: вредители, как учил Сталин на февральско-мартовском пленуме, и должны «время от времени показывать успехи в своей работе». Это скорее улика. Противники Цибарта вспоминают не о том, что МММИ два раза получал знамя в соцсоревновании, не о том, что институт получил орден, – а о том, что «знамя отобрали», и т.д. «Можно говорить так, что "я руковожу хорошо, но работа выходит плохо". Смотря как подходить. С точки зрения Цибарта, об"ективный подход такой, что каждому надо встать на место Цибарта, и тогда ни в одном вопросе не разберешься. Не может же быть, чтобы Цибарт хорошо руководил всей работой, а работа была плохая?» (Кунявский). Личный мотив преступления Цибарта объясняется его «связью с заграницей», т.е. родственниками в Польше. «Разве случайно, что у нас взяты Лотоцкий, Говенчик, Лунц? И все они польские шпионы» (Зернов). Кроме того, немец Цибарт видимо поклонник Гитлера. «Вы мне подробно рассказали содержание книги "Моя борьба". Я думаю, что не читая, нельзя ее рассказать. Вы мне рассказали биографию Гитлера. Я спрашиваю: / – Откуда ты все знаешь, т. Цибарт? / Он говорит: нам, большим работникам, дают читать. / Я заинтересовался этим делом. Видя мою заинтересованность, Цибарт говорит: / – О это Андрей интересные вопросы. Ты бы собрал актив свой, я бы рассказал об этих делах. / Цибарт не хочет руководить кружком, а вот рассказывать биографию Гитлера он найдет время. / Я думаю, что т. Цибарт не откажется от этого, если он честный человек...» (Головинцев). Припоминаются Цибарту также его давние белорусские связи с только что разоблаченными «врагами народа» – крупнейшими советскими деятелями А.Г. Червяковым и В.Г. Кнориным. Что конкретно оказалось в институте, по мнению партсобрания, плодом «вредительства»? Во-первых, не состоявшееся строительство нового корпуса. Строительство отменил НКТП, приказы исходили от ведомства Петровского. Если же, как к тому упорно клонят прокурор-диаматчик Розендорн, доцент Зернов и почти все другие выступавшие, Цибарт с Петровским «вредили» вместе, то и любые подтверждающие инициативу НКТП документы уже не только не имеют значения, но сами по себе становятся подозрительны. Переписка на эту тему Цибарта с ГУУЗ – их прямой сговор: «[Цибарт Петровскому:] обманите официально» (Кунявский) и т.д. Интересно, что сразу после ареста Цибарта заморочивший сам себя партком даже обратится в очищенный от «врагов народа» НКТП с просьбой о возобновлении строительства, но эту просьбу не удовлетворят... Во-вторых, беспроигрышный пункт обвинения: хозяйство. С одной стороны, хозяйство в МММИ было в числе лучших в Союзе, с другой, само собой разумеется, оно отнюдь не было идеальным, поскольку зависело это далеко не только от его хозяйственников. Разыгрывается этот пункт примерно в таком ключе: «Цибарт говорил: видите ли для того, чтобы покрыть крышу одной нашей лаборатории, нужны были лимиты на железо. Тов. Цибарт выступал с таким заявлением и на отчетно-выборном партийном собрании. Я тогда заявил, что это клевета на Советскую власть, это грязный пасквиль. С каких это пор Советская власть отказывает институту в тонне железа, тогда когда превращается в негодность дорогое оборудование? ... Он безусловно плохой член партии, не понимающий ни стиля работы, ни души работы» (Шевяков). В третьих, «учебно-производственный процесс». Программы и учебные планы, которые в 1934-м году были впервые разработаны в основном в МММИ в качестве образцовых для всех машиностроительных втузов страны, к 1937-му году оказываются прямо вредительскими. И это несмотря на то, что с того же 1934-го года в МММИ действует реальный ученый совет, где в разработке и совершенствовании программ участвуют настоящие ученые института, главным образом авторитетнейший И.И. Куколевский. Но для преподавателей из «партийно-пролетарской аспирантуры» этот ученый совет – «говорильня» (Чутуев, Ховах)... Систематический вред учебному процессу напрямую исходил от высшего руководства, но его самым наивным (или бессовестным) образом приписывают Цибарту. Так, Зернов обвиняет директора в 50% неудов, полученных студентами после категорического запрета ЦК ВКП(б) и СНК 23 июня 1936 г. семинарских занятий (об этом эпизоде рассказывалось в рубрике «События и успехи 1936 – 1937 гг.»). Винят Цибарта и в недогрузке студентов на последних курсах, притом что тем же постановлением 1936-го года были введены по одному свободному дню в шестидневку для студентов III и IV и по два свободных дня для студентов V-х курсов. «Теперь, когда мы имеем перед собой решения февральско-мартовского Пленума ЦК партии, имеем целый ряд статей по указанию товарища Сталина, о том, как работают враги, мне лично товарищи, все эти недостатки кажутся несколько в ином свете. Возьмите учебную программу. Перегруз на первых двух курсах и соответствующий недогруз на последующих двух курсах. Это можно истолковать просто неумением работать. А мне кажется, это делается с явной целью снизить качество выпускаемых специалистов» (Головинцев)... Еще одна сквозная тема, без знания обстоятельств которой нельзя понять диалогов этого партсобрания. И Цибарт и его оппоненты верят (лучше сказать, условно верят) в существование в институте некой «троцкистской группы» «вредителей», отношение которой к предполагаемым агентам Петровского не проясняется. Эту группу должен был возглавлять арестованный в июле 1937 года М.Г. Кривин, бывший парторгом МММИ в 1931-м году. Как Цибарт (увы), так и его обвинители после ареста Кривина активно записывают в эту «группу троцкистов» друг друга. У Цибарта тут значительно более веские аргументы: действительно, когда Кривин в качестве парторга боролся в институте с «реакционной профессурой» (лучшими учеными), Цибарт был его противником, «правым оппортунистом», и чуть не лишился должности, а люди из стана нынешних обвинителей Цибарта были его сторонниками (Зернов – его заместителем в парткоме). В 1937-м году доценты Зернов и Ховах даже продвигают Кривина, тогда члена ЦК Совконтроля, на место Цибарта. Однако, поскольку судьба Цибарта была очевидно предрешена «сверху», то и «связь с врагом народа Кривиным» припишут именно Цибарту.
Многие важные места из этих выступлений цитировались в разных частях это очерка, поэтому подробно излагать ход прений здесь не будем. Добавим лишь еще несколько цитат. Ярым обвинителем, приписывающим Цибарту грозящее расстрелом «вредительство», был доцент кафедры марксизма-ленинизма и бывший прокурор Э.Ф. Розендорн, незадолго до описываемых событий приглашенный в институт. Цибарт, замечает он, охотно признается в подхалимстве перед врагом народа Петровским, но «не имеет ли место в данном случае со стороны Цибарта случая применения того метода, которым, как показали вредительские действия и целый ряд процессов, которые прошли в нашей стране – не имеет ли место случай такого метода, когда принимают на себя вредители часть вины с тем, чтобы уйти от ответственности с тем, чтобы в этом добровольном самообвинении найти громоотвод от тех обвинений, которые совершали в целом». Резюме его речи менее глубокомысленно, зато вполне определенно: «лично я по моему глубокому убеждению могу утверждать, что Цибарт вредитель». На этом фоне слегка меркнет даже Зернов. Тему недостатка часов на идеологические предметы развивает тов. Мамиконян. «Вопрос о часах. На ленинизм – 48 часов. На описательный курс паровозов – 115 часов. Как это сравнить? На описательный курс паровозов можно было дать 35-40 часов. Где тут руководство?» – Ленинизм во втузе важнее паровозов... Друг Цибарта Шевяков (кроме уже цитированного): «Цибарт представляет из себя безвольного, безхребетного человека, неспособного оправдать доверие партии». Это, все же, еще не «вредитель». Тов. Пучков, между прочим, подвергает сомнению объективность комиссии, расследовавшей деятельность Цибарта в институте и не коснувшейся его связей с белорусскими большевиками, его польского происхождения и пр.: «туда входил Ховах – он сам является политически подмоченным – брат его враг народа». Выступление «политически подмоченного», а может быть потрясенного произошедшим в его собственной семье Ховаха, что примечательно, выглядит чуть ли не оправдательным. «Безусловно враги народа в нашем институте есть, и я уверен, что недалек час, когда этот узел выкорчуется. Я уверен, что институт будет работать хорошо, и надо полагать, что Цибарт должен будет сделать из этого выводы.» Тов. Дюков, во всяком случае не противник Цибарта, припоминает Цибарту недостаток почтения в институте к партийной молодежи (см. выше). Содержит речь Дюкова и ценное указание для исследователя истории МММИ. Обвиняя Зернова и секретаря парткома Симонова в том, что те подавали недавно разоблаченного Кривина как «алмазного большевика», он, в ответ на реплику Симонова «ты это слышал? Ведь есть стенограмма» – говорит следующее: «а насчет стенограмм есть выступление Погребного о том, что у нас стенограммы изуродовали, и о том, что этот материал уничтожался». Возможно, эти слова и стоили ему в дальнейшем членства в партии. Снова поминают Цибарту «колебания и сомнения 29 года» (т.е. в 30-м году касаемо коллективизации он был прав, но «колебался»-то он в 1929-м); оправдавшиеся подозрения в связи с его «очень неподходящей фамилией»; то, что говорил на собраниях лишь по делу и «не разоблачил ни одного врага»... А.Н. Зайцеву, как признанному «оруженосцу Цибарта», приходится много оправдываться самому. Кстати, упоминаются хлопоты о строительстве для института перед устроившим в институт детей врагом народа – сопредседателем ЦИК СССР. «В отношении моей поездки к Червякову. Я ездил на квартиру к Червякову. С чем ездил. С запиской о строительстве. /С места: в 12 часов ночи?/ Сейчас не помню, но поздно ездил. Это было потому, что Червяков заявил, что он уезжает в Минск. Сейчас же этот документ напечатали, и я его свез. Я читал этот документ. Речь шла о законсервировании нашего строительства, о том, что ГУУЗ не дает денег на строительство.» Зайцев отводит от Цибарта обвинение во вредительстве: «и сам т. Цибарт понимает – безусловно понимать должен – что подхалимничая перед Петровским, проявляя политическую слепоту при наличии того, что он был 20 лет в партии, он заслуживает тяжелого наказания. Но вместе с тем я считаю, что когда здесь люди просто так дают этикетку "вредитель" и ничем не доказывают это, я считаю это неправильным». Выступление Зайцева, хоть это и трудно сейчас почувствовать – необыкновенно смелое. Айзенман, друг Цибарта. «У тов. Цибарта один из крупнейших недостатков – это слепое, безоговорочное повиновение вышестоящим организациям, без критического анализа». Фактически это оправдание: присутствовавшим, конечно, было слишком хорошо известно, что «критический анализ» высоких распоряжений означал бы «уклон». |
Последнее слово Цибарта.
«...Относительно коллективизации и колебаний. Просто поглядел человек в потолок, и выдумал. Справка. Когда была коллективизация в 30 году, я был членом Московской Контрольной комиссии и был послан в совхоз в связи с организацией МТС. Был в Тульской губернии, в деревне Дроково. Работал по посевной кампании. Это просто выдумано, что у меня были колебания по коллективизации. Именно после 30 года меня посылали на это дело.
Второе – относительно книги Гитлера. Откуда и почему Головинцеву это надо выдумывать? Был разговор о том, что я смотрел книгу Гитлера и читал некоторые места. И как раз Головинцеву, как комсомольцу правильно, партийно об'яснял это дело, как они мерзавцы ставят этот вопрос. Так Головинцев здесь выступает и говорит, что Цибарт говорил, что надо эту книгу распространять среди молодежи.
Я думаю, что правда в нашей партии все-таки возьмет верх. И кто тут работает в институте и кто проводит подлинно вредную работу, это выявится...»
Формулировку обоснования исключения Цибарта приняли не вполне единодушно, 168-ю голосами. Кому-то, видимо, она показалась слишком мягкой, кому-то – слишком суровой. В «Ударнике» от 13 января 1938 г. (см.) напишут: «8 месяцев потребовалось для того, чтобы партком исключил врага из партии, да и то с такой формулировкой, которая еще раз подтверждала гнилой либерализм парткома. Партийное собрание очень резко исправило эту каучуковую и беззубую формулировку по отношению к врагу народа». Вот эта новая формулировка общего партсобрания, правда, до корректировки его президиумом (если она была сделана): «за связь с врагами народа Петровским и Червяковым, за засоренность аппарата, за вредительство в учебном процессе и за связь с за-границей».
187 голосов за исключение, воздержался один (А.Н. Зайцев?).
Стенограммы обеих частей партсобрания, в первых машинописных экземплярах, можно найти в следственном деле Цибарта в ЦА ФСБ (см. полный текст на сайте). Еще два экземпляра этих стенограмм – в ЦГАМ. Также дублируются материалы комиссии Кунявского – Ховаха.
...Дневниковая запись 5 декабря: «Тяжелые дни. Очень тяжелое общее собрание меня исключило. А я все таки верю в победу. Правда должна победить. Договор в силе полностью. Природа я твой»...
Между тем, 4 декабря в «секретно-политическом» отделе ГУГБ НКВД уже подготовлена, и проходит какие-то внутренние согласования, «справка» на арест...
6 ноября 1937 г., в дополнение к отчету о предыдущем дне, 5 ноября – весьма примечательный эпизод. Он связан с не раз упоминавшимся выше другом А.А. с гомельского периода Захаром Владимировичем Малинковичем (в адресной книге ошибочно – Маленковичем; в 1935 – ноябре 1937 гг. нач. Главного управления бумажной промышленности западных районов, при Наркомате лесной промышленности).
|
Весьма характерна и в той же мере удивительна история жизни этого советского хозяйственного деятеля. Приведем полностью его краткую автобиографию из личного дела в Министерстве бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР (РГАЭ, ф. 8513, оп. 2, ед. хр. 4107, л. 4, 4об). Автобиография Эта автобиография составлялась по случаю назначения Малинковича на должность исп. обязанности главного редактора Наркомата целлюлозной и бумажной промышленности СССР, в которые входило руководство журналом «Бумажная промышленность» и другими изданиями. В 1941-м году Малинкович, несмотря на парализованную руку, ушел в ополчение, а в 1942-м году погиб (л. 1). Об этом ниже, по другим источникам, расскажем немного подробнее. Любопытная информация: упомянутая в автобиографии (также и в дневнике Цибарта) «дочь школьница» Захара Владимировича – Инесса Малинкович (1928, Москва – 1992, Иерусалим) – впоследствии филолог, учитель, автор многих произведений, которых никогда не публиковала, близкий друг и корреспондент Ариадны Эфрон. К настоящему времени издана ее книга «Судьба старинной легенды». В главе, посвященной «Крысолову» Цветаевой, дочь классического большевика И. Малинкович – и вот типичный случай смены поколений в большевистских семьях – рассуждает в т.ч. о крысобольшевиках... («Лирическая сатира» Цветаевой, поэма «Крысолов» создана ей по мотивам предания о крысах, заполонивших некий благополучный город, и в конце концов уведенных из него и утопленных мифическим Крысоловом с его завораживающей крыс флейтой. В главе «Напасть» автор отождествляет большевистскую революцию с нашествием этих сказочных крыс. Самих слов большевик, большевизм или даже революция в поэме Цветаевой нет, но Малинкович все называет по именам. – «...Крысья напасть стала [в поэме] символом революции, и сами крысы превратились в революционеров-большевиков.» «Флейта соблазняет крысобольшевиков тем, что апеллирует к их лучшей, идеальной стороне. Крысы еще полны революционного романтизма и верят в миф о мировой революции. Этот миф их и губит.» «Мы сочувствуем героическим порывам и героическому пафосу крысобольшевиков, но видим в их гибели неотвратимый результат их собственных иллюзий и провокаций Флейты, спекулирующей на мифе революции.» «"Увод" [последняя глава "Крысолова"] предсказал в символической форме жуткую судьбу мужа Цветаевой, мученическую жизнь их дочери и гибель, физическую и духовную, сотен тысяч доверчивых идеалистов, поверивших Красному Крысолову.» – Сама Малинкович, в целом признавая за большевиками «идеализм», все же находит представления об этом Цветаевой не вполне реалистичными: «...большевистский эксперимент в России погиб не от избытка идеализма /хотя крах ожидаемой мировой революции нанес коммунистам удар, от которого они так и не оправились/».) |
Итак, в этот, шестой (выходной) день шестидневки, А.А. приглашен Малинковичем в гости. «Рассказал ему все про себя откровенно. Как меня травят, как троцкистская сволочь хочет меня выжить. Он внимательно слушал. Принял участие. Я ему рассказал почему я с ним не поддерживал телефонной связи до сих пор. Не хотел отягощать его положения тем, что я исключен.» – Тяжесть положения самого Малинковича состояла в том, что брат его жены, Иды Аркадьевны (1901–1975), Яков Ардашников (кстати урожденный гомельчанин), с которым Малинкович вероятнее всего имел и деловые отношения, в октябре того же года был арестован (согласно данным Мемориала*, 8 января 1938 г. расстрелян). – К смущению А.А., в ответ Малинкович разразился совершенно криминальными, т.е. правдивыми речами об уничтожении Сталиным старых большевистских кадров. «Черт его знает, что это такое. Кто он?» – недоумевает А.А. – «...Он мне рассказывает, что такой то арестован, такой то тоже. Маргулис – идеальный большевик, Бубнов, Хатаевич, Вегер, Кубяк, Румянцев, одним словом все секретари крайкомов и губкомов кроме 5-6. Наркомы (тоже и [бывший начальник Малинковича, наркомлес в 1936–1937 гг.] [В.И.] Иванов) сидят и прочее. Одним словом вопрос ставится прямо – арестовываются и расстреливаются (Кнорин, Гикало, Рудзутак) потому что они старые кадры. Участники октябрьского переворота. Оснований нет. Не может быть, чтобы все были преда<телями> (упирает на Кнорина и Маргулиса). Тут что-то не то. Идет расправа. Надо и нам бояться. Сталин расправляется со всеми своими ближайшими соратниками (я его сразу понял – делай аналогию с Гитлером – и расправой с Реммом [Röhm'ом]!) Пускает и в меня яд...»
Ассоциации с «ночью длинных ножей» 30 июня 1934 года избежать невозможно, да и сам Сталин, как известно, до той поры не практиковавший расстрелов ленинских кадров, глубоко воспринял этот опыт.
Для террора не существует вопроса «за что», вместо него – «зачем», – но в случае Сталина загадку часто представляет и последнее. У Малинковича своя версия. Он называет одну из главных задач сталинских расстрельных кампаний, как ее видит: «арестовываются и расстреливаются ... потому что они старые кадры, участники октябрьского переворота». Именно так – «потому что». Самая простая, бытовая версия разгадки действий Сталина и есть, вероятно, правильная и исчерпывающая: она целиком в области психиатрии. Так и должна была проявляться мания величия, и в юбилейную дату она должна была о себе заявить острее всего. 1937-й год – последний, когда употреблялось еще слово «вожди»: вождь у партии может быть лишь один, в эпоху после Ленина это Сталин. Живых «вождей», пусть и давно превратившихся в готовых ради него на все прислужников, но с которыми приходилось делить славу создателей советского государства, бывшему «Кобе» (а то и «товарищу Картотекову» или даже «Гуталину», но Сталин уже не признавал и «Кобы») – живых «вождей» Сталину, одному и далеко не самому яркому из них, терпеть стало невыносимо. И вот наконец лучшее время для долго вынашиваемой мести настает – в святую для большевиков годовщину главный большевик Сталин приступает к их массовому опорочиванию и уничтожению. Просто снять любого из «вождей» с ключевых политических постов, отправить заведовать кремлевским общепитом, курортами или каким-нибудь сахаротрестом, запретить всякое их упоминание и т.д. было, конечно, мало. Их надо было вычеркнуть из истории революции, да так, чтобы на месте их прославленных имен зияла даже не пустота, а преисподняя – объявить «врагами народа» (примерно как рода человеческого) и, по характеру вождя, стереть с лица земли, физически уничтожить. Разумеется, десяток-другой собственно «вождей» с их «заговорами» и «антисоветскими организациями» – это лишь знаковые имена более широкой цели террора, – их участь должна была разделить армия всех сколько-нибудь заметных «старых кадров», их предполагаемых сторонников.
Та рациональная версия причин избиения Сталиным старых большевиков, которой придерживался в частности Цибарт (см. об этом в следующей рубрике), что Сталину в каких-то высших целях понадобилось сменить старые кадры, мало что объясняет: сменить кого угодно Сталину уже не представляло труда, для этого не было никакой необходимости казнить и предавать устраняемых анафеме, заодно превращая в дырявое решето сакральную большевистскую мифологию – историю ВКП(б). Напротив, думается, что внушительный и несомненный пантеон непогрешимых вождей-полубогов, где абсолютными богами были бы последовательно Ленин и Сталин, и мифическая картина непрерывной героической поступи пролетариата под их былым руководством послужили бы молодой советской теократии много лучше, чем их непрерывные «разоблачения» и всеобщий животный страх... Впрочем, деятелям, подобным Сталину, такие вещи виднее.
...В споре с Малинковичем, А.А. находит множество аргументов в пользу происходящего, в т.ч.: «А что мы, отдельные лица по сравнению с ценою, которую преследует Сталин. Ведь мы за это в свое время жертвовали головами и наши головы могли пасть под случайной пулей врага или иногда друга по подозрению. Тогда ничего. А теперь, какая разница. Весь вопрос в том, верю ли я или нет тому, что Сталин ведет к счастливой жизни к коммунизму – к цели. Если я этому верю, убежден, то если даже я погибну в это время от его руки в горячке теперешнего момента, разве можно обижаться. Ведь дело то в надежных руках. Я верю Сталину...» «Мне говорят "а что будет с нашими детьми?" Я ему в ответ "а что ты был Захар – простой столяр; чем была бы твоя дочка? Как и где бы она жила? А моя дочка? Забылись мы, стали барами, дворянами"...» и т.д.
Эти записи дневника А.А. в скором будущем хоть и не спасут, но, видимо, послужат смягчению его участи.
Здесь нельзя не заметить, что Малинкович, несмотря на то, что отчет о его словах всего через месяц окажется, вместе с хозяином дневника, в руках НКВД, арестован не был. На сайте ОБД–Мемориал и в других источниках можно найти следующие сведения о судьбе Захара Владимировича Малинковича, уроженце гор. Речица Гомельской обл., 1897 г.р.: в 1941 г. (вероятно в сентябре) был призван Московским горвоенкоматом в 33-ю действующую армию, состоял в распоряжении Главного Полит. Управления Красной Армии, батальонный комиссар; пропал без вести в апреле 1942 года (приказ об исключении из списков датирован 20 ноября 1945 г.). Можно найти и более подробные сведения о его гибели: «Батальонный комиссар Захар Малинкович застрелился в окружении во время боёв на Северном Кавказе в 1942 году» (см. в интернете: Альберт Каганович. Евреи Речицы и война).
Более чем вероятно, Малинкович, провоцируя А.А. на откровенность, выполнял задание НКВД (в анкете Малинковича о работе в НКВД не упоминается). Но возникает предположение – не был ли А.А. им предупрежден? Случайно ли А.А. оставил в дневнике столь важный для своего оправдания отчет?..
...7 декабря: «Сегодня еще раз подтверждаю следующие уроки испытаний и клятву на будущее. 1. Прямота и честность везде и во всем. Не лавировать, не примиряться, не подделываться не итти на компромиссы ради временного мира и спокойствия. 2. Настойчивость и твердость в решениях, чего бы это ни стоило. Итти напролом Я твой [Природа]...»
9 декабря А.А. подает заявление Ежову (содержание в дневнике не конкретизируется), 10-го – Кагановичу («я верю, что он чуткий, отзывчивый товарищ, поможет, разберется. Я силен внутренне. За мной правда. Я ни в чем перед партией не виноват. Я всегда честно, преданно жил и боролся. Ведь так как я понимаю Сталина, понимаю шестым чувством, никто не понимает...»).
Набрасывает в дневнике «теплое письмо» Сталину. «Решаюсь писать Вам. Знаю, что Вы очень заняты. Мне говорили, что длинных писем не читаете. Есть дела поважнее моих. Много раз порывался писать Вам простое товарищеское дружеское письмо. Вы многого не можете знать что делается внизу, как выполняют Ваши директивы. Это естественно, неизбежно. Я понимаю, много раз продумал что делается кругом. Ведь лучшие друзья, близкие товарищи предали наши интересы. Круг действительно преданных старых друзей, соратников сокращается. Каждый день слышал о новых и новых людях из высшего руководства, которым Вы так много сделали, доверяли и они оказывались врагами. Кому же верить, Иосиф Виссарионович...»
Все же в том, что «лучшие друзья, близкие товарищи» и «ближайшие соратники» поголовно «оказываются врагами», А.А. явно чувствует замысел самого Сталина, который требуется понять и оправдать. То есть «врагами» друзья и соратники становятся безо всякой своей вины перед партией, и нужно лишь разглядеть ту цель, с которой Сталин их устраняет; кстати, в том, что за репрессиями стоит именно Сталин («погибну ... от его руки»), А.А. нимало не сомневается. План великого кормчего, догадывается А.А., состоит в следующем. Счастье, что природа дала двух гениев подряд – Ленина и Сталина, ведущих «корабль» к коммунизму, но третьего такого гения может и не быть, и «доверить слепому случаю» тут нельзя. «Старые кадры вряд ли годятся.» И вот – «Вы [Сталин] пошли на то, на что ни один смертн<ый> в <истории> никогда не пытался пойти. Вы какой то сверхчеловек». (Действительно, столь масштабное и систематичное истребление верных людей – это за гранью добра и зла, прямо по Ницше.) «Зачем ждать, что будет после нас, куда случай вывезет»; «отсюда – ускорить процесс продв<ижения> молодежи». Новое поколение придет неизбежно, «но это будет не после Вас, а при Вас. Вы сумеете во время направить, исправить ошибки, предупредить». «Железная воля, решит<ельность> позволяет Вам это довести до конца. ... считаю что это в интер<есах> революции значит правильно. Честному партийцу не следует обижаться если это и его коснется»... Что собственно до Троцкого, то он в этом письме уходит на второй план, дело явно не в нем: Сталину надлежит заменять «кадры» тем решительней, что «кругом фашисты и – жив еще Иудушка – Троцкий».
Как видно, сам А.А. чувствует, что обвинения в троцкизме и пр. – лишь повод для устранения всей когорты большевиков.
Впрочем, массовое убийство абсолютно преданных «старых кадров» как способ их отдаления от руководства в голове А.А. явно не укладывается: «кто этого не понимает, обижается, недоволен, козыряет заслугами, за котор. что то должен получать, тот не большевик, а мещанин и в мещ. болоте ему место. Дать ему жалов<анье> и пусть себе сидит чтобы не заражал других». Да уж, «мещанское болото» с «жалованьем» слишком непохожи на лагеря и безвестные захоронения... Что до личной судьбы: «А таким как я, которые сами боролись с троцкистами и не извлекали уроков и дали себя загрызть шакалам троцкистам – пусть сами на себя пеняют, пострадают, их побьют, побьют и умнее станут, когда вышест. организ. их выручит. Горячо Вам преданный»...
3 декабря арестован (и в апреле 1938-го года будет расстрелян) председатель Комитета по высшей школе И.И. Межлаук, находивший, что Бауманскому надо «менять хозяина».
10 декабря 1937 г. арестован (расстрелян в марте 1938-го) видный большевик и бывший ректор МВТУ П.Н. Мостовенко, назначивший Цибарта на должность декана механического факультета в 1930-м году. (Об этих и других «разоблаченных» деятелях в бумагах А.А. ничего не говорится, но, конечно, информация до него доходила.)
12 декабря день рождения старшей дочери Эли, но упоминания об этом – первый раз в дневнике А.А. – нет.
13 декабря, в понедельник, А.А. «был у Федорова [тогда нач. ГУУЗа]. Встретил сухо и холодно. Так ничего и не выяснил из разговора с ним». Провел день «в напряженной борьбе»: писал письма Маленкову и Хрущеву, письмо Маленкову «сдал» (передал в секретариат). Отправил письмо Ольге Адамович. («Друг ли Оля? Написал ей. Посмотрим.») «Избит, повержен во прах, но не побежден. Нет. Буду бороться еще крепче. Подымусь опять. ... Когда кончится, просуммировать уроки из моей Голгофы и свято выполнять ... Время изменится – все переменится.» Это последние слова дневника.
В ночь с 13 на 14 декабря (14 декабря) 1937 г. Адольф Августович Цибарт был арестован (ГУГБ НКВД).
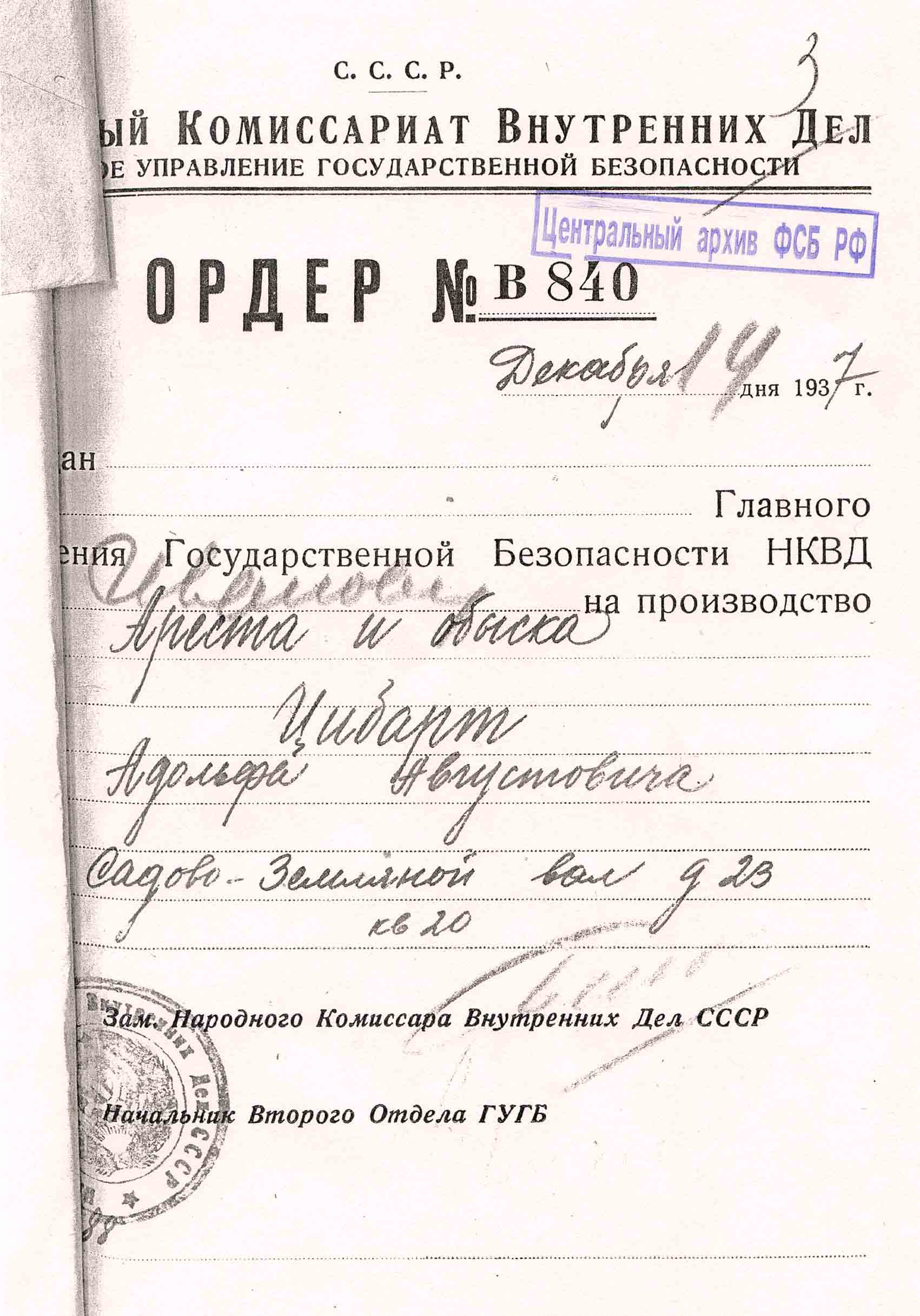
Основание для ареста – «активный участник контрреволюционной организации правых».
Уже с порога, обернувшись, сказал жене (с ее передачи) – «Мурка, не волнуйся, разберутся, я завтра приду»...
Обыск и изъятия продолжались. Забрали, в числе прочего, единственную фотокарточку отца Марии Иосифовны, последний знак памяти о нем в семье, – видимо, представительная внешность этого столяра показалась оперативникам подозрительной и разъяснениям М.И. они не вняли. Впоследствии, в архивном уголовном деле А.А., карточки Иосифа Игнатьевича не нашлось, лишь пронумерованный пустой конверт, в котором, вероятно, она изначально помещалась. Вывезли также весьма большую библиотеку А.А., включавшую богатое собрание русской и мировой классической литературы; в ней имелись редкие и не вполне угодные советской власти авторы, дореволюционных изданий, такие как например Алексей Апухтин. (М.И. всегда с удивлением вспоминала, что А.А. помнил в этой библиотеке точное место каждой книжки в шкафах. А дочери могли подолгу читать наизусть Шиллера, Гете, Гейне...) Книги вываливались с полок грудами на пол, оперативники топтались по ним в сапогах, и затем были увезены.
Днем 14-го декабря издается распоряжение ГУУЗ НКТП, за подписью нач. ГУУЗ И. Федорова: «Цибарт А.А., директора Московского Механико-Машиностроительного Института им. Баумана от работы о т с т о р о н и т ь [так в тексте].
Вр. и. обязанностей возложить на Зам. Директора по Научной и Учебной работе Николаева И.И.»
(Скан распоряжения – из: Волчкевич, Сословие вольных людей).
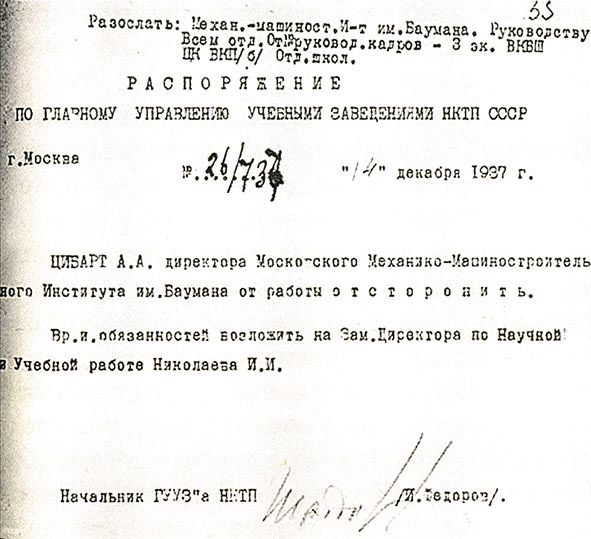
17 декабря – заседание институтского парткома (ЦГАМ ф. П-158, д. 44, лл. 153-155). Говорит секретарь парткома Симонов: «видимо теперь многим известно, что Цибарт арестован, как враг народа. / Надо сказать, что наша организация хотя с некоторым опозданием но с"умела разоблачить этого очень искусственного [искусно] замаскированного врага. Но было бы большой наивностью думать, что Цибарт работал один, надо полагать, что ему помогал не один человек. / Такие люди, как Дюков, Зайцев, Бриккер, Шевцов, Чутуев, Жебровский, Айзенман и друг. находились в очень близких отношениях с этим мерзавцем...» «СЛУШАЛИ Об Айзенмане А.Н. /член ВКП/б/ с 1920 года.» Полянский: «Айзенман защищал Цибарта так-же, как Жебровский, Дюков и друг. Этого факта достаточно, чтобы вывести из состава парткома». Зернов: «связи Айзенмана с Цибартом и заграницей ставят его вне рядов партии. / Предлагаю из партии исключить»...
28 и 29 декабря 1937 г. в МММИ проходит партийное собрание, отчет о котором под заголовком «Очиститься от вражеского охвостья» появился в передовой (редакционной) статье в «Ударнике» 13 января 1938 г. На собрании А.А. именуют в т.ч. «гнусным вредителем, пробравшимся к руководству институтом». Констатировали, что «партком не извлек уроков из решений февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) и указаний товарища Сталина о повышении политической бдительности и скорейшей ликвидации последствий вредительства. В течение ряда лет враги народа дезорганизовывали в институте учебный и производственный процессы, пускали на ветер огромные государственные средства, насаждали систему подхалимства». «Все это вскрылось», по мнению автора статьи, видимо 22 и 23 марта 1937 года, – это дни собраний актива парткома и общего партсобрания МММИ (по поводу ареста Петровского, его портрета в кабинете Цибарта и пр.): «8 месяцев потребовалось для того, чтобы партком исключил врага из партии, да и то с такой формулировкой, которая еще раз подтверждала гнилой либерализм парткома». А «отдельные члены парткома продолжали встречаться с врагом народа в семейной обстановке, оказались у него на поводу и потому не могли ставить вопрос остро политически, по-партийному, о гнусном предателе».
(Между прочим: в числе «отдельных членов парткома», посещавших в этот период «гнусного вредителя» у него на квартире, был и сам главред «Ударника» П.И. Побяржин. Об этом свидетельствует запись в дневнике А.А. от 1 мая 1937 г.: «У меня вечером была вечеринка с участием Наугольнова, Симонова, Побяржина, Айзенмана, Кунявского с женами. Прошло хорошо»...)
Перечень «помогавших мерзавцу» в основном сложился. В особенности агрессивно собрание было настроено по отношению к декану общетехнического факультета, нач. учебной части института А.Н. Айзенману («вместо того, чтобы, как подобает большевику, проявить инициативу, поставить вопросы о ликвидации вредительства в учебном процессе политически, Айзенман занял позицию "выше крыши не прыгнешь", выгораживая себя и Цибарта ссылками на "подработку" вопроса в ГУУЗе, в Комитете по высшей школе и т.д.»), а также к зав. издательским комбинатом МММИ, другу Цибарта А.Н. Зайцеву; им «не место в рядах большевистской партии». В числе «приспешников врага народа» доцент К.И. Жебровский, противник Зернова; парттысячник Л.И. Дюков («троцкист»); зав. аспирантурой О.Г. Чутуев. Выводятся из состава парткома А.Ф. Наугольнов (видимо за «троцкизм в 1923 году»), парторг И.Е. Симонов (видимо за то, что до ареста Кривина считал его, как и Зернов, идеальным большевиком), и «член комиссии по делу Цибарта» М[Х?].Н. Кунявский (может быть, за мягкость в «Выводах комиссии» по расследованию дела Цибарта). На парткоме лишь сказано, что они «занимали гнилую, непартийную линию», а именно «своей системой "доследований" и каучуковых решений они превратили партком в орган бездействия по отношению к врагу народа». Кроме того, изгнаны из парткома и сами «заварившие дело» П.М. Зернов и М.С. Ховах. Этих последних, можно предполагать, то ли «за связи с троцкистами» Кривиным и др., то ли за семейные связи (сестра жены Зернова «протаскивала троцкизм», не успев выкинуть из библиотеки запрещенную книгу, брат Ховаха арестован НКВД). В «Ударнике» причины не поясняются.
Подобные этой войны «всех со всеми» шли в это время во всех парторганизациях Союза.
Однако юбилейный 1937-й год завершился. Истребление соратников-большевиков, пик которого был приурочен Сталиным к юбилею, вышло самым внушительным за всю историю его правления; торжество ревнивого к власти и славе вождя подтверждено и на символическом уровне – вождь у партии с этого года один, это Сталин, других «вождей» быть не может. Пришло время сворачивать вакханалии террора «на местах», восстановить «единоначалие» в деле террора, умерить разоблачительский пыл буквально очумевшего от страха партийного «низового звена». Для многих из перечисленных кандидатов во враги народа это означало спасение. 19 января 1938-го года «Правда» публикует постановление пленума ЦК ВКП(б) «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков».
Теперь, грозит пленум, «вскрыт и разоблачен» будет тот, кто тщится «застраховать себя, как бдительного» и «с легкостью вопит на партсобраниях об исключении членов партии из партии».
|
Ссылаясь на выступления Сталина в аналогичных ситуациях, «Пленум ЦК ВКП(б) считает необходимым обратить внимание партийных организаций и их руководителей на то, что они, проводя большую работу по очищению своих рядов от троцкистско-правых агентов фашизма, допускают в процессе этой работы серьезные ошибки и извращения, мешающие делу очищения партии от двурушников, шпионов, предателей. Вопреки неоднократным указаниям и предупреждениям ЦК ВКП(б), партийные организации во многих случаях подходят совершенно неправильно и преступно – легкомысленно к исключению коммунистов из партии. / ЦК ВКП(б) не раз требовал от партийных организаций и их руководителей внимательного, индивидуального подхода к членам партии при решении вопросов об исключении из партии или о восстановлении неправильно исключенных из ВКП(б) в правах членов партии.» «Известно немало фактов, когда партийные организации без всякой проверки и, следовательно, необоснованно исключают коммунистов из партии, лишают их работы, нередко даже объявляют, без всяких к тому оснований, врагами народа, чинят беззакония и произвол над членами партии.» Приводится множество таких фактов, точь-в-точь воспроизводящих события в Бауманском после ареста Цибарта; в ЦК хорошо знали, что делали... В февральском номере «Советской науки» приведут еще массу примеров из жизни вузов. Но далее. «Пленум ЦК ВКП(б) считает, что все эти и подобные им факты имеют распространение в парторганизациях прежде всего потому, что среди коммунистов существуют, еще не вскрыты и не разоблачены отдельные карьеристы-коммунисты, старающиеся отличиться и выдвинуться на исключениях из партии, на репрессиях против членов партии, старающиеся застраховать себя от возможных обвинений в недостатке бдительности путем применения огульных репрессий против членов партии. / Такой карьерист-коммунист полагает, что раз на члена партии подано заявление, хотя бы неправильное или даже провокационное, он, этот член партии, опасен для организации и от него нужно избавиться поскорее, чтобы застраховать себя, как бдительного. Поэтому он считает излишним объективно разбираться в предъявленных коммунисту обвинениях и заранее предрешает необходимость его исключения из партии. / Такой карьерист-коммунист, желая выслужиться, без всякого разбора разводит панику насчет врагов народа и с легкостью вопит на партсобраниях об исключении членов партии из партии на каком-либо формальном основании, или вовсе без основания. Партийные же организации нередко идут на поводу у таких крикунов-карьеристов»... |
21 января 1938 г. партком МММИ публикует в «Ударнике» фактически опровержение статьи от 13 января: «партийный комитет считает, что данная статья политически неправильна и вредна, не мобилизует массы на разоблачение подлинных приспешников врага народа. Заголовок статьи не соответствует содержанию и незаконно опорочивает ряд коммунистов». Редактор «Ударника» Побяржин оказался крайним из тех «карьеристов-коммунистов», кто «разводил панику насчет врагов народа», и его решено было от обязанностей освободить. «Партийный комитет и редакция газеты "Ударник" не располагают дополнительными материалами, которые бы позволили ставить под сомнение партийность товарищей Симонова, Кунявского, а также тт. Зернова и Ховаха, выведенных из парткома по другим мотивам. Дело о партийности тт. Айзенмана, Наугольнова находится в процессе расследования, а поэтому выводы редакции неправильны. Дело Дюкова, Зайцева и Шевцова рассмотрено парткомом, партком их исключил из рядов ВКП(б), партийное собрание вопроса еще не решало.» Неизвестно, что решило общее собрание, но по меньшей мере один из этих троих, «оруженосец» Цибарта А.Н. Зайцев, в конце концов останется в ВКП(б). К нему А.А. будет обращаться за помощью из лагеря, правда безуспешно.
* * *
Свое выступление в прениях на Всесоюзном совещании работников высшей школы, проходившем в мае 1938-го года, новый директор МММИ проф. В.П. Никитин начинает с оценки работы Цибарта в Бауманском (ВШ 1938 № 6–7). «Вредители, которые орудовали в нашем институте, бывший директор и бывший начальник ГУУЗ, в своей вражеской работе направляли удар на то, чтобы разрушить одну из старейших и крупнейших школ СССР. Они старались запутать и сорвать учебный процесс, делали поблажки отсталым элементам студенчества и вообще дезорганизовали самостоятельную работу студентов. Изданием противоречивых приказов и распоряжений, невниманием к работе студентов и преподавателей они всячески стремились разрушить учебную дисциплину. / Коллектив профессоров, преподавателей и студентов института во главе с партийной организацией помог славной советской разведке разоблачить вредителей. / В настоящее время перед нашим институтом стоит особо ответственная задача – ликвидировать последствия вредительства.» Обвинения, без которых, конечно, выступление было бы немыслимо, так невразумительны (невнимание, если и было, еще не умысел, и пр.), что едва ли не подразумевают – ни о какой реальной провинности бывшего директора говорить не приходится.
Думается, что устранению Цибарта не было никакого рационального оправдания. До 1941-го года директора Бауманского сменятся четыре раза. По меньшей мере до самого начала войны во втузе наступит период, который современный исследователь его истории прямо называет «безвременье» (см. Волчкевич, Очерки...).
Следователь, ведший дело Цибарта с начала до конца – начальник 10-го отделения 4-го (секретно-политического) отдела ГУГБ НКВД, ст. лейтенант Госбезопасности Подольский (Подольский-Искра Матвей Владимирович). Между прочим, в 1917 г. в течение двух месяцев М.В. Подольский состоял членом Бунда. Был много раз награжден и дорос до звания полковника, но в конце концов отстранен от службы в НКВД «по компрометирующим обстоятельствам», а именно в связи с расстрелом его родного брата, тоже чекиста, и давней историей с Бундом. Последнее место работы – библиотека Краснопресненского р-на Москвы. Умер в 1968 г. Его подробный послужной список можно найти на сайте Мемориала* (см. Петров).
* * *
Длилось следствие – насколько происходившее можно так назвать – без малого 7 месяцев. (Точнее, следствие было завершено 25 марта 1938 года, далее Цибарт ожидал приговора «под стражей» в качестве «меры пресечения».)
Сохранилась в семье А.А. некоторая память о том в следствии, что в уголовном деле никак не отражено. А именно, о «следственных действиях» с супругой А.А. Видимо, зная из дневника А.А. о существовавшем в семье разладе и рассчитывая на какие-то возможные ее мстительные чувства, Марию Иосифовну долгое время еженедельно вызывали по определенному адресу в какой-то никак не именованный дом, где следователь – был ли это сам Подольский или кто другой, неизвестно – клал перед собой на стол револьвер и с угрозами и матерными оскорблениями требовал от нее «показаний» на мужа. Можно представить, чего ей это стоило: рисковать собой нельзя было, на руках у Марии Иосифовны оставались трое детей (дочери и племянник) и мать... Ничего о профессиональной деятельности супруга М.И. не могла знать уже потому, что кончила лишь 8 классов гимназии, а что до его «связей», то и сотрудники и гости института посещали дом А.А. открыто. Реальные факты, понятно, никого и не интересовали. Так или иначе, никаких вообще «показаний» следователь от нее не добился – кончилось дело тем, что она с криком «стреляй» разбила перед следователем стоявший на столе мраморный письменный прибор, – допрос на этом закончился и больше повестки не приходили. В следственном деле Цибарта ничего связанного с Марией Иосифовной, кроме строчки в анкете арестованного и упоминаний о ней в его личном дневнике, не содержится.
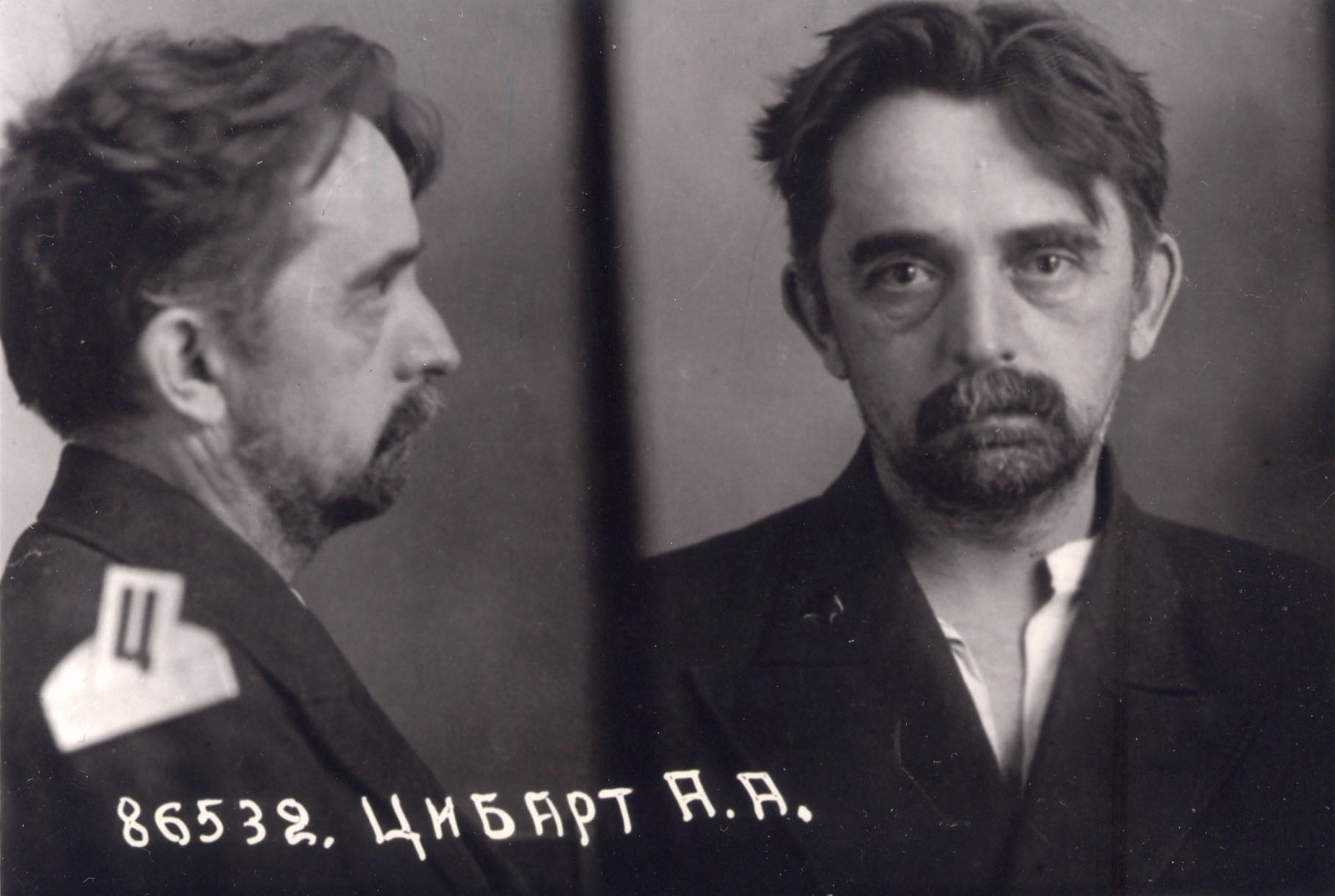
Цибарт Адольф Августович
Фотография из архивного уголовного дела № Р-24817 ЦА ФСБ России. т. 2.
Декабрь 1937. Бутырская тюрьма



Бутырская тюрьма. Фото с сайтов: Богослов.ру; Топография террора; Вестник Кавказа (2015)
Кстати говоря, обращения супруги А.А. к Н.К. Крупской и другим деятелям (в частности, возможно, Маленкову), разумеется, ни к чему не привели. Хотя Крупская отнеслась к ней в высшей степени сочувственно и прямо дала понять, что в этом деле бессильна: встала при первых словах Марии Иосифовны, подошла и приобняла, гладила ей плечи, говорила нечто вроде «бедная моя, что поделаешь»...
* * *
Следственное дело Цибарта – в 2-х томах, под шапкой «СССР. Народный Комиссариат Внутренних Дел. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ ВЧК–ОГПУ–НКВД», и с грифом «Хранить вечно». Описи не обнаружено – видимо, она в числе скрытых (запечатанных в бумагу) при рассекречивании дела листов, т.к. должна была содержать их именования. (О таких секретных листах еще будет сказано несколько слов.) Указываемые на обложках томов даты, когда содержимое было переплетено, мы, к своей досаде, упустили отметить. Однако последние документы (материалы по реабилитации) относятся к 1956-57 гг., очевидно тогда это и должно было произойти. Т.к. нумерация листов дела сквозная (отдельно для каждого тома), это – дата, начиная с которой в деле ничего уже не могло появиться и ничего из него не могло быть изъято.
1-й том содержит материалы, которые «органы» посчитали важными по существу. Это вся информация о «подозрительном» поведении Цибарта, поступавшая в НКВД до и в ходе следствия; Анкета арестованного; «Справка» ГУГБ (главного управления государственной безопасности) НКВД, предшестовавшая аресту; протоколы двух допросов (точнее, допрос лишь один, другой же – формальное подтверждение об окончании следствия); Постановление об избрании меры пресечения; Обвинительное заключение; приговор ОСО. Затем идут личные дневники А.А., письмо от Ольги Адамович и пр., а также материалы по реабилитации 1956-57 гг. Во 2-м томе – второй экземпляр упомянутой «Справки»; первый короткий допрос; конверт с тюремной фотокарточкой Цибарта; ордер на арест; протокол обыска; квитанции отделения по приему арестованных и пр. Сверх того, во втором томе помещены стенограммы партсобрания МММИ, исключившего А.А. из партии.
Перейдем к описанию этих материалов.
Открывается блок свидетельств против Цибарта в 1-м томе дела отпечатанными показаниями Петровского о его роли в «организации правых». Это развернутое и явно фантастическое повествование, сочинить которое добровольно было бы совершенно немыслимо. «Прежде всего я наметил, как базу для своей контрреволюционной работы, ряд втуз'ов: Московский мех.-машиностроительный институт, Московский энергетический институт, Московский инж.-строительный институт, Ленинградский индустриальный институт, Свердловский горный институт, Харьковский машиностр. ин-т и Томский индустриальный ин-т»; «Я предложил Бухарину следующий план: я превращаю эти вуз'ы в образцовые...» и т.д., и т.д. Здесь и единственная (цитированная выше), явно написанная под диктовку и подчеркнутая следовательским карандашом фраза о Цибарте (л. 13): «Кроме того, мной был использован в контрреволюционной работе среди молодежи недовольный политикой партии директор Московского механико-машиностроительного ин-та им. Баумана ЦИБАРТ». Ни слова о том, в чем эта работа состояла, не сказано.
Затем следуют короткие рукописные показания «активного участника Закавказского троцкистского центра», как она характеризуется в «Справке» – грузинской переводчицы и литературного деятеля Лидии Гасвиани (взятые у нее перед расстрелом). В них о Цибарте имеется лишь несколько слов: «На один день я ездила к Петровскому в Сочи. В этот раз вместе с Петровским приезжал Цибарт, Маковский и Бородин». Между прочим, об этой встрече коротко упоминает и сам Цибарт в своем дневнике; о Бородине говорится пара слов («он оказывается редактор Московск. англ. газеты»), о Гасвиани – ни слова. К изучению вопроса, какие именно преступления Цибарт готовил совместно с Гасвиани, следствие в дальнейшем не приступает, но сама их «связь» оказывается для обвинения достаточной.
Далее – «внутренняя» информация о Цибарте Н.Д. Горлинского и два (несколько раз уже цитированных в предыдущих рубриках) доноса из института. Само по себе осведомительство было для партработников естественным и даже обязательным, но к текстам Зернова и Головинцева все же можно предъявить упрек в избыточной обстоятельности; в них, кроме всего прочего, сообщается о множестве сотрудников МММИ, с которыми у Цибарта были хорошие отношения, на предмет их связей с заграницей, наличия репрессированных родственников и т.д.
Остальная информация, поступавшая в НКВД уже после ареста А.А., скорее всего предъявлялась по прямому требованию «органов» (как мы увидим чуть ниже, это в какой-то мере относится и к доносам, поступившим до этой даты). Впрочем, способы ее получения свидетельствуют как минимум об исполнительности информаторов. Это отчет дежурного по институту, коему было поручено 7 ноября 1937 г. вскрыть стол директора в его отсутствие, с заключением секретаря парткома МММИ Симонова об обнаруженных там заметках Цибарта на полях некой книги Каутского, скорее всего «От демократии к государственном рабству (ответ Троцкому)» (Берлин, 1922 /?/). Преступные сущность и практика большевизма показываются и осуждаются в книгах «ренегата Каутского» весьма убедительно, но секретаря парткома интересует другое – «весь строй мыслей развитых Цибартом в своей пометке на 29-й странице целиком совпадает со взглядами Троцкого на диктатуру пролетариата» (т. 1, лл. 73, 74). Трудно уразуметь, какие могли быть у Троцкого ученые разногласия со генеральными установками партии по этому предмету, но во всяком случае во время дискуссии Каутского и Троцкого взгляды Троцкого и являлись взглядами партии, а книга Троцкого «Терроризм и коммунизм» (полемический ответ на одноименную книгу Каутского) весьма понравилась лично Сталину – он оставил на ее полях свои заметки... Самих упомянутых текстов Цибарта, хотя они и были переписаны и прилагались к донесению, причем не только Симоновым, но и Зерновым, в деле не содержится. – Также в деле – сообщение начальника ВВО (вооруженной военной охраны) института от 13 декабря, в самый канун ареста, о том, что Цибарт выносил из своего кабинета какие-то папки с документами.
Подшиты в дело «Выводы комиссии выделенной парткомом на заседании [число не указано, дата поступления в НКВД неясна] 1937 г.». Это то самое «какое-то дело», доложенное парткому МММИ 22 июля 1937 г., которое, по выражению А.А. из его дневника, «заварили против меня Зернов с Ховахом» (Зернов в составе комиссии формально не значится). Полностью выводы этой комиссии приведены нами в рубрике «Большевистская критика, невзирая на лица». Относительно обвинения в консервации строительства нового корпуса МММИ в 1934-м году здесь нужно заметить, что на неосуществившееся строительство корпуса было истрачено, согласно комиссии, 200 тысяч рублей, тогда как на самом деле 118. Среди настоящих причин прекращения финансирования – в т.ч. разрабатывавшийся тогда новый генплан Москвы, по которому русло Яузы должно было пройти по этому месту. Также авторы тратят много сил и изобретательности на разоблачение возможных троцкистских связей А.А. с Петровским (см. выше Выводы комиссии). Повторим только цитату: «По заявлению тов. Цибарта Петровский все время относился к нему плохо. Однако материалами изложенными ниже это не подтверждается. Для выяснения этого вопроса мы обратились в парторганизацию ГУУЗ'а (парторг тов. Орлов). По его указанию мы провели беседу с членами ВКП(б) т.т. Кирилловым и Беляковым, работающими ныне в ГУУЗ'е и с тов. Дыгерном, работающим ныне директором Полиграфического Института. Из этих бесед выяснилось следующее: 1) В состав Совета при Наркоме были выдвинуты лично Петровским четыре директора Институтов, в том числе и т. Цибарт из них трое ныне исключены из ВКП(б) и сняты с работы. (Об этом сообщил тов. Дыгерн ...) 2) Тов. Дыгерном и Кирилловым неоднократно передавался материал Петровскому о плохом руководстве институтом со стороны тов. Цибарта, но Петровский на эти материалы не реагировал либо реагировал недостаточно...» – Что касается Дыгерна и Кириллова. Обращает на себя внимание, что в ноябре 1937-го, по слухам из ГУУЗа, готовился приказ о назначении А.Н. Дыгерна директором МММИ /см. Дневник/, чего впоследствии не произошло. Есть кое-что щекотливое в дневнике А.А. и о Г. Кириллове: «он меня принял очень тепло. Угостил даже чаем. Подробно в течение часа рассказывал»... Третий упомянутый информатор комиссии, Г.П. Беляков, еще до июля 1937-го года был репрессирован.
В этом месте находится запечатанный степлером в белую бумагу, т.е. запрещенный ФСБ для ознакомления листок. Таких в деле, как уже сказано, несколько. Почему некоторые листы дела остаются до сих пор засекреченными, автору этого очерка, конечно, точно не известно. Нет общего мнения и у других людей, занимавшихся подобными делами. Вряд ли закрытые листы могут содержать какие-то технические сведения, составлявшие бы, по прошествии 80 лет, военную тайну; доступны для читателя тексты допросов, важнейшие документы дела и доносы, в т.ч. известных лиц, то есть доступно многое, чего, может быть, не хотелось бы раскрывать организации-наследнику НКВД... Весьма вероятно, что секретными остались попросту те документы, которые изначально имели гриф «секретно», и именно из запечатывания таких документов и состоит довольно длительная (в нашем случае около 4-х месяцев) процедура «рассекречивания» дел репрессированных. Это могли быть, в частности, распоряжения высших чинов власти, явно нарушающие даже тогдашнее законодательство (как например приказ НКВД и Генпрокуратуры СССР от 1941-го года не освобождать отбывших срок заключенных), а также, может быть, донесения секретных сотрудников – кадровых осведомителей.
Итак документ, страничка размером в половину писчего листа, обернут бумагой и распечатывать его запрещено. В месте подшивки он истлел, слегка отошел от корешка и с этой стороны оказалось видно, что он представляет собой заполненный от руки отпечатанный типографским способом бланк, в заголовке которого различимы начало слова «секр…» (секретно) и также «Ежову». Несомненно, что отправитель, обращающийся к адресатам на готовых бланках, куда фамилию наркома вписывают от руки – инстанция весьма высокая (ЦК?). Разглядеть этот интересный документ подробнее мы не пытались, во избежание санкций со стороны работников архива, вообще-то весьма доброжелательных. Возможно, это – ориентировка, поступившая в НКВД, касающаяся включения Цибарта в так называемые «сталинские списки» (перечни людей, подавляющее большинство которых Военная Коллегия Верховного суда СССР должна была, по личной санкции Сталина и других членов Политбюро ЦК ВКП(б) приговорить к расстрелу, или же, в лучшем случае, Особое совещание при наркомвнуделе СССР – осудить на срок заключения от 5 лет.) О Цибарте в этих списках речь пойдет ниже.
Завершает блок донесений в НКВД машинописный «материал» от двоих сотрудников института (дата неясна или мы упустили ее отметить, но уже после ареста), отправленный сразу в четыре адреса («секретарю МК ВКП(б) тов. Братановскому, НКВД тов. Ежову, в редакцию "Правда" тов. Мехлис, ЦК ВКП(б) тов. Маленкову») – ничего, впрочем, серьезного не содержащий, как и другие обвинения. Один из авторов был с А.А. в хороших отношениях, и о том, что «материал» был физически выбит у него НКВД, он после ареста А.А. фактически сообщил супруге А.А. – подошел к ней в людном месте и рассказал об этих побоях («меня там чествовали и приветствовали так, что не оставили ни одного зуба»). Внешний вид этого сравнительно молодого человека (старик, нельзя было узнать) и эти слова так ее потрясли, и она так часто об этом вспоминала, что событие запомнили и ее внуки. В дальнейшем этот сотрудник МММИ репрессирован, о чем есть сведения в интернете, и судьба его не прослеживается.
Как и следовало ожидать, нет в деле никаких донесений от старых профессоров и преподавателей института.
Хотя, что касается профессоров, Горлинский в своем отчете пытается представить дело так, будто они случившимся довольны (т. 1, л. 68). «В институте большое оживление. Профессора спрашивают друг друга: "Вы слышали о нашем хозяине...", "кого еще сняли..."». А один из них якобы сам, повстречав Горлинского 21 декабря в институте, «сразу говорит: "у нас новости в институте, Цибарта больше нет в институте. И кто это додумался до такой хорошей мысли, освободить институт от берлинского агента. Я так и называл его всегда, что он берлинский представитель"». Профессор явно лукавил – говорил так, как будто думал, что Горлинский об аресте Цибарта мог не знать; видимо, роль Горлинского в институте открыто не называлась, хотя и всем была достаточно понятной. Профессор явно защищает себя и других. – Также и еще двое других профессоров, по словам Горлинского, «очень рады этому явлению». Уже в ответ на прямой вопрос информатора, они якобы выразили свое согласие с тем, что Цибарта «убрали»: «не будем больше толочь воду в ступе»; то есть все-таки не «агент» и не «вредитель». Столь мягкое осуждение арестованного «врага народа» можно расценить чуть ли не как акт мужества.
|
В этой рубрике, касающейся материалов НКВД, уместно задержаться на теме Горлинского. Генерал-лейтенант НКВД с 1945 года Н.Д. Горлинский (наст. фам. Дрищев), после смерти Сталина уволенный со службы с лишением воинского звания и исключенный из КПСС за злоупотребление служебным положением и казнокрадство, а также за «Ленинградское дело» и «грубые нарушения социалистической законности», – довольно заметный персонаж в советской истории. С краткой биографией генерала можно ознакомиться хотя бы в Википедии и, более подробно, с его послужным списком в книге Н.В. Петрова «Кто руководил органами госбезопасности: 1941-1954» (см. Источники). О его причастности к Бауманскому институту в этих источниках ничего не сообщается, но вообще особое отношение у ОГПУ к МММИ имелось – мы уже упоминали, что при МММИ был рабфак ОГПУ. – Прямых указаний на то, что автор донесения Горлинский и этот деятель суть одно и то же лицо, в деле А.А. найти нельзя: в машинописном тексте донесения не указаны никакие должности автора, отсутствует даже расшифровка подписи. Но сама нехватка этих данных в документе говорит о том, что бумага скорее всего не покидала коридоров Лубянки, и автор был коллегой следователя. Автограф же, по которому собственно и можно установить автора, не совсем обычен и представляет собой четко и крупно выписанное «Горлинский», также как и достоверный автограф Н.Д. Горлинского, который можно найти (в интернете) на одном из документов (приводим его здесь). 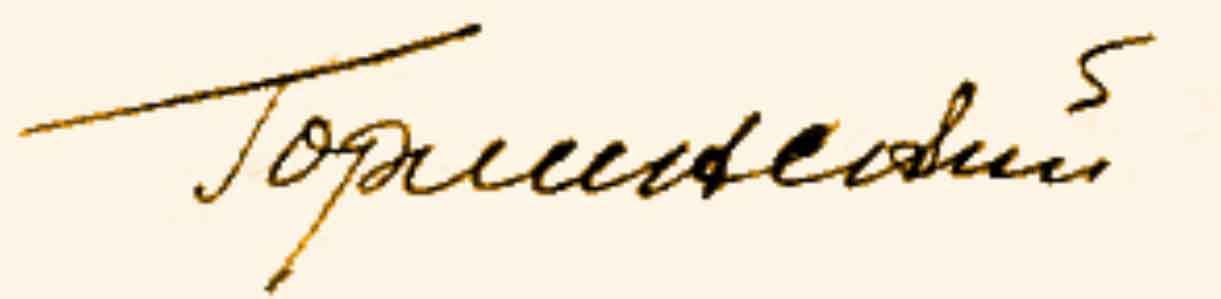 Можно добавить, что ни в юбилейном сборнике, где на отдельных страницах перечисляются особо выделившиеся общественники, преподаватели и студенты МММИ, ни в каких-либо статьях А.А., ни в дневнике А.А. фамилия Горлинского не встречается: это не человек института. При этом Горлинский проявляет удивительную осведомленность в делах и персоналиях МММИ 1932-го года, а в 1937 году упрекает Зернова в том, что тот вовремя не представил донесений о Цибарте в НКВД. (Вот интересная цитата об этом, приведем ее полностью: «Правильный упрек тов. Горлинского, сделанный мне за то, что я ничего не написал о делах ин-та, я принимаю, – оправдывается Зернов перед НКВД 21/XI-37 г. – Но должен в связи с этим сообщить, что мною четыре раза ставился вопрос /в промежутке июнь-ноябрь с/г/ перед секретарями парткома Наугольновым и Симоновым о необходимости сообщить материал по Цибарту в НКВД. Я тогда в присутствии некоторых членов парткома получил ответ, что материал передан. Теперь ясно, что они его тогда не передавали. Для меня такое поведение секретаря и его заместителя /тогда Симонов, теперь он секретарь/ непонятно»...) Явно, что Горлинский не являлся сотрудником МММИ, иначе что мешало бы ему написать в НКВД самому, однако он играет в институте важную роль, его знают и отвечают на его расспросы профессора, и он, как мог бы это сделать руководящий товарищ, упрекает институтского партийного активиста в недостаточной откровенности с НКВД. Т.е. ведет себя как кадровый сотрудник «органов». – Итак, практически с полной уверенностью можно констатировать, что речь идет именно об известном НКВДисте Н.Д. Горлинском, каким-то образом курировавшем МММИ в 1932-33 гг. по линии госбезопасности, в ходе учения в школе ОГПУ, и служившим в чине лейтенанта и в должности оперуполномоченного 11 отделения 4 отдела ГУГБ НКВД СССР с июля 1937-го по апрель 1938-го и затем 4 отделения 1 управления НКВД СССР с апреля по октябрь 1938 года – времени подготовки к аресту, ареста и следствия по делу Цибарта. Так открылась еще одна темная страничка из биографии Дрищева-Горлинского. |
...Почему-то нет никаких донесений от Малинковича (если только они не в числе закрытых листов дела), – возможно, у него был другой адресат.
Далее по порядку идут: анкета арестованного 14/XII; Справка за подписью нач. 11 отделения 4 отдела ГУГБ НКВД майора ГБ Петровского от 4 декабря 1937 г., обосновывающая арест и обыск; Постановление об избрании меры пресечения; Протокол допроса от 25 марта 1938 г.; Обвинительное заключение следствия 29 мая 1938 г.; Выписка из протокола Особого совещания при Народном комиссаре внутренних дел СССР 7 июля 1938 г., т.е. приговор. Эти, основные в деле, документы будут изложены чуть ниже, насколько нам удалось их осмыслить, максимально подробно.
Вслед за перечисленными материалами помещены личные дневники А.А. (см. на сайте). Оригиналы следствием уничтожены; дневники эти перепечатаны и составляют основную часть объема всего дела, если не считать материалов по реабилитации Цибарта 1956–1957 гг. (см. ГАРФ) и стенограмм партсобраний МММИ от 1 и 4 декабря 1937 г. во 2-м томе. В тексте дневников, исполненном ошибок машинисток, следовательские подчеркивания; фамилии набраны одними заглавными, как в тогдашних протоколах и стенограммах. (Так же это делалось в бумагах НКВД и даже в докладных Ежова Сталину: настоящей мишенью «органов» были, ясно, не предполагаемые преступления, а персоналии.) Запись о всем том дне 6 декабря, когда А.А. беседовал с Малинковичем и проявил, в ответ на его провокационные речи, фанатичную веру в Сталина, следователь (Подольский) вынес в отдельную выписку, на 4-х страницах (т. 1, лл. 101-104).; эти сведения оказались критически важны. Приложен также конверт с несколькими отдельными листочками из блокнота с собственноручными дневниковыми заметками А.А. (см. их сканы в рубрике о жизни и личности А.А.). Наконец, в томе подшиты документы Генеральной прокуратуры СССР 1956-1957 гг. по реабилитации Цибарта. (Копии, т.е. вторые машинописные экземпляры, этих документов получены нами из ГАРФ; см.) А также очередной запечатанный лист с каким-то типографским текстом (наверное, с заполненным бланком).
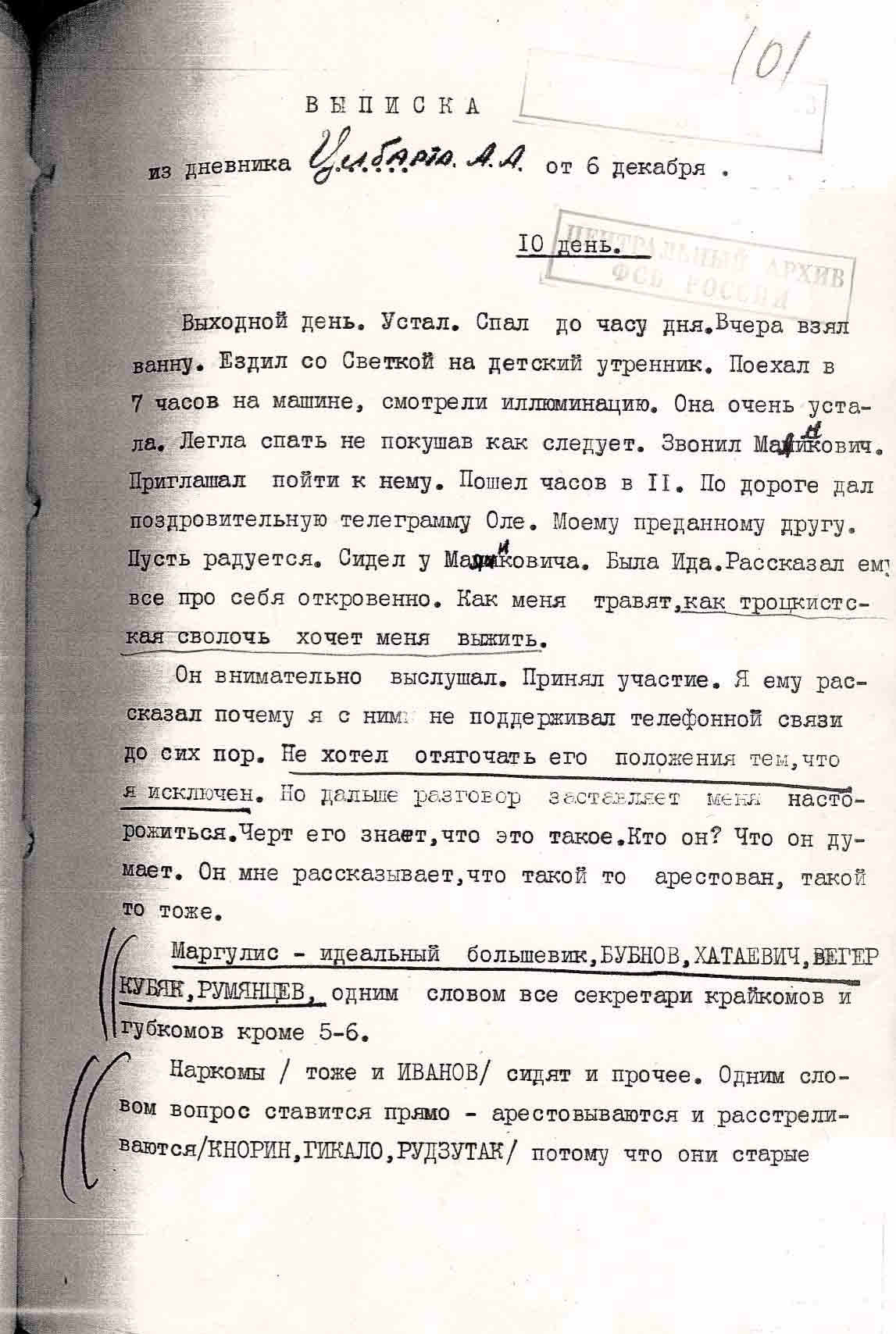
Во втором томе дела, несколько детальнее чем мы это изложили в начале, содержится следующее. – Второй экземпляр «Справки» ГУГБ НКВД от 4 декабря 1937 г., санкционирующей арест и обыск Цибарта; конверт с фотокарточкой Цибарта (фас–профиль); ордер на арест В 840; протокол обыска и 4 квитанции под шапкой «НКВД СССР / 10 отдел ГУГБ / отделение по приему арестованных» (и с примечанием «вещи, деньги и ценности, невостребованные в течение 3-х месяцев со дня вынесения решения судебными органами по делу, сдаются в доход государства»); указаны орден № 342, орденская книжка, часы, фотоаппарат, 52 рубля и т.д. Затем – протокол первого короткого допроса 27 декабря. Далее в томе обнаруживается подшитый пустой конверт (где, можно предположить, лежала отобранная при обыске фотокарточка тестя А.А., умершего в 1935-м г., по которой следователям не удалось опознать никакого «врага народа» и оказавшаяся ненужной). Завершают том и все дело, начиная с листа 13-го и по 172-й, две стенограммы последнего перед арестом А.А. общего партсобрания МММИ, проходившего 1 и 4 декабря 1937 г. и постановившего исключить директора Цибарта из ВКП(б).
(Эти же стенограммы хранятся также и в ЦГАМ. – Их полный текст, без купюр, помещен на этом сайте.)
* * *
Итак, подробно о главном. 4 декабря 1937 г. – документ под заголовком «СПРАВКА» (т. 1, лл. 81, 82), представляющий собой обоснование необходимости ареста и обыска А.А. Подобные «справки» или «меморандумы» на арест изготавливались в ГУГБ и заменяли санкцию прокурора (в 1938 г. были запрещены сменившим Ежова Берией). «Справка» содержит ссылку на фразу бывш. начальника ГУУЗа подследственного Д.А. Петровского о Цибарте из допроса 23 июля 1937 г., якобы Цибарт по его указанию проводил контрреволюционную работу в МММИ, и сведения: «в ноябре м-це 1937 года партийным комитетом Моск. мех. машиностр. института из рядов ВКП(б) исключен за связь с врагом народа ЛИПЕЦ-ПЕТРОВСКИМ, ЧЕРВЯКОВЫМ и КРИВИНЫМ [с М.Г. Кривиным, как раз, А.А. был в плохих отношениях, в отличие от Зернова и Ховаха], и вредительство в институте им. Баумана»; «ЦИБАРТ А.А. настроен контр-революционно и проявляет себя как троцкист», «поддерживал крепкие организационные связи с врагами народа ЧЕРВЯКОВЫМ и ПЕТРОВСКИМ-ЛИПЕЦ, кроме того был связан с активным участником Закавказского троцкистского центра ГАСВИАНИ...» (в чем конкретно состояли эти крепкие связи, не сообщается), «через родителей в Польше получал троцкистскую литературу» (разумеется, никакого списка этой литературы в деле нет), и пр. Обращает на себя внимание также, кроме натянутости и полной неопределенности обвинений, небрежность автора документа: год, место рождения и национальность А.А. указаны неверно (вообще, ошибки подобного рода в документах следствия дело обычное). Подписана «Справка» нач. 11 отделения 4-го «секретно-политического» отдела ГУГБ НКВД майором государственной безопасности [В.Г.] Петровским. На полях – пометки, визы каких-то чинов НКВД, а прямо по тексту, размашисто и красным карандашом – «Согласен», затем автограф (неразборчив, но не принадлежит ни тогдашнему нач. 4-го отдела Литвину, ни тогдашнему нач. ГУГБ Фриновскому), и дата согласования 11/XII. Возможно, судя по двум-трем угадываемым буквам, эта подпись принадлежит заместителю ген. прокурора СССР Г.М. Леплевскому – в этом случае неформальная санкция прокурора все-таки была.
(Представленные здесь факсимиле документов из дела – это сканы с их нецветных ксерокопий.)
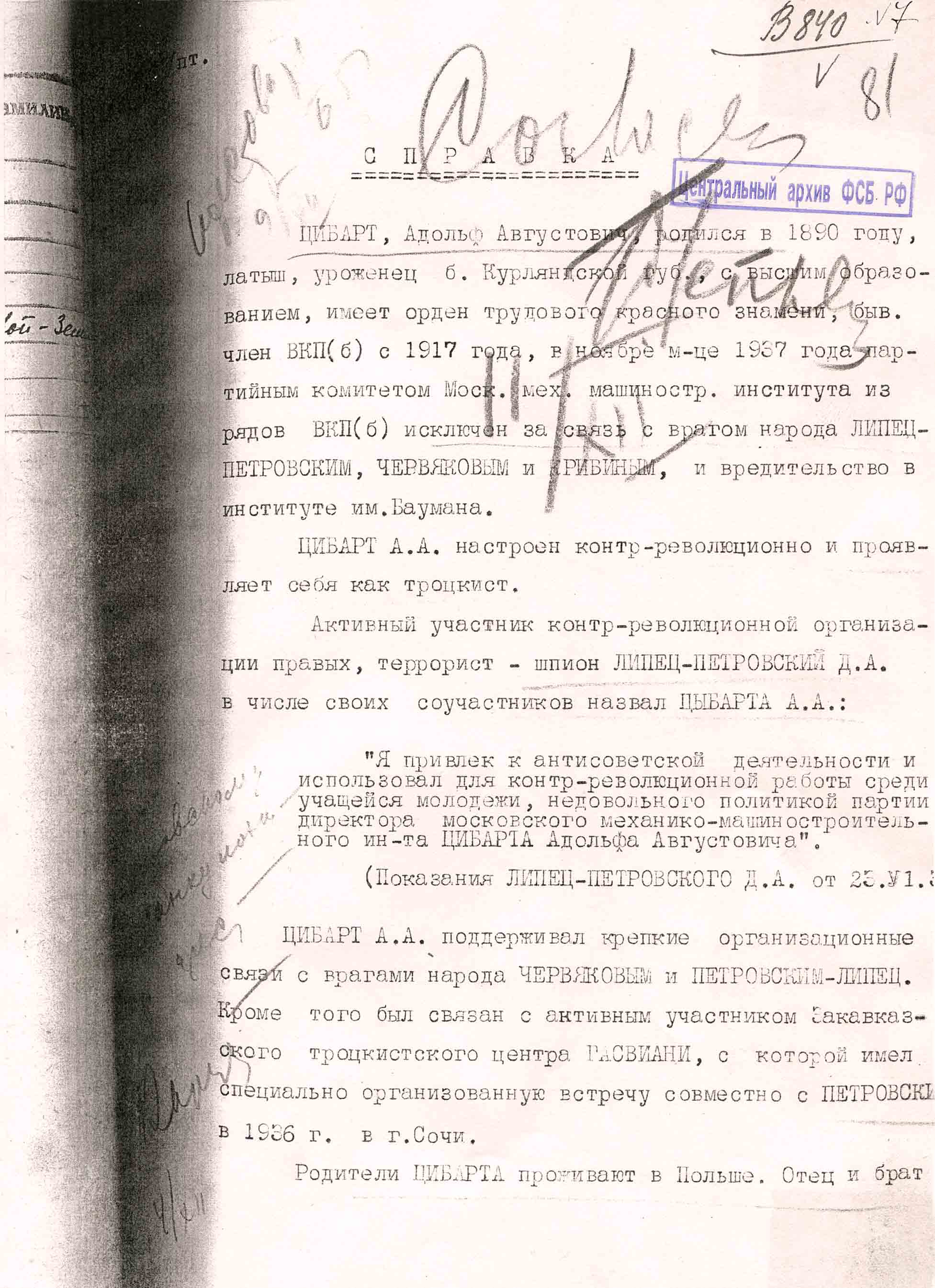
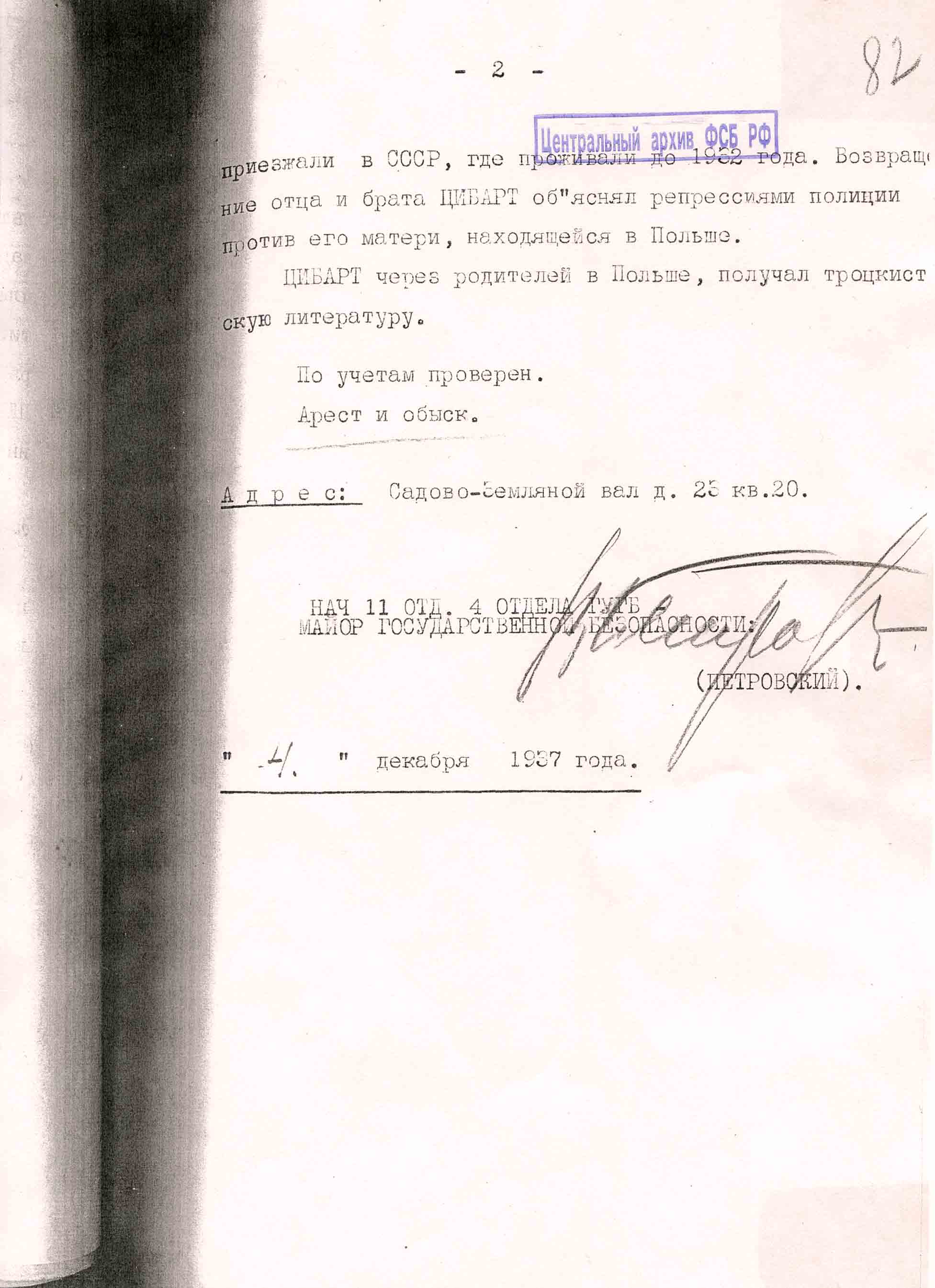
Арест, напомним, последовал в ночь с 13 на 14 декабря 1937 г.
Первая встреча А.А. со следователем состоялась через 13 дней после ареста – 27 декабря. Короткий допрос фактически представляет собою анкету – год и место рождения, место работы, имена и даты рождения жены, детей и брата, – плюс информация, первое, что Цибарт «член РСДРП с 1917 г., вступал в Москве, кто ручался не помнит» (л. 10), и второе, хорошо известное в НКВД, что в 1929-1931 гг. отец и брат А.А. жили в СССР и затем отбыли на родину в Польшу. Тогда же, как это было в общем случае, делается его (приведенная здесь) фотография, профиль и фас; мы видим А.А. в пиджаке с воли, смятой рубашке (зеркала в камере явно не предусматривалось), двухнедельной небритости, сильно похудевшего и явно избитого. Находился ли арестованный Цибарт какое-то время во Внутренней тюрьме на Лубянке или же сразу был помещен в Бутырскую тюрьму, в которую впоследствии был направлен приговор Особого совещания, однозначно сказать трудно. Это легко можно было бы установить из «Учетного журнала регистрации заключенных Лубянской (Внутренней) тюрьмы», но общего доступа к нему, кажется, нет или он слишком затруднен. Во всяком случае фотография делалась именно в Бутырках: прикрепленный к плечу фотографируемого раскрытый конверт со вставленной в него карточкой с первой буквой его фамилии имеется на аналогичных бутырских фото (напр., Сергея Королева или Варлама Шаламова), а на лубянских (напр., Мандельштама или Мейерхольда) этой детали нет.
Единственный «настоящий» допрос, протокол которого имеется в деле – от 25 марта 1938 г. Текст протокола – в печатном (т. 1, лл. 84-87) и рукописном виде. Как именно контактировало следствие с заключенным Цибартом три месяца, считая с 27 декабря 1937-го, неизвестно. Заметна грубость допрашивающего, хотя, не приходится сомневаться, она была и преуменьшена. Обескураживает в допросе не только полное отсутствие доказательств его предполагаемых преступлений в качестве члена той «антисоветской организацией правых», к которой он якобы принадлежал, но и полная неясность самих обвинений. Единственный предметный сюжет «вредительства», который мог бы ему инкриминироваться – это консервация строительства нового корпуса МММИ, – однако она естественно следовала ввиду прекращения финансирования, и никаких документов, свидетельствовавших бы о неоправданных или незаконных действиях Цибарта при консервации строительства, в деле нет, следствие ими и не интересовалось. Не производилось никаких проверок, «выемок» и проч. Шантажировать несчастную жену А.А., домохозяйку, было явно важнее... Даже информаторы, при всей их недобросовестности, все-таки предполагали, что в их домыслах и наводках еще будет разбираться следствие, – но следствие такой задачи явно не ставило. Диалог оставляет впечатление какой-то нелепой, похожей на детскую и одновременно страшной игры. Вот он полностью:
«ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ЦИБАРТА АДОЛЬФА АВГУСТОВИЧА
от 25 марта 1938 г.
Вопрос: У вас при обыске обнаружено ряд тетрадей и дневников с контрреволюционными мистического характера записками. Кому они принадлежат?
Ответ: Обнаруженные у меня при обыске тетради и дневники с контрреволюционно-мистическим содержанием принадлежат мне.
Вопрос: Под влиянием каких обстоятельств вы встали на путь мистика-фашистов [так в тексте]?
Ответ: На путь мистицизма я встал еще в 1930 году, под влиянием некоторых семейных обстоятельств, однако, фашистом я не был.
Вопрос: Став на путь контрреволюционного мистицизма вы одновременно пребывали в ВКП(б)?
Ответ: Да.
Вопрос: Пребывая в ВКП(б) вы скрывали от партии свое контрреволюционное мистическое мировоззрение?
Ответ: Да, скрывал.
Вопрос: Почему?
Ответ: Я думал перебороть в себе контрреволюционные мистические мировоззрения и стать хорошим коммунистом.
Вопрос: Вы врете. Вы обманным путем пробрались в ВКП(б) с тем, чтобы пребывая в ней вести свою контрреволюционную разрушительную работу. Подтверждаете ли вы это?
Ответ: Нет, не подтверждаю.
Вопрос: Следствие категорически требует, чтобы вы встали на путь чистосердечного раскаяния и рассказали бы следствию о всей своей контрреволюционной работе.
Ответ: Я никогда и никакой контрреволюционной работы не вел.
Вопрос: Вам известен ПЕТРОВСКИЙ-ЛИПЕЦ?
Ответ: Да, известен.
Вопрос: Не было ли у вас каких-либо личных споров с ПЕТРОВСКИМ-ЛИПЕЦ?
Ответ: Нет, не было.
Вопрос: ПЕТРОВСКИЙ-ЛИПЕЦ арестован, сознавшись в своей контрреволюционной работе он назвал вас в числе своих соучастников.
[Цитируется выдержка из показаний ПЕТРОВСКОГО:]
"Мной был использован в контрреволюционной работе среди молодежи недовольный политикой партии директор московского механического машинного [так в тексте] ин-та им. Баумана ЦИБАРТ".
Что вы можете показать по существу пред"явленных вам показаний ПЕТРОВСКОГО?
Ответ: Показания ПЕТРОВСКОГО-ЛИПЕЦ я отрицаю.
Вопрос: Вам пред"явлены показания ПЕТРОВСКОГО-ЛИПЕЦ, которыми вы изобличаетесь в том, что являлись активным участником антисоветской организации правых.
Отвечайте.
Ответ: Я участником антисоветской организации правых не был.
Вопрос: Вы были участником антисоветской организации правых и в этих целях осенью 1935 года ПЕТРОВСКИЙ-ЛИПЕЦ вас связал с троцкисткой Лидией ГОСВИАНИ [Гасвиани]. Требуем прекратить голое запирательство и дать правдивые показания.
Ответ: Осенью 1935 года будучи в Сочи ПЕТРОВСКИЙ-ЛИПЕЦ действительно познакомил меня с какой-то седой, красивой грузинкой, была ли это – мнимо [именно] ГОСВИАНИ, или кто-либо другой сейчас не помню.
Вопрос: Категорически требуем прекратить голое запирательство, предлагаем рассказать следствию при каких обстоятельствах вы были вовлечены ПЕТРОВСКИМ в антисоветскую организацию правых.
Вам не уйти от правдивого ответа, вы были активным участником организации правых и проводили вредительство в ин-те Баумана, в частности в 1934 году вы законсервировали строительство ин-та, на которое уже было затрачено около двухсот тысяч рублей. Так ли это?
Ответ: Действительно, в 1934 году я законсервировал начавшееся строительство ин-та Баумана. Это я сделал по прямой директиве ПЕТРОВСКОГО, который прекратил отпуск денег на строительство и не передал нам обещанных им зданий Мос. энергетического ин-та (МЭИ). Однако, выполнив эту вредительскую директиву ПЕТРОВСКОГО-ЛИПЕЦ, я все же участником антисоветской организации правых не был.
Эта консервация стоила государству сто восемнадцать тысяч (118 тыс.) рублей убытку.
Вопрос: Материалами следствия вы изобличены в том, что являлись участником антисоветской организации правых и проводили вредительство в ин-те им. Баумана.
Ответ: Я участником антисоветской организации правых не был.
Записано с моих слов правильно, мною прочитано. [Автограф] (ЦИБАРТ.)
ДОПРОСИЛ: ПОМ НАЧ ОТД-НИЯ 4 ОТДЕЛА ГУГБ
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ: [автограф] (ПОДОЛЬСКИЙ).»
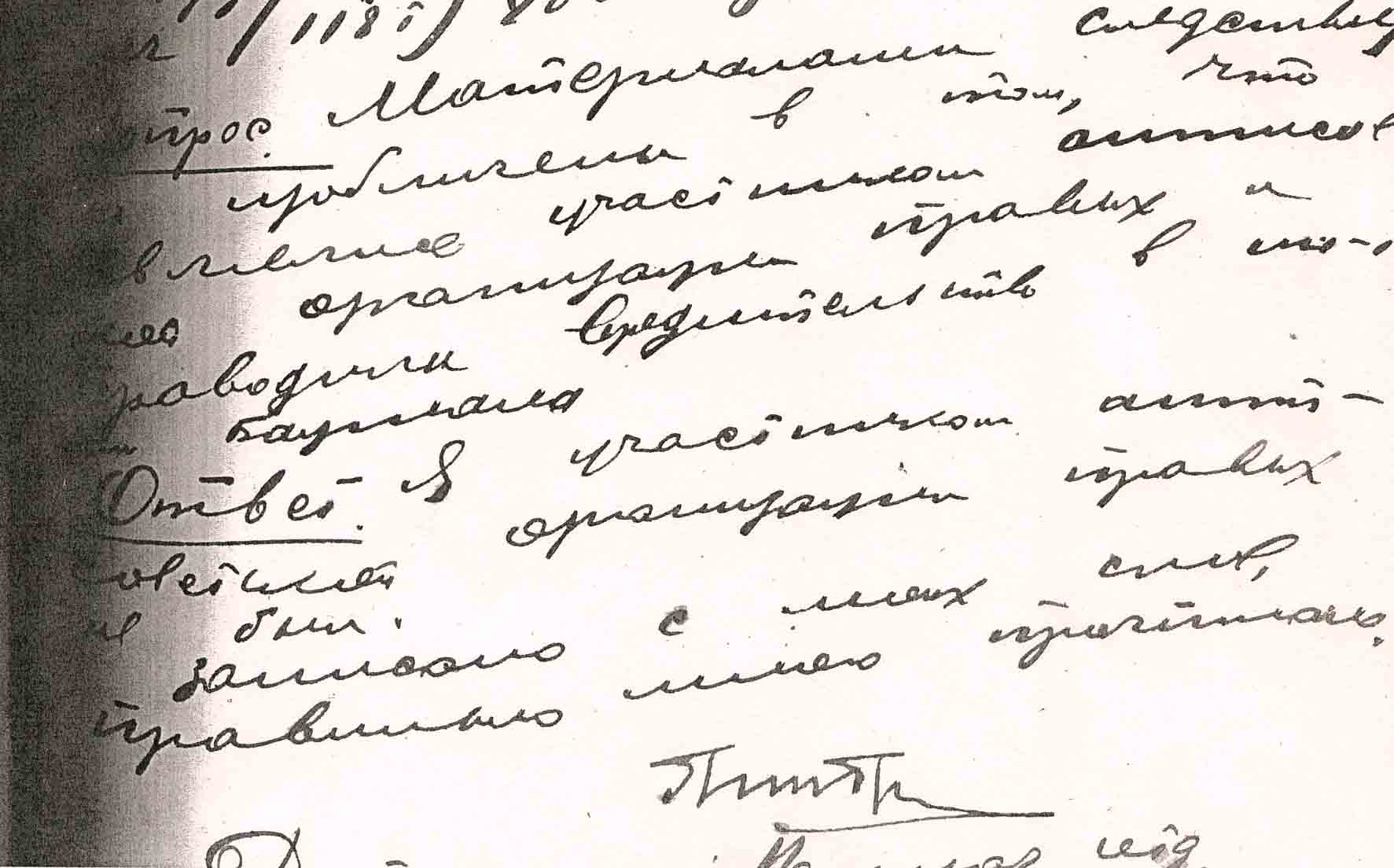
И еще «протокол» от 25 марта:
«Вам объявляется об окончании следствия по вашему делу, чем вы можете дополнить таковое?
Ответ. 25/III 38 г. Мне об"явлено об окончании следствия по моему делу. Добавить более чем показал ничего не могу.
Записано с моих слов правильно мною подписано»
Тут же Подольским выносится «Постановление об избрании меры пресечения и пред’явления обвинения» (заполненный бланк): Цибарт «...достаточно изобличается в том, что 1. Являлся участником антисоветской вредительско-террорист. организации правых; 2. По поручению центра организации проводил вредительство в ин-те Баумана и вербовал новых участников в антисоветс. организацию правых». «Постановил ЦИБАРТ привлечь в качестве обвиняемого по ст. ст. 58-8 через 19 УК, мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей». «Настоящее постановление мне об'явлено 25 марта 1938 г. [автограф: Цибарт]». (Т. 1, л. 83.)
Методы работы «органов» слишком хорошо известны. С середины 1937 года пытки подследственных негласно рекомендованы и входят в практику. Чтобы ограничиться лишь примером, близким к А.А., можно вспомнить упомянутого выше сотрудника Цибарта (К.И. Жебровского?) с его «чествовали и приветствовали…»; узнать его после пребывания на Лубянке было почти невозможно... Однако «царицы доказательств» следствие так и не получило – А.А. проявляет редкую в тех обстоятельствах стойкость.
Своей «вины» А.А. Цибарт не признал.
Считается, что противоположная линия самозащиты «троцкистов» и «вредителей», состоящая в том, чтобы на бредовые обвинения и пытки отвечать «чистосердечным признанием», оказывалась для них губительной. Ею недооценивалась степень коварства проводников государственного террора. Видимо, А.А. слишком верил в то, во что его товарищи по несчастью резонно не верили – якобы следствие действительно ищет хоть каких-то прегрешений против власти или идеологии, – потому и не принял на себя несуществующей вины. Но этой его (с нашей точки зрения) ошибкой объясняется сравнительная «мягкость» приговора, который последует...
(Впрочем, непреложной закономерности тут не было – так, еще до ареста А.А. была расстреляна супруга Петровского, насмотря на заступничество английских дипломатов и абсолютное непризнание ею какой-либо своей «вины»...)
Обвинительного заключения пришлось ждать еще два месяца. В это время А.А. находится в Бутырской тюрьме. Возможно, именно тогда были разрешены передачи (они в Бутырках одно время были запрещены, дозволялись только переводы до 50 рублей). Продукты и вещи принимались в каком-то дворе на Кузнецком мосту – может быть того дома, где ныне находится читальный зал Центрального архива ФСБ (и толпа родственников с фамилиями на одну лишь букву «Ц», как вспоминала жена А.А., забивала этот двор до отказа); значило ли это, что А.А. находился все-таки еще поблизости на Лубянке, или там лишь просматривали их перед отправкой в Бутырки, неясно.
За год до А.А. в Бутырской тюрьме содержался Варлам Шаламов, оставивший ее замечательное описание. В настоящем очерке его персона не совсем посторонняя – до ареста он был сотрудником того самого журнала НКТП «За промышленные кадры», возглавлявшегося Петровским, и полагал, что именно эта его «связь» и послужила причиной ареста. Слова из его характеристики жизни под следствием точно передают то чувство, которое возникает лишь при одном знакомстве с документами дела: «Все жутко реально, кроме самого "дела"» (рассказ «Комбеды»)...
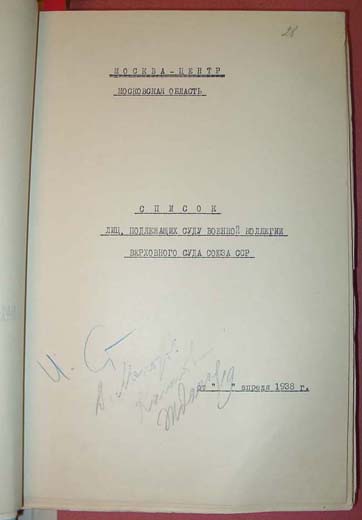
Ни единого документа в деле за эти месяцы нет. О том, как продвигалось тем временем дело Цибарта, можно узнать на сайте Мемориала* (см.: Сталинские списки).
Итак, в 8-м («учетно-регистрационном») отделе ГУГБ под руководством начальника отдела ст. майора гос. безопасности В.Е. Цесарского готовится очередной «сталинский расстрельный список»: «Список лиц, подлежащих суду Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР». Попадавших в этот перечень, после визы генсека и некоторых других членов политбюро, либо ждал расстрел по предрешенному таким образом приговору ВК ВС, либо, в значительно более редких случаях, заключение в ИТЛ на срок не менее 5 лет – по постановлению Особого совещания при наркомвнуделе. 19 апреля 1938 года список с Цибартом попадает на утверждение в Политбюро и получает санкцию Сталина, Молотова, Кагановича и Жданова – их подписи наискосок на заглавной странице. В «1-й категории», т.е. в числе тех, кого ждала смертная казнь, 104 человека по Москве и 10 по области. Среди москвичей встречаются и знакомые по этому очерку имена: вычеркнуты из списка (Сталиным?) В.И. Межлаук (преемник Орджоникидзе на посту наркома тяжелой промышленности) и М.Л. Рухимович (зампред ВСНХ, в 1930-м г. подписавший вместе с Петровским указ о разделении МВТУ и назначении Цибарта директором ВММУ); оба были внесены в подобный же список и расстреляны спустя несколько месяцев. В более счастливой «2-й категории» всего семь человек и среди них А.А. Цибарт.
Таким образом, судьба А.А. была уже решена не только до рассмотрения дела ОСО (о нормальном судопроизводстве уж не говоря), но даже до вынесения следствием обвинительного заключения. Следствие ожидало решения Сталина по списку.
Обвинительное заключение (т. 1, лл. 94, 95) последовало 29 мая. В нем следователь Подольский, указав на «вредительско-подрывную работу» А.А., «полагал бы», разумеется, что следственное дело Цибарта следует «представить на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР».
«ММ"4
"УТВЕРЖДАЮ"
ЗАМ. НАЧ. 4 ОТДЕЛА ГУГБ МАЙОР ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ: (ЖУРБЕНКО): Глебов [от руки]
29 мая 1938 года
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по след. делу ЦИБАРТА А.А. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-7 через 19-ю, 11 УК РСФСР.
В середине 1937 года, в 4-й отдел ГУГБ стали поступать материалы о том, что ЦИБАРТ Адольф Августович, немец, член ВКП(б), работавший директором Московского механического машинного [так в тексте] ин-та имени Баумана был связан с врагом народа ПЕТРОВСКИМ-ЛИПЕЦ и по его указаниям проводил вредительско-подрывную работу в институте имени Баумана.
После ареста упомянутый ПЕТРОВСКИЙ-ЛИПЕЦ дал показания, что он вовлек ЦИБАРТА в антисоветскую вредительско-подрывную работу, проводившуюся им в институте Баумана.
На основании этих материалов ЦИБАРТ Адольф Августович арестован.
При обыске у ЦИБАРТА обнаружены дневники и тетради с контрреволюционными, мистического характера, записками, написанными лично ЦИБАРТОМ.
На допросе отрицая свое участие в антисоветской организации правых, ЦИБАРТ признал, что будучи связан с врагом народа ПЕТРОВСКИМ-ЛИПЕЦ, он в 1934 году, по его прямым директивам, законсервировал строительство ин-та им. Баумана, причинив этим убыток государству в сумме 118 тыс. рублей /л.д. ______________ /.
Учитывая, что пред"явленное обвинение ЦИБАРТУ А.Л. [так в тексте] полностью доказано.
ПОЛАГАЛ - БЫ:
Следственное дело о ЦИБАРТЕ Адольфе Августовиче, 1892 года рождения, ур. Польши, немца, б. члена ВКП/б с 1917 года, обвиняемого по ст. 58-11 и 58 п.7 представить на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР.
ПОМ. НАЧ. 10 ОТД 4 ОТДЕЛА ГУГБ –
СТ ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУД. БЕЗОПАСНОСТИ: [автограф] /Подольский/
"Согласен"
НАЧ 10 ОТД 4 ОТДЕЛА ГУГБ –
КАПИТАН ГОСУДАР БЕЗОПАСНОСТИ: [автограф] /Бартошевич/»
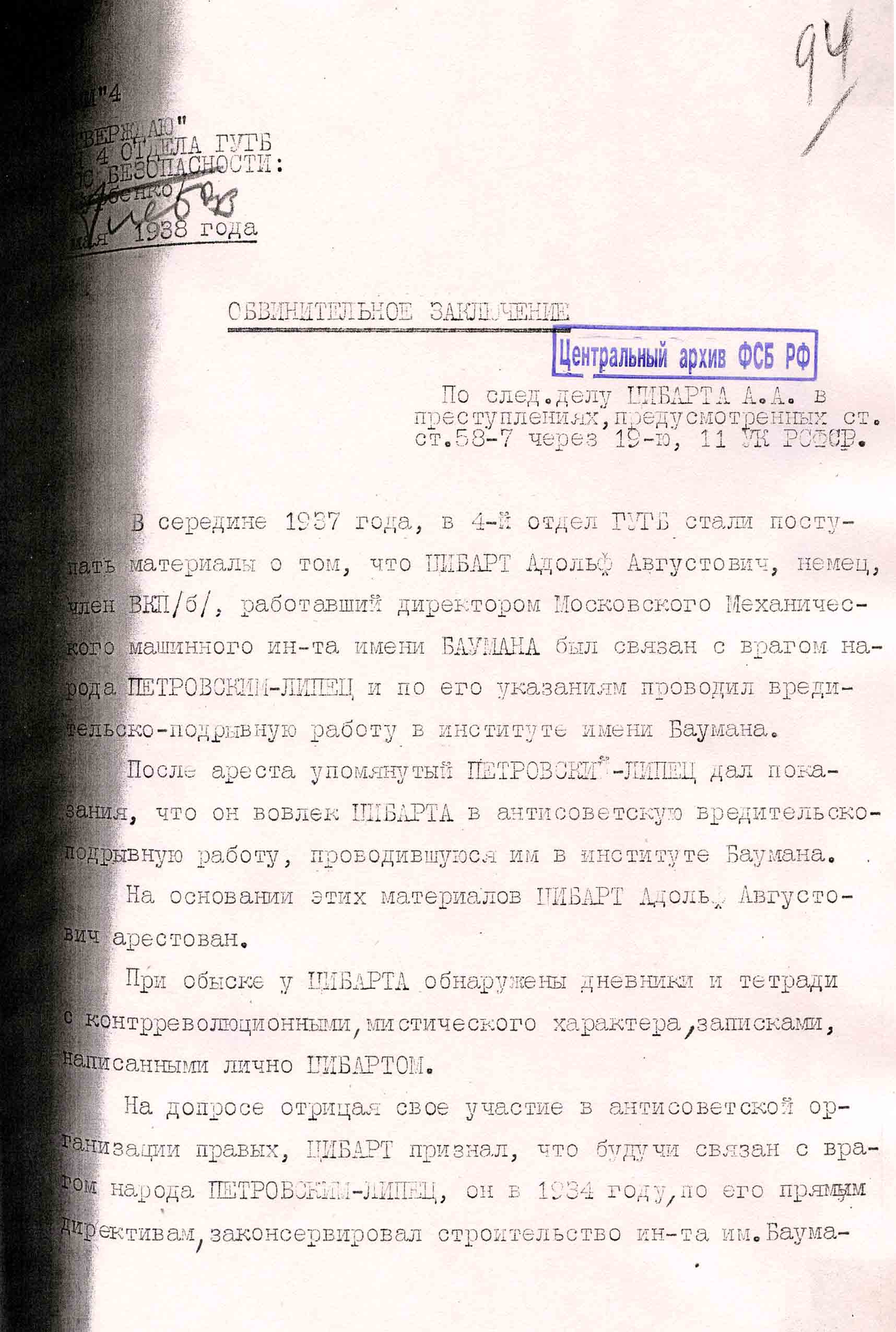
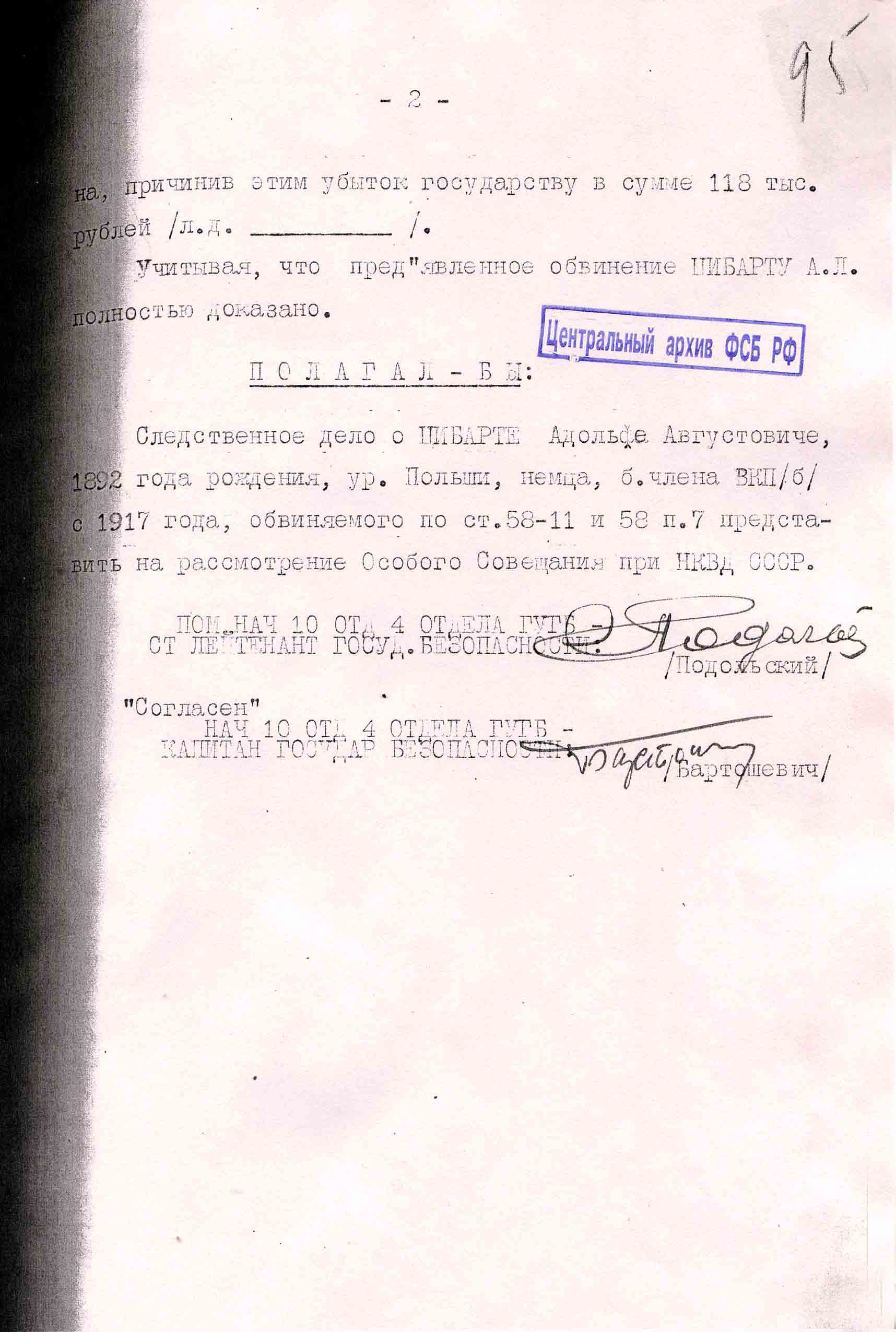
О степени тщательности «расследования» можно судить уже по той характерной детали, что за полгода работы следователь так и не выучил наименования института, в котором вел «антисоветскую вредительско-подрывную работу» его директор: упорно пишет «механического машинного» вместо «механико-машиностроительного».
Наконец, еще через месяц с лишним, 7 июля 1938 г., последовало и само постановление Особого совещания (т. 1, л. 96) – точнее, выписка из коллективного приговора, в котором дело А.А. числится под номером 57, – на типографском бланке в половину писчего листа, в который впечатано на машинке, что «слушали» – в левой колонке, и что «постановили» – в правой. Все темы обвинения сведены к неопределенному: «к.р. деятельность». Выписка направлена в Бутырскую тюрьму («Бут. т.» от руки) – последнее место пребывания А.А. в Москве, – «для направления» на Колыму.
«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Особого совещания при Народном комиссаре внутренних дел СССР
От "7" июля 1938 г.
СЛУШАЛИ
57. ДЕЛО N 10581-ц о ЦИБАРТ Адольфе Августовиче, 1892 г.р., б. чл. ВКПб.
Паспорт
Выписка направлена Бут. т. [Бутырская тюрьма] 31/VII 1938 для направления в Колыма
ПОСТАНОВИЛИ
ЦИБАРТ Адольфа Августовича за к.р. деятельность заключить в исправтрудлагерь сроком на ПЯТЬ лет, сч. срок с 14.XII-37.
Дело сдать в архив.
Отв. секретарь Особого совещания [автограф] И. Шапиро»
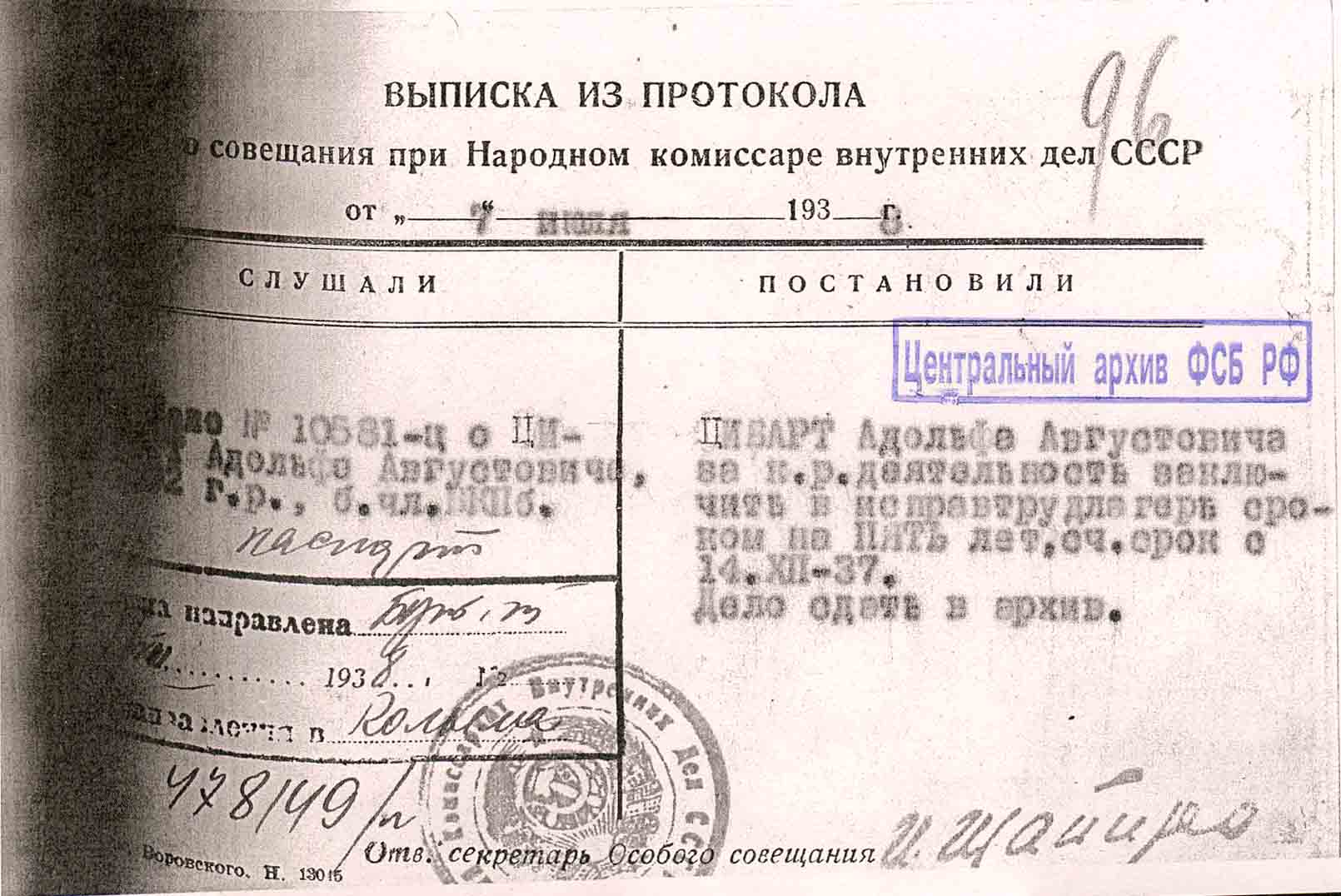
Повторим, в ежовское время ОСО (Особое совещание при НКВД СССР), в соответствии со «2-й категорией» в т.н. Сталинских списках, приговаривало, заочно, без адвоката, и рассматривая по нескольку десятков и даже сотен дел в день, к лишению свободы на срок от 5 лет (расстрельные приговоры были прерогативой Судебной коллегии ВС), и не могло конфисковать имущество. А.А. Цибарт получил минимальный в пределах полномочий ОСО срок, причем семь месяцев следствия были засчитаны в срок заключения.
(Что до имущества – то частично оно было-таки конфисковано: большая библиотека была вывезена во время ареста и семье не возвращена, поскольку «не составлялась опись». Так что совет А.А. супруге «продавай книги и корми детей», который он повторял первое время в письмах из лагеря, не пригодился. Две комнаты в квартире А.А. были опечатаны и в квартиру была подселена другая семья.)
Примечательно, что, хотя в предваряющей арест «Справке» НКВД дружба Цибарта с Червяковым, на которую так напирали институтские партийцы, упоминается даже впереди его отношений с Петровским, – ни в мартовском допросе, ни в обвинительном заключении об этом нет ни слова. Случайная встреча Цибарта с Гасвиани превратилась, как оно и положено было, в «крепкую организационную связь», тогда как его прилюдные «лобзания» с Червяковым даже не упомянуты. Вообще весь «белорусский след» (Червяков, Кнорин, Вайнштейн, И. Адамович...) следствием либо не разрабатывался, либо в конце концов не попал в дело. Складывается впечатление, что это произошло по какой-то команде сверху: либо завершать кампанию по истреблению белорусских большевиков, либо отвести именно от Цибарта расстрельный приговор.
* * *
В дальнейшем, в письме к дочери из лагеря, А.А. характеризует дело так: «под судом не был»; «я по существу без всякой вины выброшен из общества, заклеймен позором...».
Вместо назначенного ОСО срока в 5 лет, А.А. пробыл в заключении, считая со дня ареста и до его исчезновения, более девяти. Об обстоятельствах продления срока, подробностях жизни в Магаданском лагере, надеждах на освобождение, связях с семьей и пр. будет говориться в следующих рубриках. А здесь начнем с его, так сказать, рабочей биографии.
О жизни А.А. в заключении до времени начала войны сведений почти не осталось. Личное лагерное дело Цибарта было уничтожено в 1955-м году, архивная учетная карточка, содержавшая в т.ч. сведения о его перемещениях между лагерными пунктами – в 2014-м (последнее пока точно не установлено; об этом см. в рубрике «Когда А.А. Цибарт был освобожден?»). Бо́льшая часть писем А.А. (до 1943 г.) утрачена, причем на какой-то период с 24 июня 1941 года переписка осужденных в месте его заключения была и запрещена. С этого времени место заключения А.А. в Севвостлаге – Магаданский лагерь, Маглаг (единое управление которого образовано 7 апреля 1941 г. для всех лагерных подразделений Магаданского района – см. Козлов; в письмах А.А. 1943-45 гг. его обратный адрес – п/я № 261/3). Соседи по бараку – инженеры и уголовники. Можно только сказать, что, по свидетельству А.А. из его письма к семье 1945 г., условия существования в главном не менялись в течение всех лет его заключения, «все так же как было в 1938, 1939, 1940 году», а вторую половину заключения (которое в целом окажется почти в два раза более долгим, чем назначенный срок), А.А. в Магадане на положении лагерника, работает инженером. В этом отношении, А.А. постигла не самая страшная лагерная участь («физически конечно не работаю»). Все же, был ли он инженером с самого начала срока, неясно.
О местах работы А.А. в Магадане есть и более подробная информация. В распоряжении № 410 зам. начальника Главного управления строительства Дальнего Севера (ГУС ДС) НКВД СССР С.Е. Егорова (см. ГАМО) от 3 сентября 1941 г. упоминаются две, а можно сделать вывод и обо всех организациях (если поначалу то не были общие работы), в которых трудился Цибарт. Этим распоряжением Цибарт в числе 11 инженеров-заключенных переводится из управления «Колымпроект» ГУС ДС в Центральную научно-исследовательскую лабораторию (ЦНИЛ) ГУС ДС.
«Колымпроект» возник не сразу. В структуре Управления горнопромышленного строительства Дальстроя существовал проектно-изыскательский отдел, в задачу которого входило проектирование первых горнорудных предприятий, энергетических баз, линий передач и др. В 1938 году, когда А.А. оказывается в лагере, проектный отдел перебазируется из пос. Усть-Утиная в Магадан, и в этом же году передан в отдел капитального строительства ГУС ДС, где разрабатывал проектную документацию всего капитального строительства Дальстроя. В 1939 г. на его базе образовано управление «Колымпромпроект» ГУС ДС, а в 1940 г. управление и реорганизовано в «Колымпроект». Поскольку А.А. позже сообщает в письме домой, что его положение в принципе с 1938 года не менялось, то именно в этих организациях (организации) он скорее всего и трудится вплоть до распоряжения Егорова.
Итак до 3 сентября 1941 г. А.А. Цибарт работает в Конструкторском бюро Управления Дальстроя «Колымпроект». Именно конструкторское бюро называется в тексте распоряжения Егорова; кстати, в нем он и характеризует деятельность этого КБ. По его оценке, «созданное при управлении Колымпроект конструкторское бюро не занималось особыми возложенными на него задачами по проектированию и конструированию оборудования металлодобычи и разработке актуальных тем, а выполняло текущую проектную работу по программе и плану Колымпроекта».
Считая эту практику неправильной, Егоров приказывает «организовать из существующего конструкторского бюро группу конструкторов, способных разрабатывать новейшие конструкции приискового и обогатительного оборудования и решать актуальные проблемы, вытекающие из добычи малого и большого металла», а «указанную группу влить в систему ЦНИЛ». В списке из 11 «специалистов з/к з/к» (заключенных), вошедших в это новое конструкторское бюро, значится инженер-теплотехник А.А. Цибарт. (Фамилия и год рождения с ошибками.)
Как известно из других источников, лаборатория была создана в 1940-м году в целях «систематического изучения состава и исследования обогатимости полезных ископаемых районов Колымы, Индигирки и Чукотки и обобщения накопленных материалов»; в 1948 году на ее базе создается НИИ «Северовостокзолото».
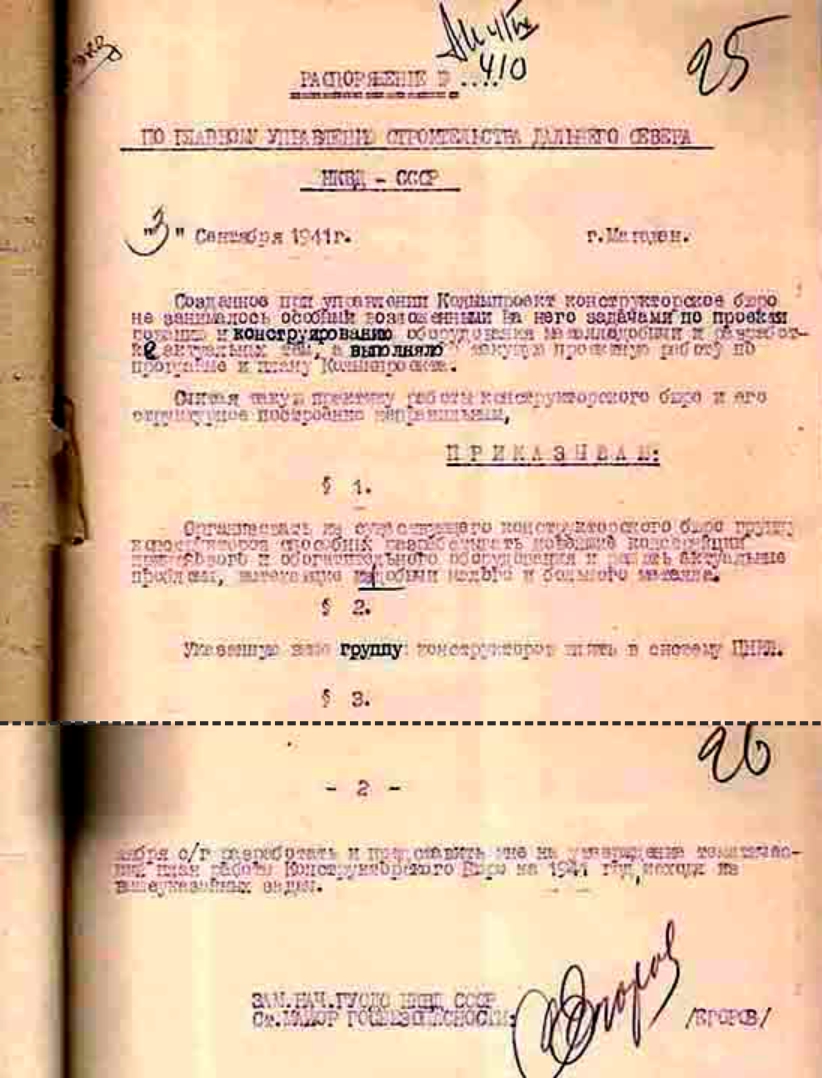
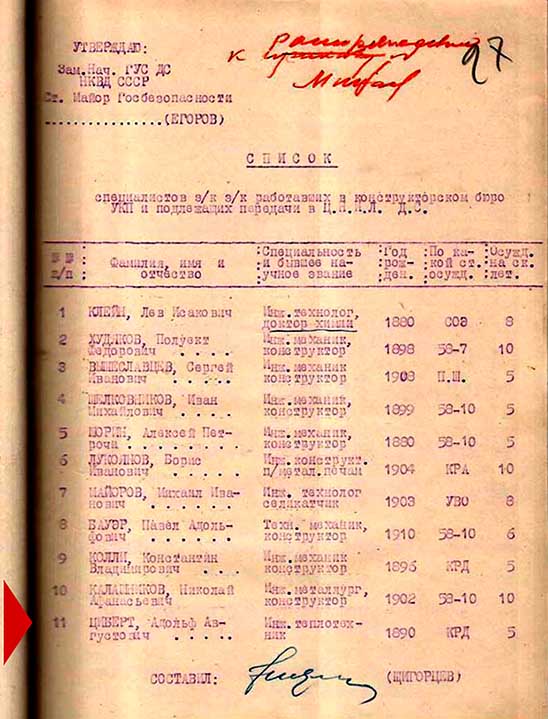
Архив НИИ «Северовостокзолото» унаследовал фонды ЦНИЛ, однако никаких сведений о Цибарте работниками этого архива в них не обнаружено. Это связано (надо полагать) с тем, что в 1943 году Конструкторское бюро переходит из ЦНИЛ ДС в прямое подчинение Дальстроя (см. ГАМО). «С 1 марта 1943 года, видимо, Конструкторское бюро перешло из ЦНИЛ в непосредственное подчинение Дальстроя (приказа в архиве нет)... В "Смете административно-управленческих расходов Главного управления Дальстроя на 1943 год с 1 марта 1943 г. по 1 января 1944 г." значится "Конструкторское бюро" (в расчете к смете Конструкторского бюро указаны должностные оклады штата вольнонаемных и штата заключенных, без фамилий, а также имеется строка "Оплата передаваемого ЦНИЛ инвентаря" (Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1431. Л. 116, 118)» (вед. архивист ОГКУ «ГАМО» Г.Ю. Зеленская).
Таким образом, после Колымпрпоекта, с 3 сентября 1941 г. А.А. Цибарт работает инженером-теплотехником в Конструкторском бюро ЦНИЛ ДС – Центральной научно-исследовательской лаборатории Главного управления строительства Дальнего Севера НКВД СССР, – а с 1 марта 1943 г. – в той же должности и в том же Конструкторском бюро, но уже находящемся не в составе ЦНИЛ, а в ведении центрального аппарата Дальстроя.
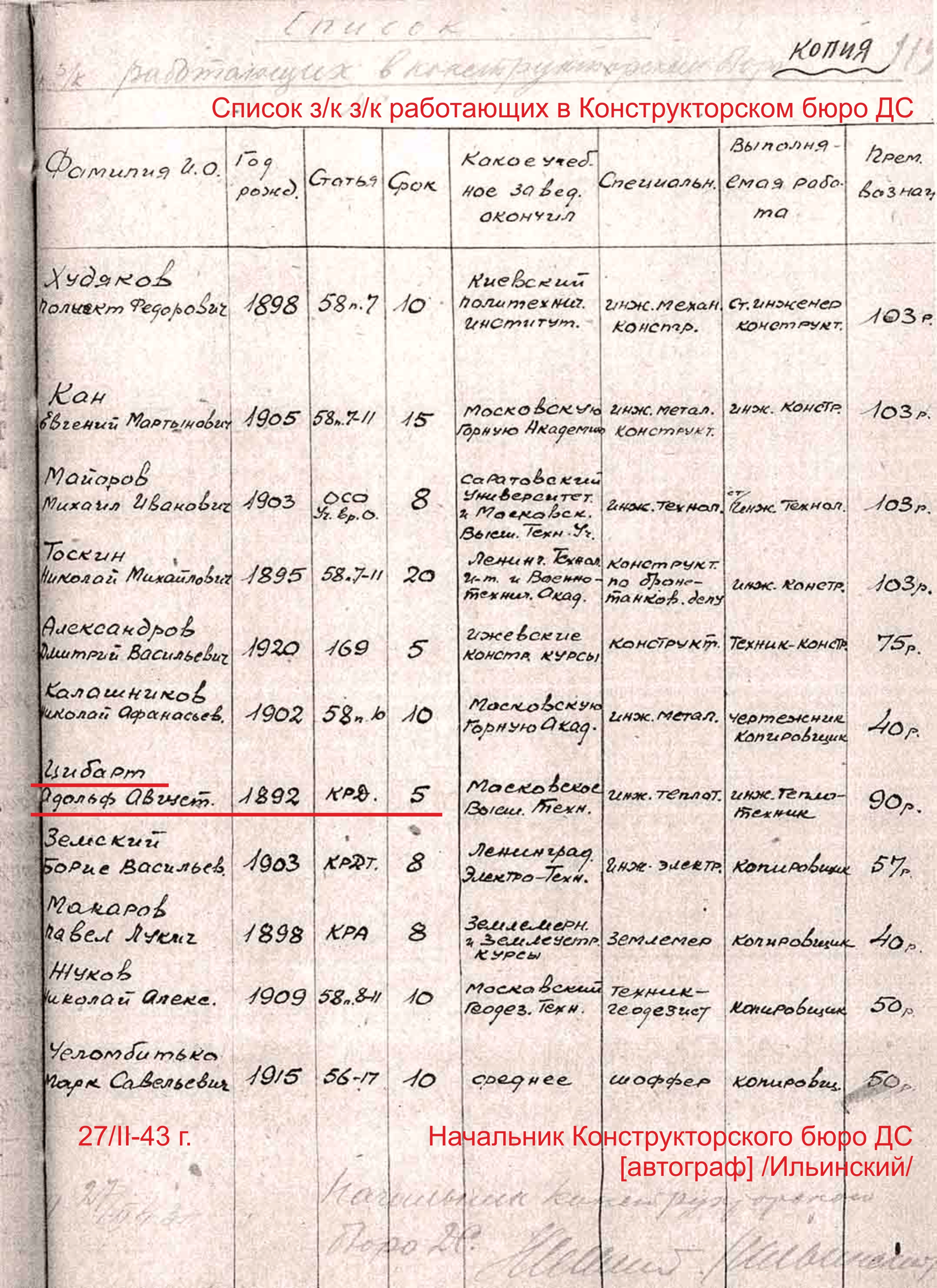
За это время трое из бывших заключенных – сотрудников КБ отбыли срок заключения и остались (другого выхода у них и не было) в качестве вольнонаемных в этом же КБ. Перед их ФИО в документах вместо «з/к» появляется уважительное «тов.», а вместо «премвознаграждения» в 103 и менее рублей – указывается «оклад зарплаты» в 1760 и 1670 рублей. Почему в этот же разряд вольнонаемных не был переведен Цибарт, если относительное формальное освобождение было все-таки возможно, – неясно. – Начальником КБ вместо Н.И. Щигорцева, бывшего им в 1941-м году, становится Н.Н. Ильинский (с «окладом зарплаты в 2200 рублей»). Состав КБ в это время – 4 вольнонаемных, включая начальника КБ, и 11 заключенных, из которых 5 инженеров, включая Цибарта, 1 техник-конструктор и 5 копировщиков. Ознакомиться со сканами и распечаткой рассматриваемых здесь архивных документов можно на этом сайте.
Из всех пяти заключенных – инженеров КБ А.А. один получает «премвознаграждение» в 90 рублей вместо 103-х. Видимо, это предопределилось отсутствием у него научной степени и инженерной практики. Кстати, среди заключенных – сотрудников КБ в это время двое имели высшее техническое образование и работали до лагеря инженерами, но были в КБ ДС копировщиками с «премвознаграждением» всего в 40 и 57 рублей.
Специальность А.А. Цибарта во время работы в Конструкторском бюро ЦНИЛ ДС и затем непосредственно ДС – как сказано, инженер-теплотехник (А.А. пишет также и «инженер-механик») «на исследовательской и расчетной работе по теплотехнике, холодильному делу и вечной мерзлоте». «Работаю главным образом по теоретическим и расчетным вопросам. Даю техническую экспертизу по разным вопросам, консультации другим инженерам и проч.» «Работаю по специальности инженером и на мое счастье также по научно исследовательской работе.» «По роду службы приходится много читать, хотя выбор книг здесь очень ограничен.» «Доволен своей судьбой, так как после возвращения к вам начну жизнь имея в руках опять специальность» (цитаты из писем к семье). Между прочим, «начальство относится ко мне хорошо, все время я двухсотник» (т.е. выполняет двойной план).
...Топография. – Колымпроект располагался в трех деревянных зданиях в Школьном переулке (выходящем на ул. Сталина), до нашего времени они не дошли (см. Глущенко). Во время последующей работы в КБ ДС обратный адрес в письмах А.А. 1944 и 1945 гг. – Магадан, Конструкторское бюро Дальстроя, Сталинская, 5. Наряду с улицей Сталина (переименованной в 1938 г. ул. Берзина), в это время в Магадане существовала и более ранняя Сталинская улица, но дом № 5 по Сталинской принадлежал (по крайней мере в 1938 г.) Охотско-Колымскому краеведческому музею. (В газете «Советская Колыма» от 22 сентября 1938 г. размещено объявление: «Охотско-Колымский краеведческий музей /Сталинская, д. 5/ открыт для посетителей с 12 до 19 час. В первый день шестидневки музей закрыт» – см. Глущенко.) Во время Великой Отечественной войны Музей находился уже по другому адресу – ул. Сталинская, 32 (справка любезно предоставлена автору сотрудниками Магаданского областного краеведческого музея, бывш. ОККМ). Так что, если с 1938 по 1944 гг. нумерация домов по Сталинской не изменилась, Конструкторское бюро во время работы в нем Цибарта находилось в бывшем здании Музея. В 1934 г. и, судя по датам, указанным в статье Будниковой (см.), до 1938-го года это здание выглядело так:
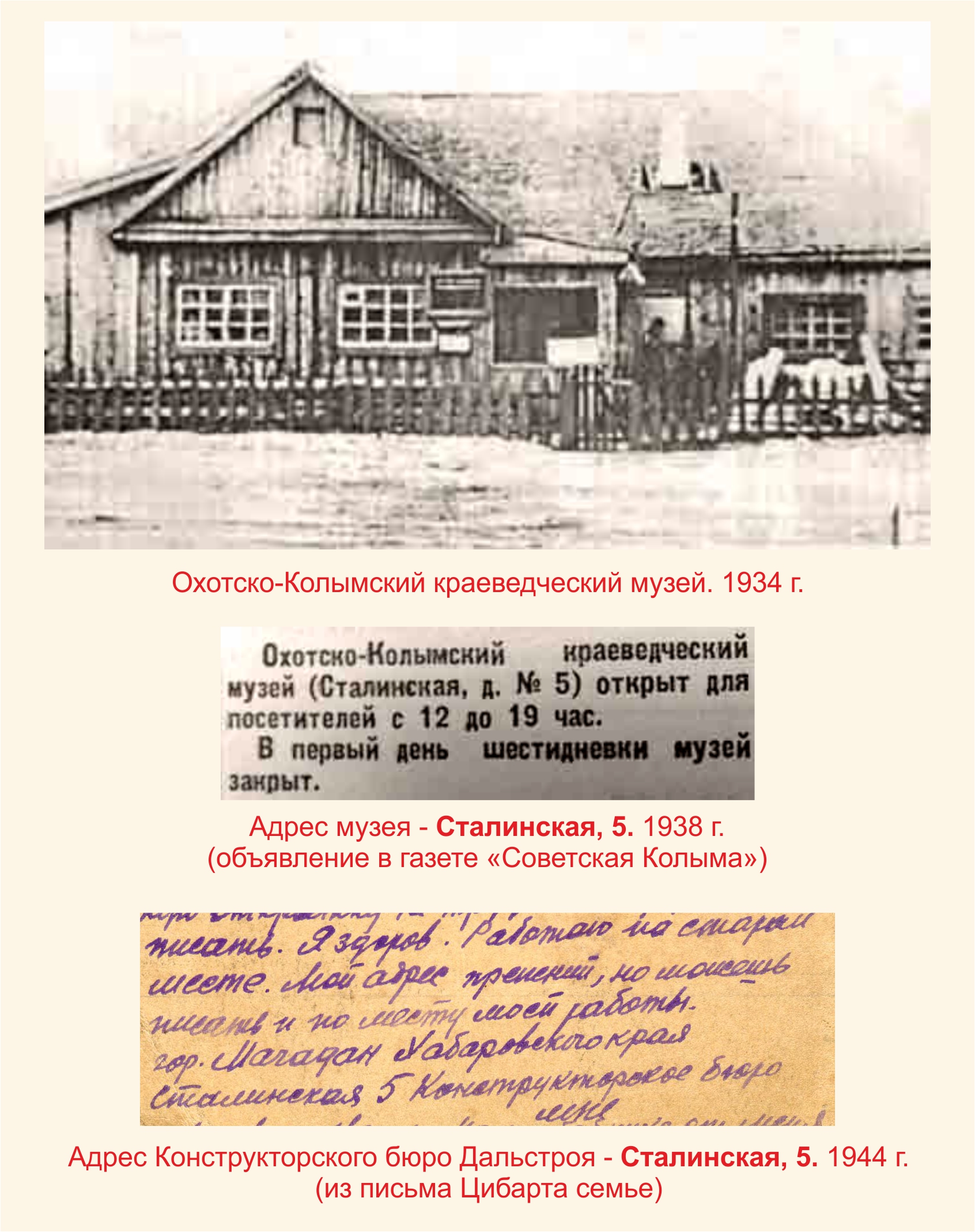
1. Охотско-Колымский краеведческий музей
Фото Г. Фоменко, 1934 г. Взято из статьи: Будникова С.В. Первый музей Колымы
2. Объявление в газете "Советская Колыма" (Глущенко, Колымский хронограф). 1938 г. Адрес "Сталинская, 5"
3. Фрагмент письма А.А. Цибарта, 1944 г. Адрес Конструкторского бюро Дальстроя "Сталинская, 5"
Причем в 1950-м году, как это почти точно можно определить по другому фото из той же статьи («Директор Музея Хмелинин в музейном садике...»), Музей оставался в этом же доме – т.е. Музею принадлежал также и этот дом. Можно предположить, что по военному времени КБ располагалось в одном из помещений Музея в этом доме, но...
А можно, имея в виду соседство бараков Колымпроекта и обширной технической (и не только) библиотеки ДИТР, предположить и то, что А.А. все-таки имел в виду именно ул. Сталина. Это мнение самых авторитетных специалистов по истории Магадана: Г.Ю. Зеленской, вед. архивиста ГАМО, и С.В. Будниковой, зам. нач. МОКМ по науке. С.В. Будникова указывает, между прочим, на то, что в здании Музея не было достаточно места на размещение КБ с его 15-ю сотрудниками.
С тех пор улица Сталина стала частью проспекта Маркса, нумерация домов изменила направление, на месте многих зданий новая застройка. На запрос в ГАМО относительно здания КБ ЦНИЛ (в предположении, что КБ располагалось именно по ул. Сталина) был получен следующий ответ: «Наиболее соответствует запросу снимок, опубликованный в "Колымском хронографе" Глущенко А.Г. "Открытие Дома ИТР [инженерно-технического работника]". Мы предполагаем, что это здание ДИТРа имело адрес ул. Сталина, 5 и там могло располагаться Конструкторское бюро. Снимок сделан со стороны школы № 1, построенной в 1937 году и имевшей адрес ул. Сталина, 4. Напротив справа виднеется стена Дома культуры им. Горького (ныне Магаданский музыкально-драматический театр), предполагаем, что у него адрес был ул. Сталина, 7 (еще не установили). В здании ДИТР в 1939 году находился Дом книги, а потом и библиотека, которая в 1941 г. переехала в здание Дома культуры. Здание освободилось, и вполне возможно ЦНИЛ могла занять опустевшее здание» (Г.Ю. Зеленская). На месте этого дома по улице Сталина, 5 (ныне просп. Маркса), представлявшем собой вместительный одноэтажный щитовой барак на углу со Школьным переулком, как и соседних с ним, стоят шестиэтажные кирпичные дома.

В центре фото – Магадан, Школьный пер., бывшая ул. ДИТР, 1 (вверх) – ул. Сталина, 5 (?). С 1941 г. предположительно КБ ЦНИЛ ДС.
Сведения: ГАМО; МОКМ; Глущенко (см.). Фото 1960-х гг. из архива Т. Вавуло (с сайта "Колымский хронограф")


ДИТР, затем Дом книги и библиотека, и затем (предположительно) Конструкторское бюро ДС
располагались в здании по просп. Маркса (в то время ул. Сталина), на месте которого ныне кафе «Сказка»
(сведения: ГАМО; сайт kolymastory.ru)
29 марта 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР А.А. Цибарт лишен и награды – ордена Трудового Красного знамени.
Само дело о лишении Цибарта ордена, судя по материалам ГА РФ, началось не позже 1939-го года. Какое отношение имели к нему партийцы МММИ (парторг МММИ вопрошал «за что вам, т. Цибарт, орден дали?» еще в марте 1937-го), была ли то их инициатива, нам неизвестно, поскольку архивные дела парторганизации Бауманского за 1938-й, 1939-й и 1940-е годы не сохранились.
Надо полагать, что лагерное начальство ознакомило А.А. с этим Указом, и вряд ли такое известие осталось для него безразличным.
В мае 2018 года автор настоящего очерка обратился в Управление Президента РФ по государственным наградам с просьбой отменить этот Указ. Просьба была принята к рассмотрению, Управлением были запрошены архивные материалы по этому делу. 20 апреля 2021 г., в ответ на дополнительный запрос, из Управления пришел очень любезный и обнадеживающий ответ: «... Заседание указанной Комиссии состоялось только [в связи с приостановкой заседаний из-за пандемии] 15.02.21 г., в ходе которого, в основном своем большинстве, члены данной Комиссии поддержали предложение о восстановлении в правах на орден Трудового Красного Знамени Цибарта А.А. / Вместе с тем часть членов Комиссии предложили запросить дополнительную информацию о дальнейшей судьбе Цибарта А.А. после отбывания срока заключения в Севвостлаге. / В связи с чем Управлением были направлены соответствующие запросы в компетентные органы. / С учетом полученной нами информации будет готовиться соответствующее решение для доклада руководству. / О принятом решении Вам будет сообщено дополнительно. ...»
27 мая 2022 года Указом Президента РФ В.В. Путина А.А. Цибарт был восстановлен в правах на Орден Трудового Красного Знамени.
Никаких сведений о послелагерной судьбе Цибарта президентской Комиссии обнаружить не удалось.
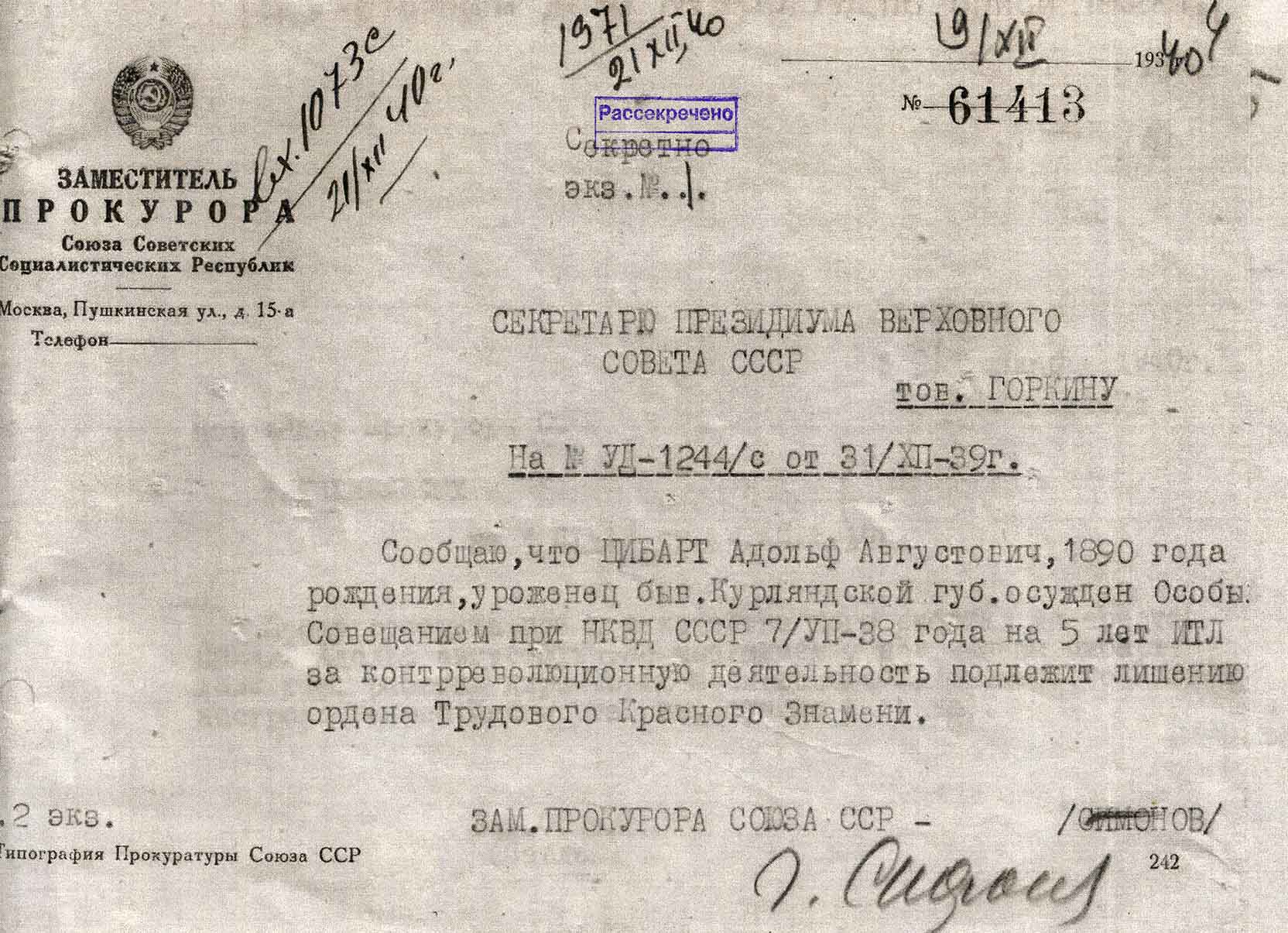
ГА РФ, ф. 7523сч оп. 60 д. 1404 л. 4
(Дата и место рождения указаны неправильно...)
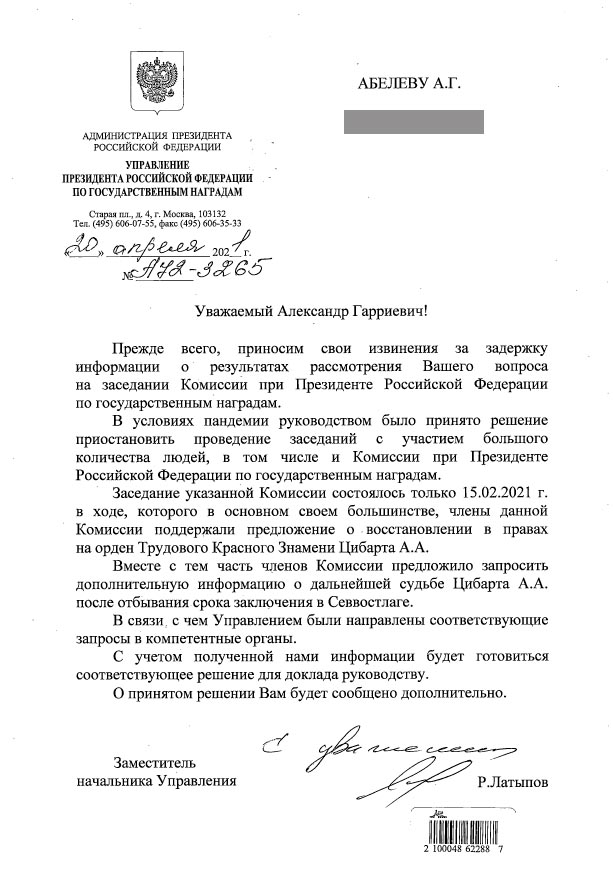
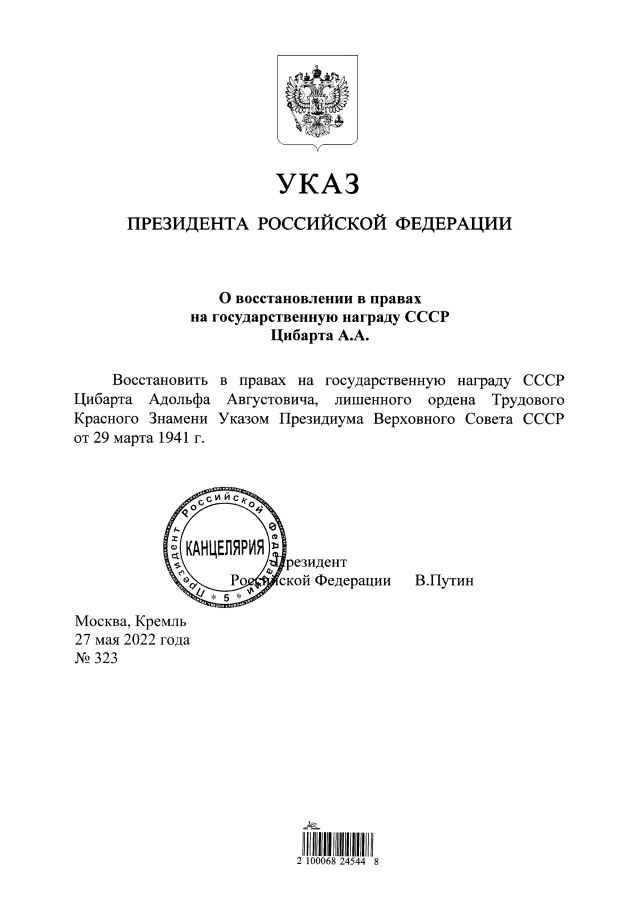
Указ Президента РФ В.В. Путина о восстановлении А.А. Цибарта в правах на орден
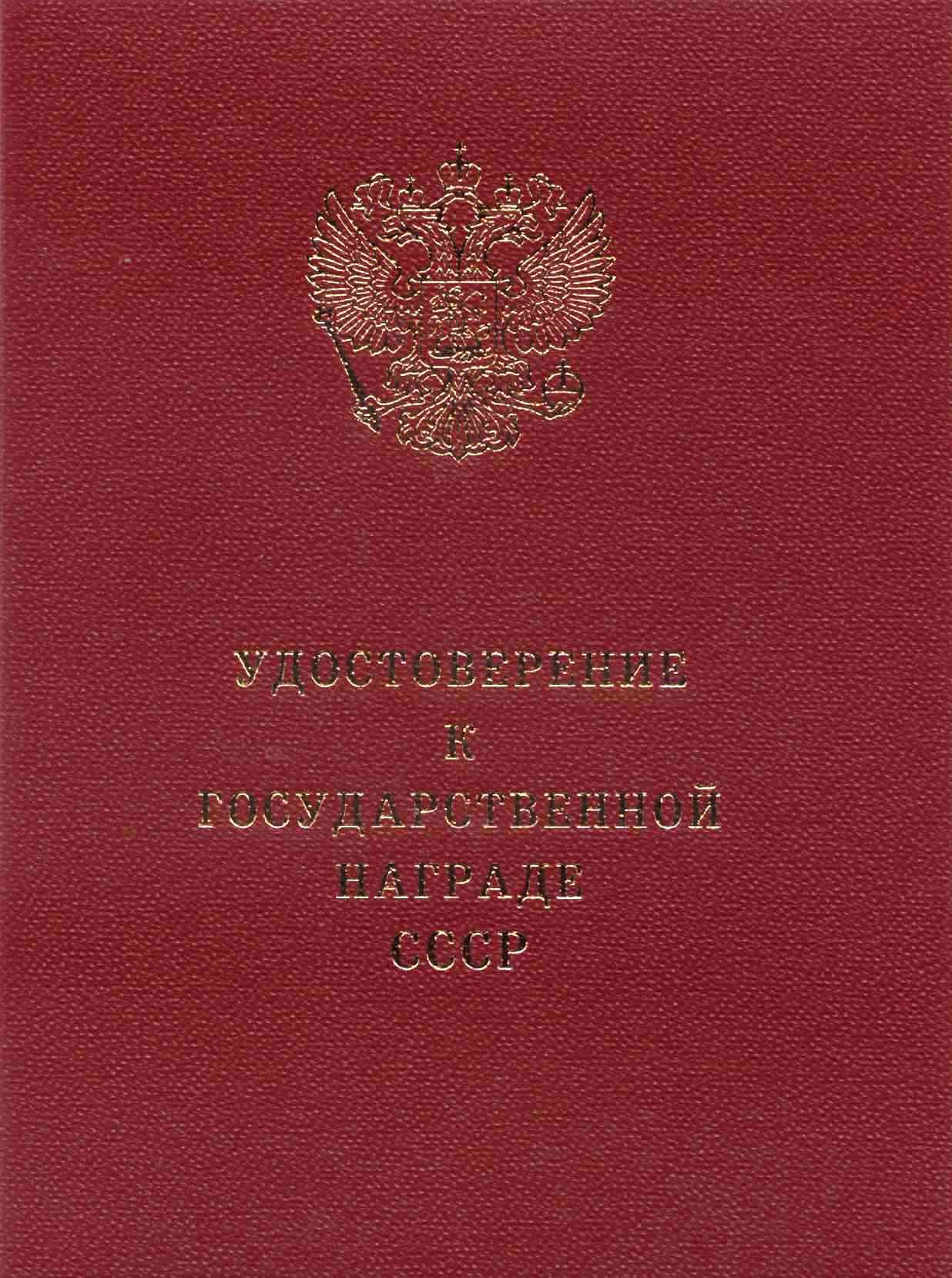

Удостоверение к Государственной награде СССР (обложка, разворот)
«Цибарт Адольф Августович / Награжден / орденом / Трудового Красного Знамени СССР / Постановлением / Президиума ЦИК СССР / от 29 октября 1933 года / Награда № 342 / Президент Российской Федерации [автограф: В. Путин]»
Удостоверение заполнено 1 июня 2022 г.
14 декабря 1942 г. наступал конец срока заключения. Однако А.А. освобожден не был, без предъявления ему новых обвинений и с устным уведомлением (в чем «дали расписаться»), что задержание продлится до конца войны.
Причины не назвали – она была «совершенно секретна». В первый же день войны, 22 июня 1941 г. нарком внутренних дел и прокурор СССР отдают секретный (и до сих пор не опубликованный) приказ за № 221, предписывающий не освобождать некоторые категории заключенных впредь до особого распоряжения. 24 июня 1941 г., «в развитие» этого приказа (прямая ссылка на него), последовал приказ с грифом «Сов. секретно» № 0052 по Главному Управлению Строительства Дальнего Севера НКВД СССР, г. Магадан, подписанный нач. ГУС ДС Никишовым, нач. Управления НКВД по СДС Окуневым, нач. Севвостлагерей Драбкиным и прокурором Дальстроя и Севвостлагерей Липатовым. В параграфе первом приказа означено: «прекратить освобождение из лагерей контрреволюционеров (всех п.п. 58-й ст. УК РСФСР), бандитов (всех п.п. 59-й ст. УК РСФСР), рецидивистов и др. опасных преступников»; параграф 5-й – «прекратить всякую переписку заключенных» (см. Бацаев, Козлов).
Относительно запрета на переписку заключенных. – Этот приказ какое-то время действовал, несмотря на то, что уже 6 июля 1941 г. была введена военная цензура для почтовых отправлений и никакой необходимости в нем уже не существовало. 14 июля 1941 г. зам начальника ГУ Дальстроя Корсаков замечает: «...заключенные получают письма с "материка" и из других лагерей в адреса учреждений и предприятий, где они работают, а секретари этих организаций, вместо передачи писем администрации лагеря, вручали их заключенным. Такая система практиковалась в лесном отделе, в Горкоммунотделе, Месткоме, Колымпроекте, Гражданстрое, на заводе №2 и друг. предприятиях». Вывод сравнительно мягкий: «материалы в отношении членов партии и комсомольцев, снабжавших з/к з/к и дававших им возможность устанавливать связь незаконным порядком, на первый раз передать по принадлежности партийным и комсомольским организациям для рассмотрения вопроса» (см. Козлов). – Видимо, в этот период А.А., работавший в Колымпроекте, получает телеграмму от Захара Малинковича, где тот сообщил, что семья жива и здорова.
29 апреля 1942 г. последовала новая директива НКВД и Прокуратуры СССР № 185 от 29.04.42 г.: «1. Заключенных, отбывших срок наказания, задержанных в лагерях, тюрьмах и колониях, согласно директивы №221 от 22.06.41 из-под стражи освободить за исключением осужденных за измену, террор, шпионаж, диверсию, троцкистов, правых и бандитов, объявив последним, что они оставлены под стражей до окончания войны. 2. Всех отбывших сроки наказания заключенных, освобождаемых в соответствии с п. 1 настоящей директивы, оставлять для работы в лагерях НКВД на положении вольнонаемных без права выезда и с прикреплением до конца войны к районам работ лагеря-стройки...» (см. сайт Красноярского о-ва «Мемориал»*). Как «троцкисту» или «правому» А.А. даже этот статус принудительно-вольнонаемного не полагался. Согласно справке из Государственного архива Магаданской области (полученной семьей в 2017 г.; см.), в каталоге личных карточек и описях личных дел вольнонаемных работников Главного управления строительства Дальнего Севера (ГУС Дальстрой) вплоть до 1957 г. Цибарт Адольф Августович не присутствует. Также в Сеймчанском районном музее, как сообщает С.В. Будникова, «хранятся карточки спецпоселенцев. Многие освободившиеся з/к попадали на спецпоселения, без права выезда. Они имели право работать, жить "свободно", но только в месте, отведенном для этого. Фамилия Цибарта в картотеке музея не значится». С обнаружением же приведенных выше списков заключенных – сотрудников Конструкторского бюро ДС – вопрос о статусе Цибарта после 1942 года окончательно закрыт. Фактически и формально Цибарт остается заключенным. Имеются «жалованье в 90 рублей в месяц» (которое «идет на прикупку недостающей пищи») и отпуск в 14 дней без работы, но в бараке («даже заключенным у нас дают отпуск!»)... Как пишет А.А. семье, «если бы я не был заключенным, то вероятно занимал бы хорошую должность с большим окладом (здесь ставки вдвое выше, чем на "материке"). Мог бы ежемесячно солидно помогать Вам!».
(Из упомянутого жалованья – в бумагах Дальстроя «премвознаграждения» – А.А. успел скопить за все годы 340 рублей на гражданскую одежду, которая могла понадобиться после освобождения, но в конце концов послал их семье, и деньги эти были почтой затеряны...)
Не был освобожден А.А. и после войны.
До последней информации от него, он оставался на положении заключенного: занимал место в бараке «на верхней наре», на работу и с работы ходил под конвоем, питался за общим столом, отлучаться в город было запрещено и т.д. «Среди нас "пересидчиков" много слухов или как мы их называем "параш". Ждем с большим нервным напряжением. Каждый раз слухами называются сроки освобождения, наступает большой подъем, рождаются надежды, но он приходит и все становится как мыльный пузырь; опять наступает тоска, доходящая сплошь да рядом до безнадежного отчаяния...» Дождался ли А.А. «особого распоряжения» или умер, неизвестно. Есть сведения, что выпускать т.н. «пересидчиков» стали только в 1947 году; согласно официальным данным, освободить всех отбывших срок заключенных должны были к 1 октября 1946 года (об этом ниже).
В лагере встречается в т.ч. с уже знакомым ему известным промышленным деятелем, энергетиком Ю.Н. Флаксерманом, освобожденным в 1945 г. для строительства электростанции в Эстонии. В этом же году А.А. пишет, что «лишь с одним человеком коротает время» – с профессором Ленинградского института [инженеров] путей сообщения Шк. «Он такой же одинокий и замкнутый как и я...»
Никаких сведений о человеке с начальными буквами фамилии «Шк» найти не удалось. Возможно, это был Шелковников Иван Михайлович, 1899 г.р., инженер-механик, конструктор, ст. 58-10, осужден, как и А.А., на 5 лет. Шелковников значится в списке из 11 заключенных, включая Цибарта, переведенных 3 сентября 1941 г. из управления «Колымпроект» во вновь образуемое конструкторское бюро при ЦНИЛ ГУС ДС (см.). (Заметим кстати, что списки репрессированных «Мемориала»* неполны – в них об И.М. Шелковникове, как и некоторых других соседях А.А., ничего не сообщается.) В списке заключенных – специалистов КБ Дальстроя в 1943 году – Шелковников уже не числится, но он мог оставаться соседом А.А. по бараку. Возможно, конечно, что профессор Шк. работал в каком-то другом подразделении Дальстроя.
В своих беседах А.А. и профессор Шк. подтверждают то разочаровывающее наблюдение многих прошедших подобные испытания, что лагерь пробуждает в людях не лучшие, а худшие свойства. «Никто и ничто нам здесь не мило. Люди большей частью противны, они настолько портятся, что, как волки, готовы перегрызть друг другу горло и погубить другого, если им [есть от этого] хоть малейшая польза. Сама суровая природа располагает к бессердечию, эгоизму, жестокости, да и большинство людей в прошлом не отличались [хорошими] качествами: все-таки уголовные преступники – воры, убийцы, бандиты и проч. Самые счастливые, которым все завидуют, это инвалиды и серьезно больные, так как они имеют хоть маленький шанс на то, что их повезут на материк...» (13 июля 1945 г.) К сожалению, информация о беседах со Шк. этим исчерпывается.
О том, изменились ли хоть как-нибудь политические установки А.А. во время заключения, судить по подцензурным лагерным письмам, конечно, невозможно. Самая откровенная в этом плане фраза, которую в них можно найти – это попытка намекнуть дочери на тот факт, что в тюрьме можно оказаться безо всякой вины: «я много не пишу и не могу писать по понятным тебе причинам». – Впрочем, в записке московскому другу и единомышленнику А.Н. Зайцеву, которого он просит о ходатайстве, А.А. заверяет: «Я остался тем же кем был и тебе не придется краснеть за оказанную помощь» – но значит ли это, что его вера в Сталина действительно осталась непоколебимой (хорошо известны и такие случаи), однозначно судить нельзя.
Вся политическая тема исчерпывается наблюдениями за ходом войны. Например: «Теперь скоро увижу вас [семью]. Срок мой кончился 6 месяцев назад, но приехать сумею только после окончания войны. Надеюсь, что теперь война скоро кончится. За этих гадов взялись основательно с 2 сторон ... час расплаты с этими мерзавцами близок»...
Что до своеобразного религиозного настроя А.А., то он им, по-видимому, вообще никогда ни с кем не делился.
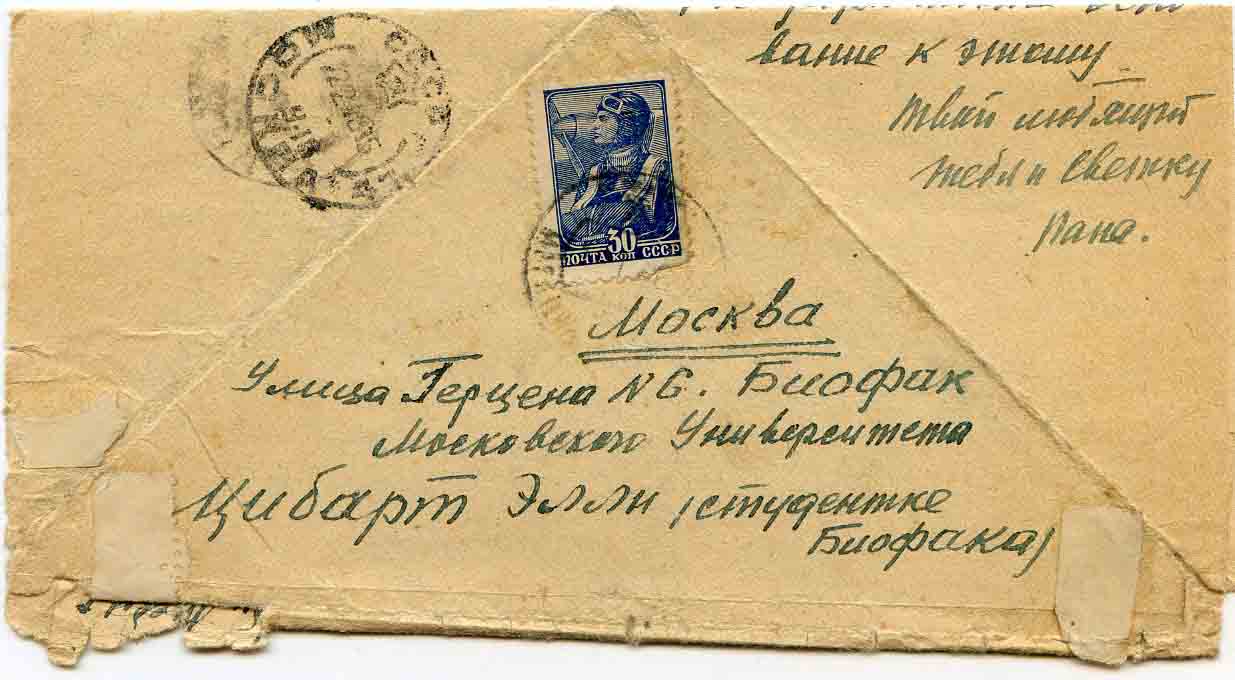
...Меж тем, здоровье А.А. было подорвано, «сведено почти к нулю» (порок сердца, повальная среди заключенных цинга, истощение, вялость, а также повторяющиеся пневмонии, в марте 1945 г. критически тяжелая – настолько, что А.А. уже оставил адрес семьи товарищу...). Видимо, самый грозный признак упадка моральных и физических сил – это отказ А.А. от долгожданной переправки на «материк» в декабре 1945-го года. «В прошлом году отправили в 3 приема таких же больных как я. Моя очередь была в декабре. Но я отказался поехать, так как боялся пускаться в дорогу по морю зимой. В Охотском море в это время бури и штормы. Будь я вольный дело другое, а то болтайся 12-14 дней по морю беспомощный, полуголодный, а потом по этапам и пересылкам... Там [на "материке"] мне конечно будет хуже, так как уже придется работать не по своей специальности, а на общих работах и хлеба будут давать меньше. Но зато там будет теплее, там будет вдоволь овощей, там легче и быстрее можно с вами [т.е. семьей] связаться и главное уже выйду из ведения Дальстроя.» При этом никаких гарантий того, что он будет включен в следующую очередь, у А.А. не было: «надеюсь что в списках подлежащих отправке я есть и сейчас»...
А.А. рассчитывал не столько на освобождение, сколько на официальный вызов из центра для работы в любой город страны (разрешение на возврат в Москву было в любом случае маловероятно). Писал в этой связи, что «по специальности я инженер-механик по теплотехнике (котлы, двигатели, станции)» и мог бы работать в любом месте СССР на «научной, педагогической, планово-производственной работе», «преподавательской или учебной работе», или «в каком-нибудь исследовательском институте», «в лаборатории на заводе или институте», на производстве «по специальности, т.е. теплотехнике (на паровозный, котельный, локомобильный или турбинный завод, на электростанцию или заводским механиком, на железн. дорогу, по холодильному делу и проч.)».
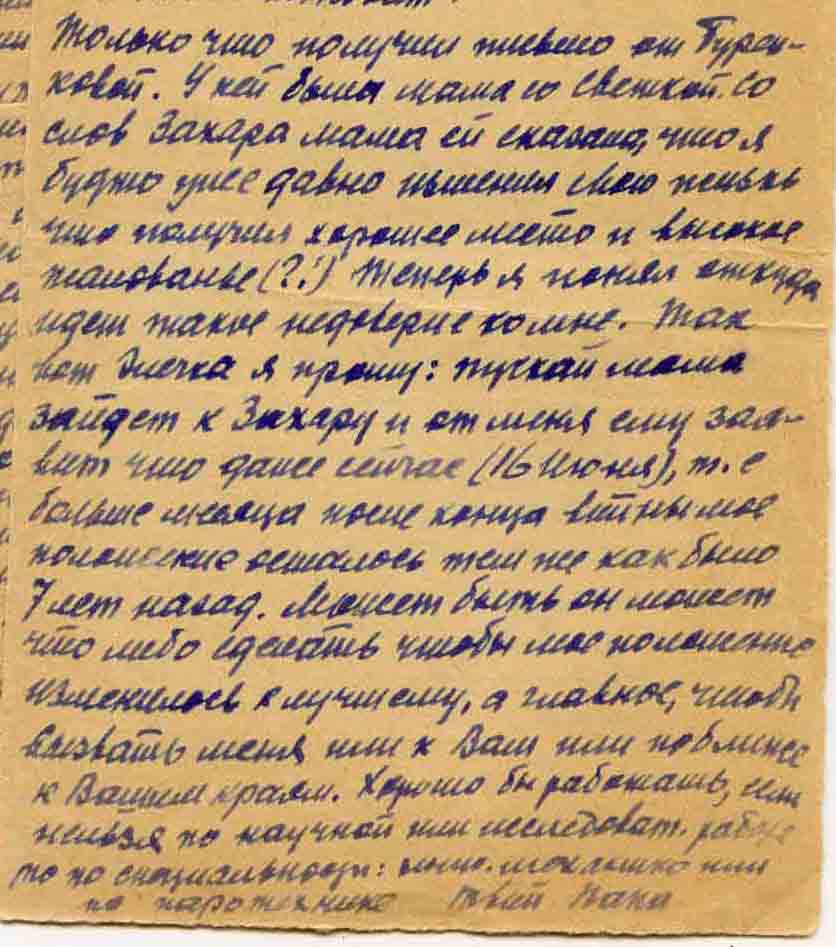
Насколько тяжелы были условия жизни в Дальстрое, и как мало шансов выбраться на «материк» было у А.А., видно хотя бы из Приказа № 485 от 2 октября 1944 г. нач. Дальстроя Никишова (упоминаемого в письмах А.А. к семье как адресата для возможных ходатайств). Приказ относится к вольнонаемным (что уж говорить о заключенных!) и гласит: «В связи с большим наплывом заявлений о желании оставить работу в Дальстрое и выехать на "материк" – со стороны рабочих, служащих и инженерно-технических работников Дальстроя, так как среди подающих заявления большое количество не имеют никакого основания быть уволенными из Дальстроя и никакого основания к выезду, то эти лица пускаются на всевозможные жульнические махинации, – вплоть до подделки о тяжелом материальном положении близких родственников или тяжелом болезненном состоянии. [Так в тексте.] ПРИКАЗЫВАЮ: ... § 1. Для рассмотрения заявлений на предмет освобождения от работы в Дальстрое с выездом с Колымы создать Комиссию ... § 2. При рассмотрении заявлений комиссии руководствоваться следующим: а) заявления всех специалистов – НЕ РАССМАТРИВАТЬ, эти заявления и личные просьбы будут рассматриваться лично мной. б) Представленные документы о тяжелом материальном положении близких, родных или о болезненном состоянии находящихся в центральных областях Союза ТЩАТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ перепроверить путем посылки телеграфных запросов по месту жительства семьи подавшего заявление» и т.д. (См. Бацаев, Козлов, с. 188).
Установка начальства была заключенным известна. «Климат здешний настолько вреден для меня, что и сами врачи меня признали подлежащим отправке на "материк", но в отношении специалистов существуют особые положения. Одна партия больных уже уехала, но меня в первую партию не взяли...» (письмо из лагеря 1945 г.). А.А. просил жену и дочь обратиться к тому же Захару Малинковичу, по предположению А.А. связанному с промышленными структурами НКВД, ходатайствовать за него перед их руководством. Имелись в виду А.П. Завенягин, тогдашний зам. наркома внутренних дел, и генерал-майор С.Е. Егоров, зам. начальника Дальстроя; последний знал А.А. и по работе в Москве и на Колыме, и А.А. даже имел сведения, что тот не откажет «помочь или даже устроить в подчиненном ему предприятии». Однако – и вот та странная и роковая роль Малинковича – еще до окончания назначенного А.А. срока (больше чем за год) Малинкович, видимо следуя установке НКВД препятствовать отъезду специалистов из Дальстроя, ввел супругу А.А. в заблуждение, якобы А.А. был освобожден, занимал в Магадане высокое служебное положение и имел фактически другую семью. Его слова, что говорится, пали на подготовленную почву – разлад в семье А.А. начался задолго до его ареста. Уверенность жены и выросшей старшей дочери в сказанном Малинковичем достигала такой степени, что, когда зимой 1943/1944 года семья была жульническим путем лишена квартиры, они обратились к А.А. с непостижимой для него просьбой... взять младшую Свету к себе.
Об этой злостной интриге НКВД (неясно, не был ли обманут сам Малинкович) А.А. долгое время даже не подозревал: глубоко задетая полученной от Малинковича информацией супруга А.А. Мария Иосифовна ничего о том ему не поведала, почти прекратила свою переписку с ним и, по-видимому, не разрешила что-либо сообщать о ней само́й детям. Смятение и отчаяние А.А. можно представить. Ситуацию прояснила лишь через три года, в июне 1945-го, К.Д. Буренкова. «Только что получил письмо от Буренковой. У ней была мама со Светкой. Со слов Захара <Малинковича> мама ей сказала, что я будто уже давно изменил свою жизнь что получил хорошее место и высокое жалованье (?!) Теперь я понял откуда идет такое недоверие ко мне...» (письмо к старшей дочери). Об этом он много раз пишет, конечно, и жене: «ты видно была введена кем-то в заблуждение, что я уже давно свободен, имею хорошую работу и получаю хорошее жалованье»; «ты была уверена, что мое положение давно уже изменилось, что я свободен, получаю хорошее жалованье и даже завел новые связи, которые удерживают меня здесь на Колыме...» О возможной новой семье А.А. дочь выскажет ему деликатное, но потрясшее А.А. предположение: «может быть у тебя есть другие более поздние привязанности»... Недвусмысленно, прямую речь Малинковича об освобождении и «бабе» передала однажды впоследствии сама Мария Иосифовна. Все же тут нужно подчеркнуть, в оправдание Малинковича, что после окончания назначенного Цибарту срока заключения того уже не было на свете. Его слов в 1941-м году оказалось достаточно, чтобы Мария Иосифовна больше к нему, скорее всего, и не пыталась обращаться. Во всяком случае, старшая дочь А.А. до 1945 года ничего о судьбе Малинковича не знала.
А.А. был порой даже не уверен в возможности возврата домой (в письме к жене: «Часто думалось, когда я постучу, кто мне откроет двери, когда опять вернусь и не находил ответа. Мысли перебрасывались иногда, как это ни странно на сестру свою Иду, но она очень далеко [т.е. в Польше] и у нее своего горя и своей нужды достаточно. Выводы получались весьма мрачные...»). Все же отношения с семьей разрушены далеко не были. А.А. в курсе всех (порой отчаянных) семейных дел, счастлив поступлению старшей дочери в университет и шлет ей подробные профессиональные советы, рекомендует научную литературу, расспрашивает о преподавателях, делится мечтами о будущей жизни и совместной работе: «Как хорошо Элечка было бы, если бы я скоро вернулся к вам и мы опять зажили одной дружной семьей. Я помог бы обрабатывать твои материалы с точки зрения математики, физики и языков...» «... Смотрю на тебя и вижу свои черты и наклонности, ту миссию, которую я не смог осуществить...» «Сейчас читаю биологию: Лункевич "Основы жизни". Вижу что это наука прямо необъятная, тут нужна какая то более узкая специализация»... С младшей, еще не взрослой дочерью переписывается отдельно, она – «самая аккуратная его корреспондентка». «Я помню как ты меня любила. Мама мне тоже писала, что Ты меня по прежнему любишь, что меня не забыла. А мне так скучно, скучно без Тебя! Так хотелось бы Тебя увидеть, обнять, прижать к груди и целовать, целовать без конца. А помнишь еще Светуня как я Тебе рассказывал сказки? Вот теперь, как вернусь, расскажу много, много интересных сказок и рассказов. Их у меня много накопилось!» (июль 1943); «Я тебя Светка очень, очень крепко люблю. Ты моя надежда, мое солнышко. Тебе хотелось бы посвятить оставшуюся мне еще жизнь» (ноябрь 1945). Не оставляет А.А. попыток объясниться и с женой. «Целую крепко крепко Ацек»...
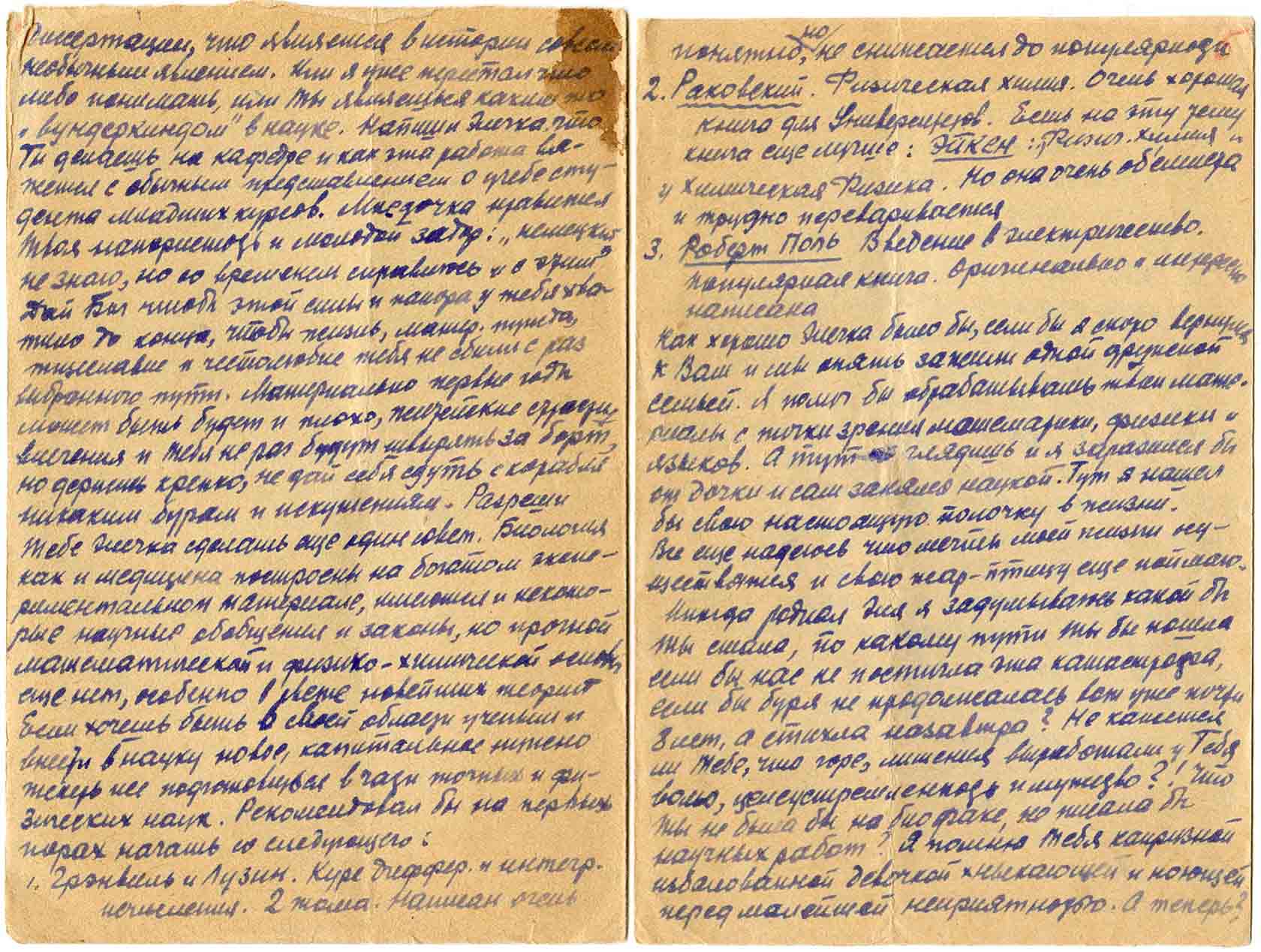
Сам факт работы Малинковича на НКВД, видимо, у А.А. отторжения не вызывает – он все также просит жену, а затем и дочь убедить «дядю Захара» хлопотать за его перевод на «материк»; в конце концов, на личном уровне ничто не мешало бы Малинковичу это делать. «Если Захар <Малинкович> работает в НКВД зайди к нему. Он был моим другом. Человек он отзывчивый и добрый...» «Так вот Элечка я прошу: пускай мама зайдет к Захару и от меня ему заявит что даже сейчас (16 июня), т.е. больше месяца после конца войны мое положение осталось тем же как было 7 лет назад. Может быть он может что либо сделать чтобы мое положение изменилось к лучшему…» Ведь тот не отказался от друга, – в 1941-м, видимо в период запрета на переписку заключенных, отправлял даже в лагерь А.А. сведения о семье («живы, здоровы»). Но Малинковича давно не было в живых.
В 1945-м году старшая дочь А.А. наконец узнает и сообщает отцу в лагерь, что Малинкович «умер». Общение ее с А.Н. Зайцевым, как будто вызвавшимся помочь в облегчении участи А.А. (как и возможные другие усилия семьи), также успеха не имело. Вложенная в письмо к дочери (упомянутая выше) записка А.А. к Зайцеву, то ли возвращенная, то ли непрочитанная, осталась в семейном архиве. «Анатолий Николаевич! Дочка моя Элечка телеграфирует мне, что ты взялся помочь мне. Если это так, я никогда в жизни не забуду это проявление самых высоких человеческих побуждений. Дороги нашей судьбы пошли в разные стороны, но мы ведь остались людьми. Во мне Анатолий ты не ошибся, когда в последние дни перед расставанием на многие годы, так горячо и честно совершенно в единственном числе выступал и боролся. Ты шел всегда честно и прямо, шел напролом не боясь опасностей. Сейчас наступило время, когда я обращаюсь к тебе опять...»
Зайцев каким-то образом устранился от этого опасного дела. А.А. мысленно перебирает тех, к кому можно было бы еще обратиться за помощью, но сознает: «они видно будут в лучшем случае реагировать как Зайцев А.Н., а может быть и хуже».
|
В своих письмах А.А. подсказывает дочери-студентке, к кому из высоких лиц можно было бы обратиться за помощью. Э.А. делала все, что могла, – однако не только в силу ситуации (стена между девушкой из барака, дочерью врага народа, и партийными боссами), но и по своему душевному складу она могла далеко не все, что было бы естественно сделать для самого́ А.А. Куда пойти – в ЦК? Наркомат? НКВД?.. Она прекрасно училась, могла, несмотря на тяжелую болезнь (следствие холода и голода) много работать, но, добиваясь многого от себя, ничего не могла добиться от других. Если здесь уместна такая деталь, но – еще в ее благополучном детстве мать, заметив ее патологическую стеснительность или даже страх перед людьми, заставляла ее подходить к незнакомым и спрашивать время: так М.И. рассчитывала избавить ее от этого недостатка, но для ребенка это было только страшным испытанием. В результате свалившихся на семью бедствий это ее свойство скорее только обострилось. Кроме того, сталкиваясь с нестерпимыми для нее обстоятельствами, Э.А. как бы переносилась в некий воображаемый мир, в котором на все можно было посмотреть иначе... В конце концов А.А. это становится ясно: «...Что будет то будет, мне все равно. Отношусь к себе как к постороннему предмету, как к щепке которая плывет на волнах реки. Была надежда, что авось Вы [жена и дочь] сможете что либо сделать, теперь и эта надежда рухнула – Вы бессильны, я это теперь понимаю. Но Твое письмо настолько необычное, так проникнуто горячим участием к моей судьбе, что поневоле заражаешься твоим оптимистическим настроением и вместе с Тобою опять начинаешь надеяться и мечтать о несбыточном будущем. Дай Бог, чтобы Твои надежды на мое скорое освобождение сбылись» (23 марта 1946 г., последнее из сохранившихся письмо А.А. из Магадана)... |
К 1946 году А.А. уже почти не надеется на лучший исход. Последние сохранившиеся известия об А.А. – его письма к старшей дочери – датированы 16 и 23 марта 1946 года; в них он пишет: «Мое положение в течении этих 8-9 лет убеждает меня в том, что я "лишний" человек на земле. Просто неудобно сразу убить. Меня "терпят" кормят лишь бы не умереть, предоставляя все остальное доделать "времени". Кончилось назначенное мне время сидки, но я почти досиживаю уже II срок и конца не видно. Никто обо мне не вспомнит, не говоря о обществе, даже "канцелярия" не позаботится обо мне, чтобы выполнить свой долг и освободить меня. Меня уже нет в живых, я видно уже списан со счета...» «Может быть придется еще долго ждать; может быть мне еще придется умереть, что и могилы моей не сыщешь». «Надеждами я себя уже никакими не утешаю. Мне видно здесь могила и Вас родных любимых дорогих детей и жены мне больше не видать...».
(В заявлении дочери 1956 г. касательно реабилитации Цибарта указано и более позднее время получения последнего известия от него – весна 1947 года, но других свидетельств этого нет.)
Ждать освобождения оставалось уже сравнительно недолго. Если приказы карательных органов выполнялись точно – то от 4-х до 8 месяцев. 24-го июня 1946 г. – Приказ МВД СССР, МГБ СССР и Ген. прокурора СССР № 00585/00251/107с[овершенно]с[екретно]: «1. Отменить директивы НКВД СССР и Прокурора СССР 221 от 22 июня 1941 года и № 185 от 29 апреля 1942 года и все последующие к ним дополнения о задержке освобождения из мест заключения некоторых категорий осужденных. <...> 4. Лиц, отбывших сроки наказания и прикрепленных для работы к лагерю (колонии) на положении вольнонаемных в порядке пункта 2 директивы НКВД и Прокурора СССР № 185 1942 года, освободить от работы, применив к ним режимные ограничения согласно положению о паспортах. Объявить этим лицам под расписку в личном деле, что им разрешено проживать в любом районе СССР, кроме режимных местностей; при выезде выдать соответствующие документы и проездные билеты. <...> 5. Освобождение заключенных, отбывших срок наказания, но задержанных в исправительно-трудовых лагерях, колониях и тюрьмах до окончания войны на положении заключенных и вольнонаемных, производить постепенно и закончить к 1 октября 1946 года». (см. сайт Красноярское о-во «Мемориал»*.)
Все же сведений об освобождении или смерти А.А. не имело даже МВД в 1956-м году: на запрос отдела по спецделам прокуратуры СССР «о проверке по учету 1 спецотдела МВД СССР», с просьбой выдать справку о Цибарте «в связи с жалобой дочери» (т.е. ее просьбой о пересмотре дела отца), – по пункту «о местонахождении проверяемого» никакого ответа прокуратура не получает (ГАРФ ф. Р-8131, оп. 31, д. 71094, лл. 2, 2об).
9 апреля 2015 г., в ответ на наш запрос в Информационный центр УМВД РФ по Магаданской области, начальник Центра М.И. Серегин сообщил, что лагерное дело Цибарта «было уничтожено в 1955 году в соответствии с нормативными документами тех лет», и никакими сведениями о судьбе Цибарта он не располагает. К какой именно категории заключенных относились эти уничтоженные тогда дела – умерших, освобожденных или всех вообще – он не пояснил.
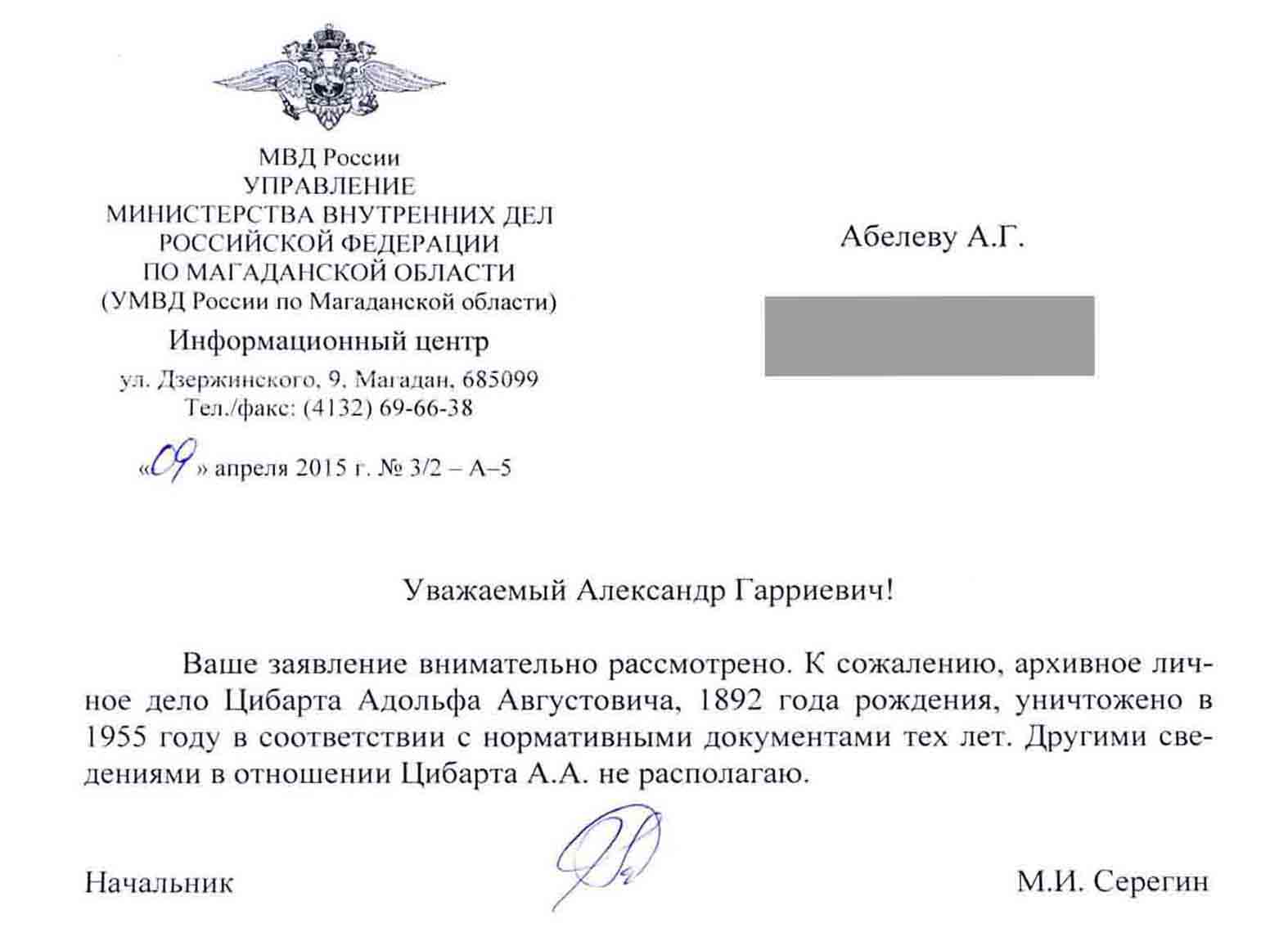
Почему мы пишем, что А.А. в лагере не умер, а был освобожден?
Важнейшая информация на этот счет опубликована 8.6.2018 (в газете Коммерсантъ, см. Анастасия Курилова). Уничтожались личные дела тех заключенных, которые были освобождены.
Больше того. «В случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение, – пояснил “Ъ” господин [Роман] Романов [директор Музея истории ГУЛАГа]. – А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения». То есть в архивной карточке на уничтоженное дело Цибарта содержатся и важнейшие вехи его лагерной биографии. Увы, как узнал исследователь Сергей Прудовский (от того же М.И. Серегина), также и эти карточки (или какие-то из них) были совсем недавно уничтожены. «Есть межведомственный приказ под грифом "для служебного пользования" от 12 февраля 2014 года "Об утверждении наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и разыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ"»; «Срок хранения карточек на осужденных – до достижения ими (осужденными) 80-летнего возраста» (Курилова)...
Однако факт массового уничтожения таких карточек в 2014-м году официально опровергается. Действительно, в ответ на запрос, нач. ИЦ М.И. Серегин в письме от 20 августа 2018 г. фактически подтвердил, что искомая картотека существует. Но, согласно положению «О персональных данных» Федерального закона №152, содержащаяся в карточках информация может быть предоставлена лишь по запросам правоохранительных органов и судов (а также самих бывших заключенных). «Таким образом, ИЦ УМВД России по Магаданской области не вправе предоставить Вам интересующую информацию из названной картотеки.» Выходит, что подробно знакомиться с ходом следствия в НКВД родственники могут, а получить самые краткие сведения о пребывании его в лагере – нет. Если когда-нибудь это положение будет юридически оспорено, то дата освобождения А.А. и его краткая лагерная биография – видимо, легко будут получены.
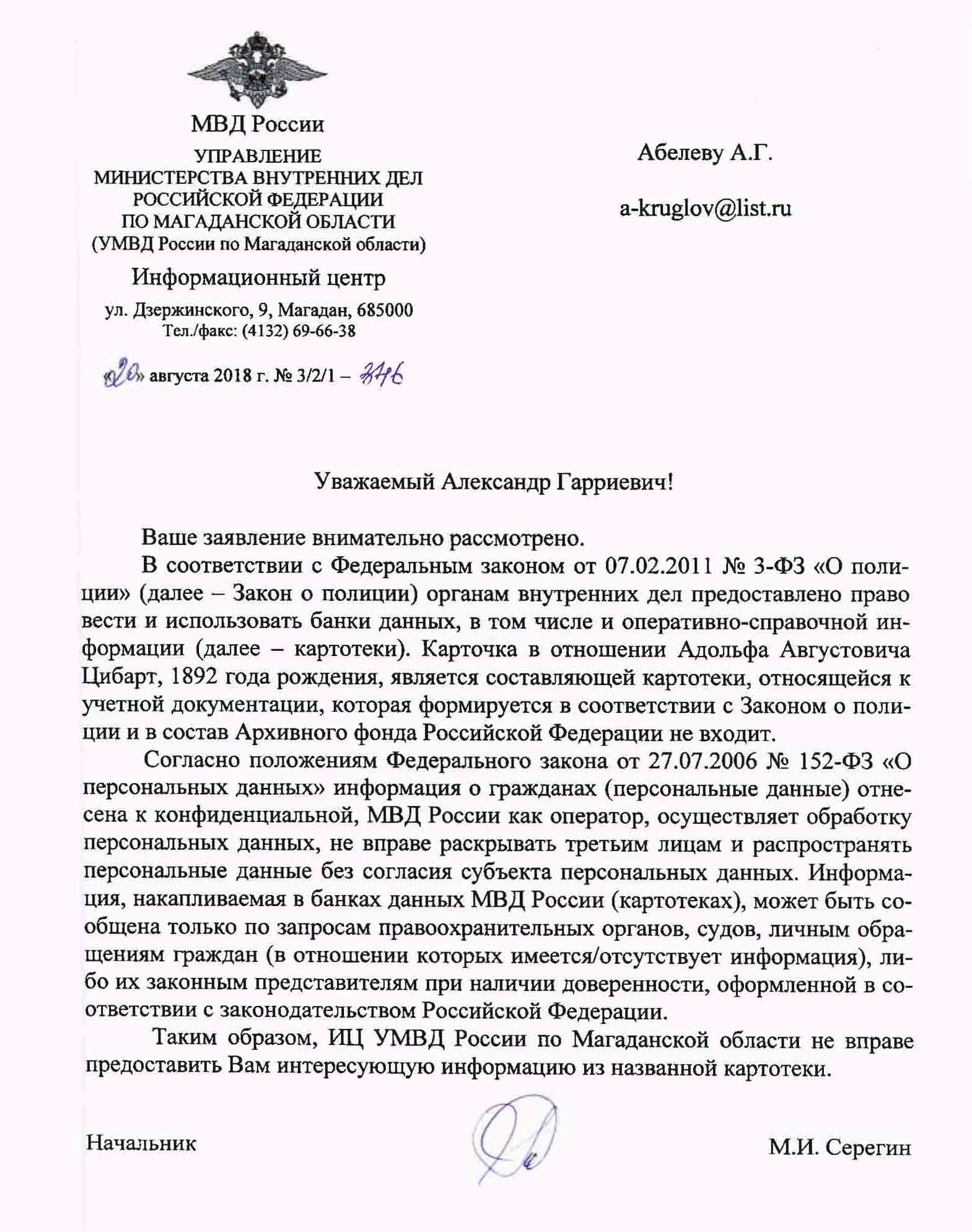
В ответ на наше последующее обращение в Центр реабилитации жертв политических репрессий (Центральный архив МВД России) ФКУ «Главный информационно-аналитический центр МВД РФ» с просьбой прояснить ситуацию и предоставить только заведомо не конфиденциальные, доступные для родственников в обычном случае, сведения об А.А. (без ссылки на источник), 20.09.2018 был получен следующий ответ: «В результате проведенной поисковой работы по имеющимся архивным материалам установлено, что Центральный архив МВД России архивных документов в отношении Цибарта Адольфа Августовича, 1892 года рождения, на хранении не имеет». Далее следовала общая информация о «госуслуге» предоставления архивных сведений региональными органами МВД (куда мы уже обращались – круг замкнулся), из которой для нас осталось совершенно неясным даже то, может ли в Магадане храниться учетная карточка на уничтоженное дело Цибарта или нет.
Итак, поскольку лагерное личное дело А.А. было уничтожено, а по утверждению Р. Романова это значило, что заключенный в лагере не умер, – в период с 23 марта по 1 октября 1946 года – точнее по документам НКВД на сегодняшний день уже не установить – А.А. Цибарт должен был быть освобожден. Хотя и без права вернуться домой.
Далее следы его для семьи потеряны.
В Москву или Малаховку А.А., как отбывавший срок за «особо тяжкое преступление», вернуться согласно положению о паспортах (пресловутый «101-й километр») не мог. Письма перестали приходить. Что с ним произошло за пределами лагеря, неизвестно. Не только в ИЦ УМВД РФ по Магаданской области, но и в Центральном архиве ФСБ России (как и должно быть в общем случае), и в УФСБ по Магаданской области также никакими сведениями о времени после освобождения не располагают. Во всяком случае, работать в системе Дальстроя он не продолжил: «в составе архивных документов вольнонаемных работников ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДАЛЬНЕГО СЕВЕРА (ГУ ДАЛЬСТРОЙ) в каталоге личных карточек (ф. № 50) и описях личных дел за 1939-1957 гг. Цибарт Адольф Августович, 1892 г.р., не значится» (ГАМО, архивная справка).
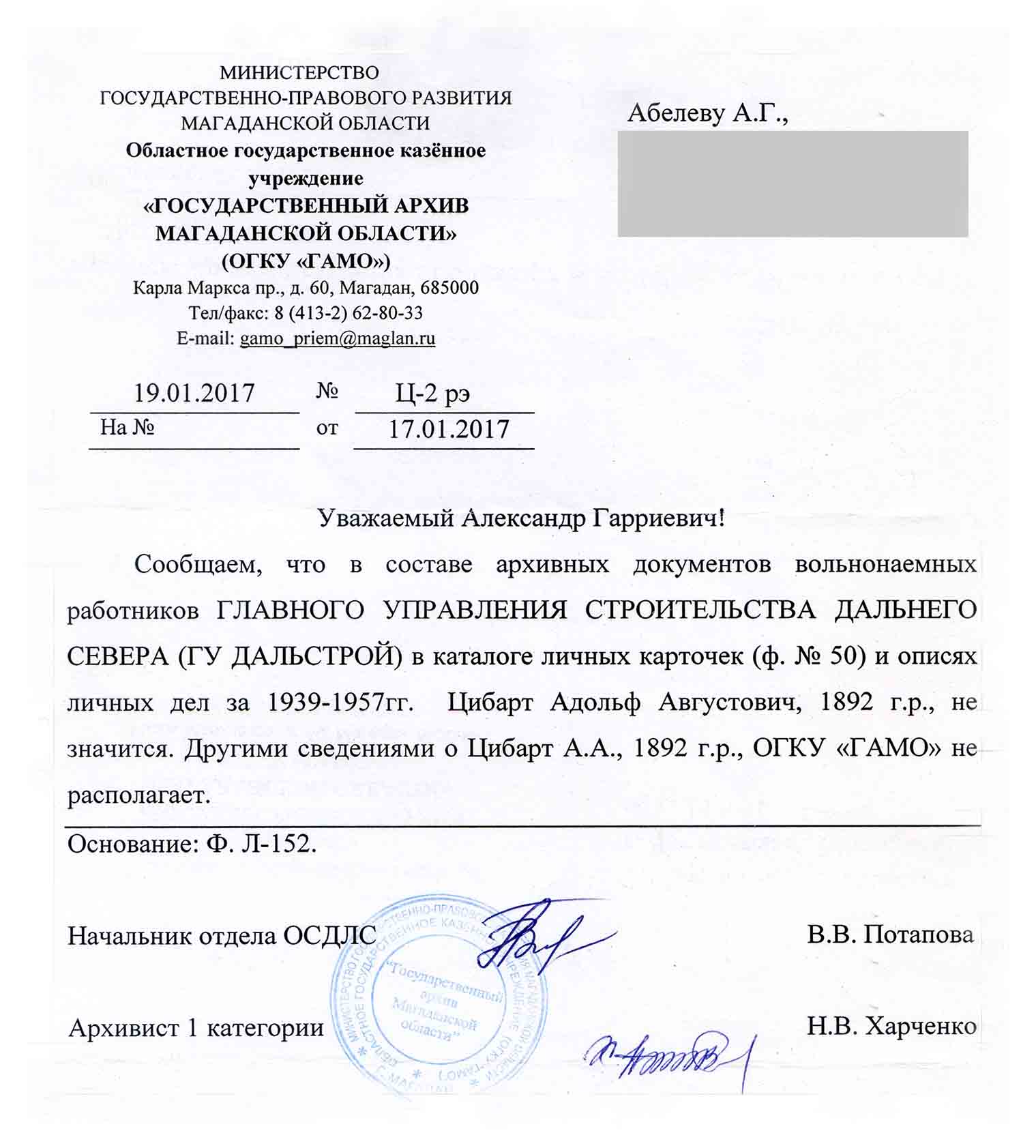
На запрос в Магаданский ЗАГС о возможной смерти А.А. в Магадане получен ответ: «в архиве отдела ЗАГС мэрии города Магадана запись акта о смерти на имя Цибарт А.А. отсутствует».
В официальном свидетельстве о смерти А.А. Цибарта, полученном семьей в 1963 году, проставлено лишь, что он «признан умершим», без указания причины смерти, и место смерти также «неизвестно». Для получения такого свидетельства достаточно, чтобы пропавший не давал о себе знать в течение 5 лет. В книге о ректорах МГТУ (Анцупова, Павлихин) сообщается, что в 1946-м году А.А. Цибарт был освобожден, но, увы, без указания на источники. Возможно, он заходил в МВТУ за какими-нибудь справками...
Если пытаться объяснить его исчезновение из жизни семьи, в случае, если он не умер вскоре по освобождении из лагеря и отъезде из Магадана – думается не только о невозможности вернуться в Москву, но и о серьезном разладе с супругой до ареста, и о клевете Малинковича, усугубившей этот разлад, и о том материальном «спасательном круге», который представляла собой для семьи не конфискованная дача (у А.А. не было перед семьей слишком явных материальных обязательств); но главное, может быть – это следующее соображение А.А. из его предпоследнего письма к дочери: «Не учел я той обстановки в которой Вы живете, не учел того проклятия, которое тяготеет над Вами благодаря вашему отцу! Ведь старых друзей никого не осталось. Даже просто знакомые отвернулись. Другое дело если бы я был мертв. Тогда может быть опять постепенно раскрылись старые двери»... Как кажется, решение стать «мертвым» для семьи у А.А. уже созревало.
В 4-минутном документальном фильме 1952 года (РГАКФД, Youtube) «1 сентября в школах СССР» – со 2 мин. 49 сек. до 3-й минуты – человек, чрезвычайно похожий на Цибарта: учитель физики в 6-м классе школы № 16 г. Гомеля. – Если иметь в виду давние романтические отношения Цибарта с гомельчанкой Ольгой А. Адамович, которой он писал письмо еще в самый день ареста, как и все только что сказанное, – гомельский период в его жизни после лагеря далеко не исключен.

Во второй половине 1960-х гг. Адольфа Августовича вроде бы видела его дочь Светлана – за оградой дачи в Малаховке долго стоял и всматривался в происходящее на участке некий похожий на него «старик». Вполне может быть!
Реабилитация репрессированных «сверху» шла с 1953-го года, но сильнейший импульс этому процессу придал ХХ съезд КПСС, проходивший 14–25 февраля 1956 года; исторический доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях» – 25 февраля. Несмотря на секретность доклада, очевидно, последовали и негласные распоряжения ЦК – открыть перед оставшимися в живых репрессированными, как и несметным числом родственников расстреляных или замученных, возможности пересмотра дел. (За отсутствием родственников или других заинтересованных лиц, жертвы террора так и остаются «врагами народа»?)
Меньше чем через месяц после доклада Хрущева, 19 марта 1956-го года семья инициирует реабилитацию А.А. Цибарта: его старшая дочь Эльфрида Адольфовна подает заявление в Прокуратуру СССР. Этот документ – достаточными оказались несколько писаных от руки строк, с приведенными по памяти неточными датами – свидетельство того, что власть была настроена к делу благосклонно.
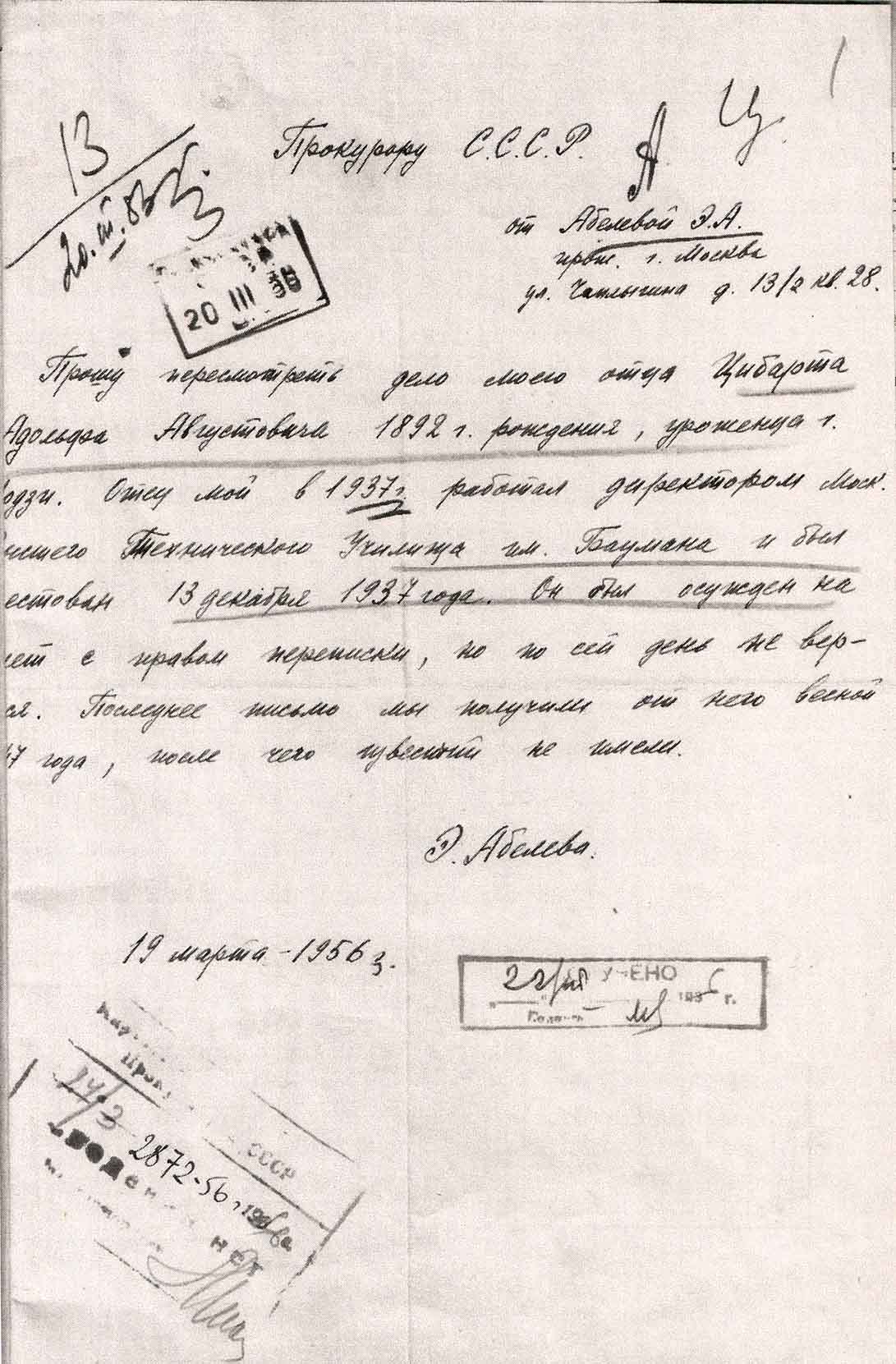
«Прокурору С.С.С.Р.
от Абелевой Э.А.
прож. г. Москва
ул. Чаплыгина д. 13/2 кв. 28.
Прошу пересмотреть дело моего отца Цибарта Адольфа Августовича 1892 г. рождения, уроженца г. Лодзи. Отец мой в 1937 г. работал директором Моск. Высшего Технического Училища [МММИ] им. Баумана и был арестован 13 [ошибка – ночью 14] декабря 1937 года. Он был осужден на 5 лет с правом переписки [т.е. не был расстрелян: как было всем известно, слова «без права переписки» в приговоре означали расстрел], но по сей день не вернулся. Последнее письмо мы получили от него весной 1947 [1946 – ?] года, после чего известий не имели.
Э. Абелева.
19 марта – 1956 г.»
(ГАРФ ф. Р-8131, оп. 31, д. 71094, л. 1)
27 марта 1956 г. – «Запрос зам. начальника Отдела по спецделам Прокуратуры СССР в 1-й Спецотдел МВД СССР» (автограф без расшифровки), «в связи с жалобой дочери». «7. Какая нужна справка: сведения об аресте, о судимости, о местонахождении проверяемого, о местонахождении следственного дела, [далее в бланке от руки:] где и кем велось следствие» (ГАРФ ф. Р-8131, оп. 31, д. 71094, л. 2). 30 марта – оборотная сторона того же бланка – «Справка о результатах проверки». «Арестован 14/12-37 г. НКВД СССР за КрД и осужд. 7/7-38 г. о/сов. на 5 лет.» Что до лагерной биографии А.А. после назначенных 5 лет, то тут он был прав в своем последнем письме из Магадана в 1946-м году – о «пересидчиках» компетентные «органы» просто забыли. Последняя информация, которой они располагают, относится к дням окончания присужденного ОСО срока. На вопрос о «местонахождении проверяемого» ответ в справке следующий: «на 10/12-41 г. наход<ился> в Севвостлаге» (л. 2об)... «Арх. сл. дело № 253096/о - УАО [учетно-архивный отдел] КГБ.»
7 апреля Прокуратура СССР («Москва-центр. Пушкинская, 15а») обращается в учетно-архивный отдел КГБ при Совете Министров СССР с просьбой «выслать для пересмотра в порядке надзора архивно-следственное дело 253096/о по обвинению Цибарта Адольфа Августовича 1892 г. рождения, уроженца гор. Лодзи», и 21 апреля получает «дело № 253096 т 66-67» (лл. 3, 4). (Видимо, два тома дела Цибарта входили в одно общее дело «организации правых», во многих томах.)
Дело изучается (или лежит) в прокуратуре досточно долго.
22 ноября 1956 г. зам. генерального прокурора СССР, государственный советник юстиции I класса Д. Салин (зачеркнуто: п[омощник].п[прокурора]. Кудрявцев) направляет в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда СССР «ПРОТЕСТ /в порядке надзора/ по делу ЦИБАРТА А.А.»
«... Цибарт обвинялся в том, что он являлся участником антисоветской вредительской организации правых, по поручению которой проводил вредительство в институте им. Баумана и вербовкой новых членов.
Постановление Особого совещания не может быть оставлено в силе и подлежит отмене по следующим обстоятельствам:
Как видно из материалов дела все обвинение Цибарта основано на показаниях осужденного по другому делу Петровского-Липец, который о Цибарте на допросе 23 июня 1937 года показал следующее:
"Кроме того мной был использован в контрреволюционной работе среди молодежи недовольный политикой партии директор Механико-машиностроительного института Цибарт" /л.д. 15 / том 67/.
Данные показания Петровского-Липец Цибарт категорически отрицал, сообщив, что он по служебной линии был связан с ПЕТРОВСКИМ-ЛИПЕЦ как с начальником Главного управления учебных заведений Наркомтяжпрома, но о принадлежности последнего к организации правых ему ничего не было известно, он Цибарт считал политику партии правильной и никакой антисоветской работы не вел. /л.д. 84-93, т. 67/.
Данные показания Цибарта находят полное подтверждение в из"ятых у него при аресте дневниках, содержание записей в которых свидетельствуют о солидарности Цибарта с генеральной линией партии и отсутствии преступной связи его с Петровским-Липец /л.д. 97-276 том 67/.
Отдельные недостатки в хозяйственной и учебной деятельности руководимого Цибартом института также не могут быть инкриминируемы ему как преступления, т.к. вопрос этот следственными органами не выяснялся и конкретная вина в допущении этих недостатков Цибарта не установлена.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 16 Закона о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик,
ПРОШУ:
постановление Особого совещания при НКВД СССР от 7 июля 1938 г. в отношении Цибарта Адольфа Августовича отменить и дело прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления. ...»
(ГАРФ ф. Р-8131, оп. 31, д. 71094, лл. 5, 6 /см. скан на этой странице/)
Д.А. Петровский с его выбитыми «показаниями» на Цибарта, на которых зиждилось обвинение, в тот момент еще не мог быть реабилитирован, и прокуратуре в своих аргументах приходится исходить из его виновности.
11 сентября 1957 – через полтора года от подачи дочерью А.А. заявления в Генпрокуратуру – наконец, судебное разбирательство. Дело слушается в Верховном суде РСФСР (а не СССР).
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР в составе председательствующего АЛЕХИНА И.И.
членов суда МОРЯКОВА Ф.В. и ВАСЬКИНА С.С.
рассмотрела в судебном заседании от 11 сентября 1957 г.
протест Заместителя Генерального прокурора СССР на постановление Особого совещания при НКВД СССР от 7 июля 1938 года, по которому:
ЦИБАРТ Адольф Августович ... осужден по статьям 58-7 и 58-11 УК РСФСР к 5 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. ...»
Коллегия установила, что
«... Показания [Петровского] Цибартом категорически отвергаются и никакими другими об'ективными доказательствами не подтверждаются. Наряду с этим, в них не приведено ни одного факта, свидетельствующего о контрреволюционной вредительской деятельности осужденного.
Из материалов дела и показаний Цибарта видно, что Петровский-Липец являлся непосредственным начальником осужденного, в силу чего общение последнего с ним было неизбежным.
По показаниям Цибарта, он участником антисоветской вредительской организации правых не был, никаких вредительских действий не совершал и о принадлежности Петровского-Липеца к этой организации не знал. Политику партии он считал правильной.
Данные показания Цибарта находят подтверждение в из'ятых у него при аресте дневниках, содержание записей в которых свидетельствует о солидарности Цибарта с генеральной линией партии и отсутствии преступной связи его с Петровским-Липец.
Не могут быть вменены ему в вину и отдельные недостатки в хозяйственной и учебной деятельности института, так как причины их возникновения не исследованы и конкретные виновники не установлены.
При таких данных, Судебная коллегия считает, что Цибарт осужден без всяких оснований.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 418 УПК РСФСР, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР
ОПРЕДЕЛИЛА:
Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 7-го июля 1938 г. в отношении Цибарта Адольфа Августовича отменить и дело производством прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления. ...»
(ГАРФ ф. Р-8131, оп. 31, д. 71094, лл. 7, 8 /см. скан на этой странице/)
Итак, 11 сентября 1957 г. А.А. Цибарт реабилитирован.
Справку об этом выдал семье 19 сентября 1957 г. зам. пред. Верховного суда РСФСР В. Крюков. «Постановление Особого Совещания при НКВД СССР ... отменено с прекращением дела производством за отсутствием в его [Цибарта] действиях состава преступления»...
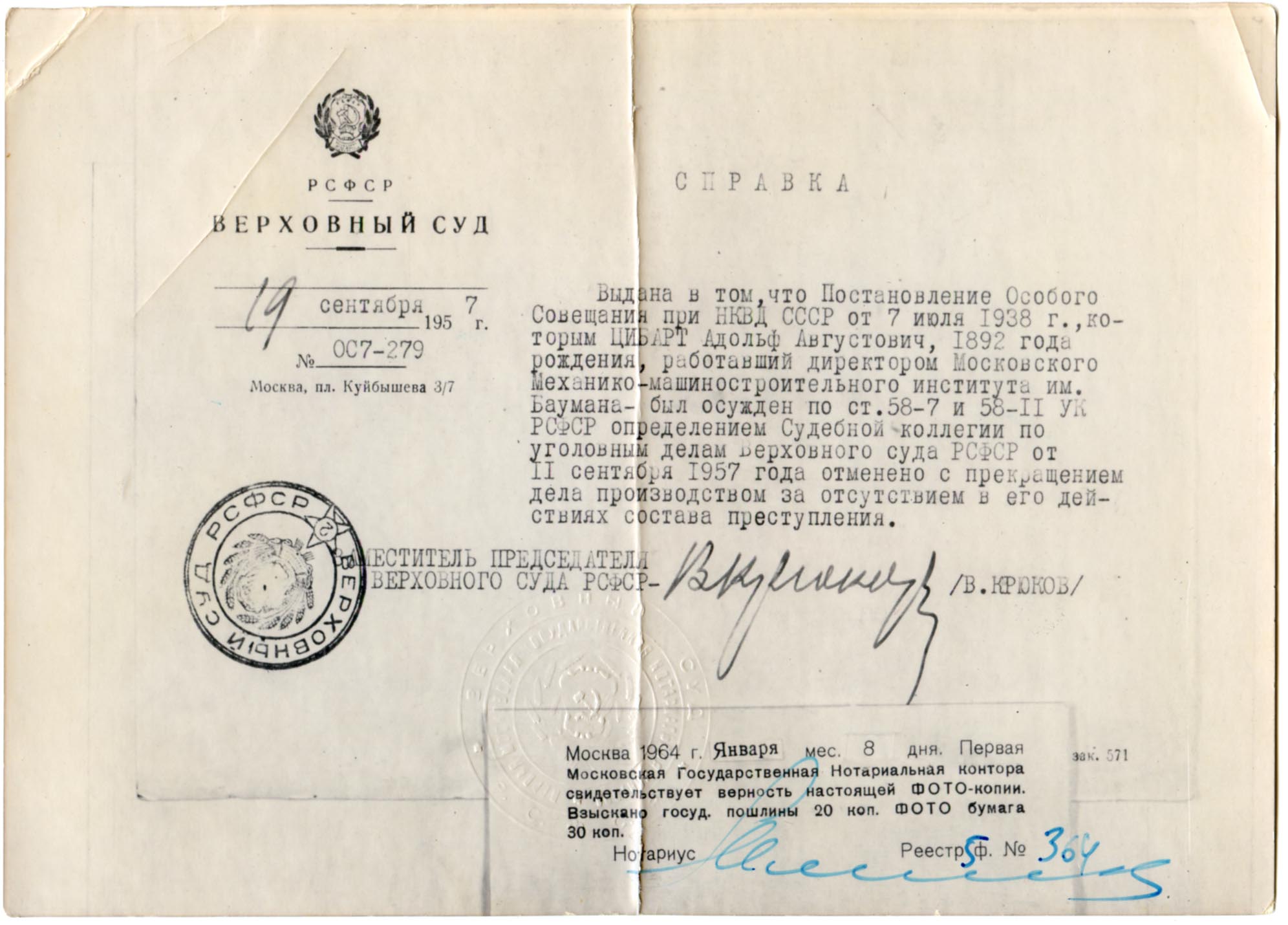
В январе 1958 г. реабилитирован и Д.А. Петровский, еще раньше, также посмертно, его супруга Роуз Коэн.
Малейшие подозрения должны бы испариться, но до настоящей реабилитации еще далеко...
В книге В.И. Прокофьева «МВТУ. 125 лет» (1955 год) работа «дирекции и парторганизации» института (А.А. до 1937 г. был и членом парткома) оценивается неизменно высоко, однако сообщается о раскрытом в институте «вредительстве» – причем «вредительскими» оказались и такие вещи, как отсутствие в учебных планах первых лет МММИ «ряда нужных для формирования инженера дисциплин» и «попытка сократить сроки обучения», предписанные пленумами ЦК 1928 и 1929 годов и начатые в МВТУ до появления в нем Цибарта!
Впрочем, процесс реабилитации репрессированных «сверху» уже начался, и фамилию «вредителя» автор предусмотрительно предпочел не называть.
В 1964 г. корреспондент газеты «Ленинское знамя» (возможно, московская областная газета) М. Кулешов подготовил очерк о Цибарте, но опубликовать его нигде не удалось. «Много труда и сил затратил я, чтобы подготовить и дать в газету известный Вам очерк "Гордость семьи", – объяснял он супруге А.А. в письме к ней. – Посылал его даже в "Литературную газету" тов. Румеру. К сожалению, везде получил отказ. Товарищи утверждают, что время для этой темы еще не подошло. Поэтому возвращаю Вам письма дорогого Вам супруга...» Рукопись осталась у Румера, и в семейном архиве, к сожалению, ее нет... – Известный журналист и прозаик З.А. Румер, успевший к тому времени отсидеть 17 лет, мог быть и слишком осторожен, но отказ, как сообщает Кулешов, последовал единодушно.
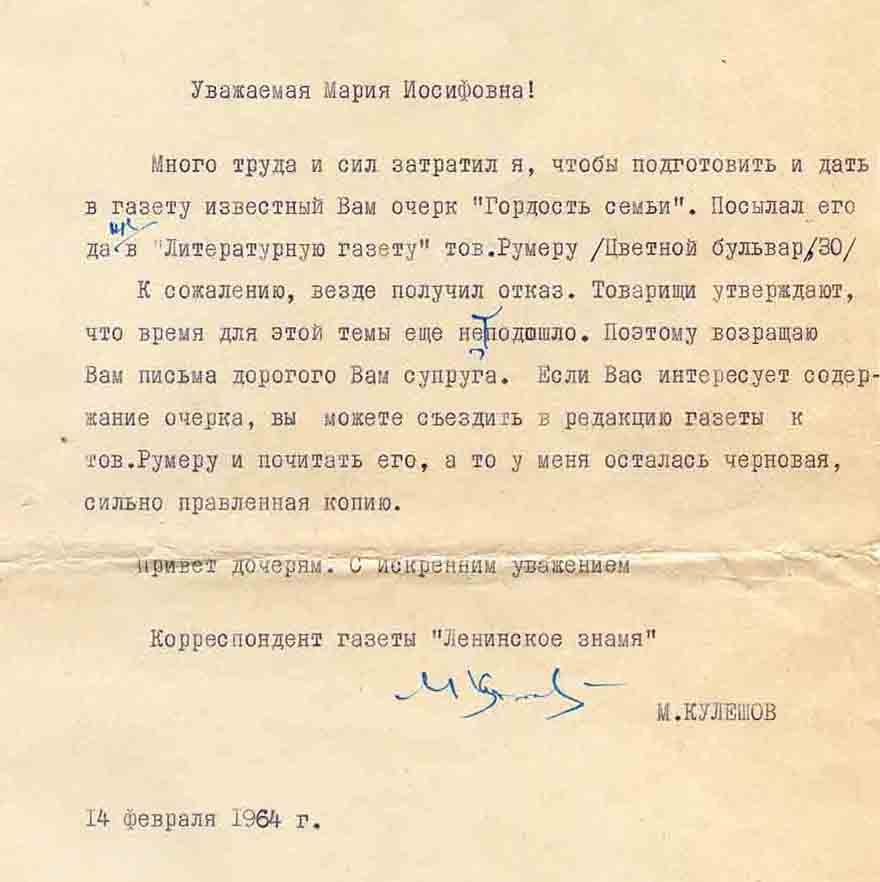
Время шло, но и в изданной к 150-летию МВТУ книге (1980) – из трех, кроме фигуранта «дела Промпартии» Калинникова, репрессированных к 1938-му году ректоров втуза, авторами «прощен» только Н.П. Горбунов; никак не упоминается предшественник Цибарта П.Н. Мостовенко, причем годы его ректорства «отошли» Горбунову. Цибарту повезло несколько более: он значится в подписи под коллективной фотографией с Калининым и Енукидзе и др., видимо в день награждения МММИ и его директора Цибарта орденом (орден виден на пиджаке А.А.), в качестве одного из «работников МВТУ». Являлось ли это замалчивание директорства Цибарта отголоском давней институтской войны с ним лагеря «ценных товарищей», вышедшего из нее победителем, или было продиктовано известной установкой Брежнева на тихую реабилитацию Сталина – сказать трудно.
Но, что касается победившей в 1937-м году стороны: и в высшем советском руководстве, и внутри самого́ МММИ–МВТУ долго еще работали достаточно весомые лица, вряд ли заинтересованные в восстановлении доброй репутации Цибарта как директора важнейшего советского втуза – бывшие его «разоблачители». Всесильный генерал-лейтенант инженерно-танковой службы, зам. министра среднего машиностроения и «герой атомного проекта», лауреат высших советских премий П.М. Зернов умер в 1964-м году (в возрасте 59 лет); его «друг-приятель» М.С. Ховах, декан факультета ТГМ МММИ им. Баумана в 1935 г. и затем с 1939 по 1943 г., член научного совета по двигателестроению ГКНТ при Совете Министров СССР, член научно-технического совета Минавтопрома СССР и пр., и пр., – умер в 1981-м. Комсомольский секретарь МММИ А.Г. Головинцев, говоривший в 1937-м году, что Цибарта «надо посадить» – был деканом факультета ТГМ в 1957–1959 гг. ...
К XXI-му веку внутривузовские бои ВКП(б) или приоритеты поздней КПСС должны как будто уйти в прошлое. Однако привычка умалчивания о директоре МММИ 1930–1937 гг. не отжила и в постсоветское время. Так, в юбилейном издании 2005-го года «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 175 лет» (Федоров, Павлихин) его авторы специально задаются вопросом – почему после разделения МВТУ в 1930-м году именно МММИ им. Баумана стал по общему признанию настоящим преемником прежнего знаменитого ИМТУ, – и затем, отвечая на него, указывают на великолепный профессорский состав института (сохраненный несмотря на его «реакционность», добавим мы), описывают многие институтские нововведения и достижения, рассказывают об учреждении новых кафедр, лабораторий и рождении собственных научных школ, вспоминают о ведущей роли МММИ им. Баумана в общем прогрессе технического образования в СССР того времени и многое другое, – но при этом фамилия Цибарт не называется ни разу (!). Зато сообщается, что в 1934-м году в работе МММИ «вскрылись недостатки» – хорошо еще, что не «вредительство», как о том повествуется в юбилейной книге к 125-летию МВТУ... А в списке ректоров, в этом солидном издании, имя и отчество первого директора Бауманского перепутаны... Подобное отношение к А.А. Цибарту явно несправедливо!
Как говорил сам Цибарт в свою защиту в 1937-м году (партком МММИ 22 июля) – «В отношении руководства учебным процессом, получается так, что я ничего не делал. Мои заместители тоже, а ВТУЗ все время идет вверх. Числился лучшим ВТУЗ"ом, чем же это об"яснить. Неужели все идет самотеком. Это неверно»...
Впрочем, значительно справедливее относится к Цибарту И.Л. Волчкевич, автор замечательных книг по истории МГТУ. Однако и в них есть некоторые небрежности, которых, из-за безвременной смерти автора, уже не исправить.
Думается, что без понимания «социалистическим директором» Цибартом истинных ценностей науки и образования, без его умения создать благоприятную творческую среду для тех же «реакционных» профессоров (да просто сохранить их!), без его личных усилий, знания дела, энергичного и талантливого администрирования вряд ли бы Бауманский, осколок прежнего МВТУ, принял тот замечательный новый старт, который обеспечил его дальнейшие успехи.
Хотелось бы, чтобы инерция умалчивания наконец сошла на нет, и имя директора Цибарта заняло достойное место в памяти всех, кто имеет отношение к наследнику славного ИМТУ – МГТУ им. Н.Э. Баумана.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
как складывался современный архитектурный облик старого здания МГТУ – Слободского дворца.
Предыстория и первоначальный вид; штукатурка и покраска – или кирпич;
нереализованная перестройка в 1900-х гг. и «безбожные» надстройки; судьба ограды,
а также загадочные письмена и прочее ▲
Несколько более подробно – см. в отдельном файле
Усадьба Бестужева-Рюмина, дом Безбородко и дворец Павла I
в стенах Ремесленного учебного заведения
Прародителем здания МРУЗ (Московского ремесленного учебного заведения) – ИМТУ – МВТУ им. Баумана, Слободского дворца, была усадьба канцлера Российской империи А.П. Бестужева-Рюмина, выстроенная еще к 1749 или 1750-му году; бо́льшая часть капитальных стен ее центрального и двух фланговых (со стороны парка) корпусов служат по сей день. Создатели той усадьбы достоверно не установлены – называют имена либо Д. Ухтомского, либо (что вероятнее) Б. Растрелли, как автора проекта, и осуществлявшего проект П. Гейдена.
Имение вскоре попавшего в опалу графа трижды за свою частную историю отходило в казну и получало новых вельможных владельцев. Сначала оно ненадолго вернулось Бестужеву-Рюмину, который упросил Екатерину его выкупить, затем было жаловано А.Г. Орлову, брату ее фаворита. После им владеет «светлейший князь» А.А. Безбородко.
Со времени Безбородко начинается новый этап в архитектурной истории усадьбы. Эта новая история отчасти представлена подлинными чертежами лучших российских зодчих (с их репродукциями, как и подробной историей Дворца, можно ознакомиться в статье О.С. Евангуловой – см. источники). В 1788–1793 годах М.Ф. Казаков, по проекту Дж. Кваренги и при возможном участии Н.А. Львова усадьбу перестраивает, объединяя деревянными галереями главный и фланговые корпуса усадьбы в одно огромное здание, надстраивая центральную часть третьим этажом и, конечно, меняя прежний барочный облик усадьбы на классический. (Встречаются в истории сложения комплекса также имена Е.С. Назарова и В.И. Баженова – в 1812-м году вместе со всем комплексом сгорит выстроенная ими деревянная церковь.) Таким образом, при сохранении большинства стен изначального творения Растрелли, его объемно-пространственная композиция изменилась практически полностью, а от прежнего архитектурного убранства не осталось ничего.
Новое здание потрясало современников великолепием. «Дом мой в Москве первый», с гордостью замечает Безбородко. Польский король Станислав Понятовский отозвался о нем так (цит. по: Евангулова): «Во всей Европе не найдется другого подобного ему в пышности и убранстве... многие путешественники, имевшие случай видеть Сен-Клу в то время, когда он совсем отделан был для французской короны, утверждают, что в украшении Безбородкина дворца и больше пышности и более вкуса».
Зимой 1796/1797 гг. Безбородко подарил свой дом Павлу I; вступивший на трон император предполагал провести в нем коронационные торжества. Отныне это – царский «Слободской» (от «Немецкая слобода») дворец. Казаков работает над ним снова, но большинство предлагавшихся изменений остались в проекте. В 1801-м году, после убийства Павла и в связи с коронацией во дворце Александра I, готов очередной проект совершенствований дворца, однако с этого года он был почти оставлен вниманием высочайших особ – в итоге здание остается в основном таким, каким оно стало при Безбородко.
В 1812-м году царский Слободской дворец сгорел. Полностью утратив все деревянное, теперь он являл собою три руинированные, без кровель и перекрытий, раздельно стоящие части изначальной усадьбы Бестужева-Рюмина (с переделками Казакова). Центр сохранил стены, фланговые же корпуса пострадали значительно больше: в документах, на которые ссылается Евангулова, говорится лишь об оставшихся от них фундаментах. Несмотря на царские намерения и разные проекты восстановления дворца (архитекторы Мироновский, Тюрин, Таманский), таким он оставался до 1826-го года – когда его «каменные корпусы» (т.е. и фланги что-то от стен все-таки сохранили) были переданы вдовой Павла I-го Марией Федоровной Воспитательному дому для создаваемого при нем «Ремесленного учебного заведения и богадельни» на триста «мальчиков-сирот». Это начало истории знаменитого московского технического училища (статус Императорского жалован ему Александром II-м 1 июня 1868 года). Реконструкция поручается Д.И. Жилярди, в помощники себе Жилярди избирает А.Г. Григорьева.
Нынешний памятник архитектуры, именуемый Слободским дворцом, – это, если быть точным, – здание МРУЗ. И дело не только в новой функции здания: вместе с ней Жилярди в корне изменил весь его (допожарный) облик. Корпуса древней усадьбы вновь объединяются им в одно целое двухэтажными, теперь каменными галереями, однако общую композицию творения Кваренги – Казакова полностью переопределило появление двух мощных, той же высоты в три этажа, что и центр, и выступающих далеко вперед крыльев – новых учебных корпусов. Исчез парадный портик перед главным входом, фасад приобрел чрезвычайно лаконичное и вместе с тем столь же впечатляющее убранство.
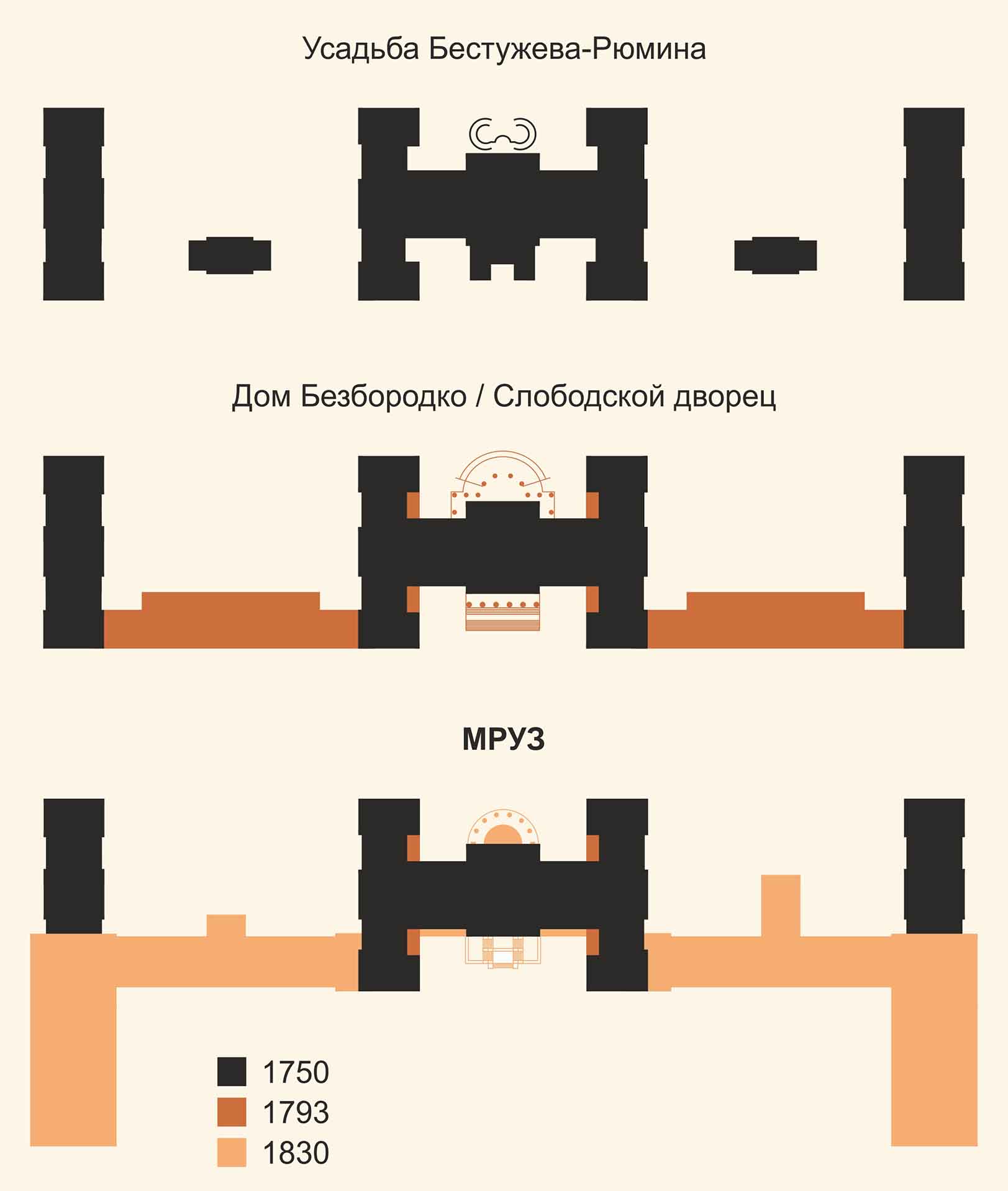
Настоящие авторы:
Доменико Жилярди и Афанасий Григорьев
Итак, восстановление и реконструкцию дворца для нужд заведения вел с ноября 1827-го по 1830-й год Д.И. Жилярди при значительном участии его старшего помощника, по должности, и друга А.Г. Григорьева.
Доме́нико Жилярди – один из величайших зодчих, определявших лицо русского классицизма. «Поздний» или, как лучше говорится, «высокий» классицизм, лаконичный и восхитительный имперский стиль – «ампир (empire)» – это, в числе главнейших его творцов в России, Жилярди.
(Стиль враждебной и поверженной наполеоновской империи, особенно в его итальянском изводе, действительно оказался на удивление русским. Таково уж свойство эстетики форм: с общественными страстями она связана весьма относительно. Венценосные сыновья вдовствующей императрицы не увязывали архитектурные стили с государственной идеологией – не больше чем с модами или кухней, которым ничто не мешало оставаться и французскими. Они считали их, свысока, делом мастеровых, и были на самом деле правы... Суд вынесло время. Долгий последующий период попыток, как официозных, так и исполненных общего энтузиазма, придать архитектуре национальный характер лишь завел ее в тяжелый упадок. Что византийско-русский, что русский стили остались в восприятии потомков только ложными, тогда как памятники ампира, в свое время показавшиеся власти чуждыми, а т.н. прогрессивной общественности казенными, теперь ощущаются самыми родными и теплыми.)
Афанасий Григорьев, ученик и воспитанник Жилярди-отца, сын крепостного, выкупивший вольную в 1804-м году, – также один из любимейших русских архитекторов (любой может вспомнить очаровательный дом Хрущевых-Селезневых на Пречистенке, в котором располагается ныне музей Пушкина). В общих работах Жилярди и Григорьева по возрождению важнейших зданий послепожарной Москвы – в их числе и Слободского дворца – собственная роль каждого из них документально неопределима, но считается, что общие замыслы принадлежали Жилярди, рабочие чертежи и ведение строительства – Григорьеву. Здесь надо заметить, что в прежнее время «построить по проекту» значило нечто много бо́льшее, чем выступить в качестве современного прораба: построенные по одному и тому же проекту здания здания могут различаться так, что, скажем, даже в хорошо известном рядовом «памятнике архитектуры» могут распознать общий с памятником – хрестоматийным шедевром проект, и это составит для иследователей настоящее открытие. То же и слова «рабочий чертеж» – это вернее было бы выразить как «сам проект»: бесчисленных чертежей, усеянных точными размерами и примечаниями, тогда и не бывало. Так сказать, архитектура в бо́льшей мере вершилась на месте, в натуре. – Итак роль Григорьева в реконструкции Слободского дворца, возведении МРУЗ, была немалой, что видно еще и по тому, что с ноября 1828 по сентябрь 1929 г., в разгар строительства, болевший Жилярди находился в родной Швейцарии (а принявший в это время на себя все труды Григорьев был жалован бриллиантовым кольцом).
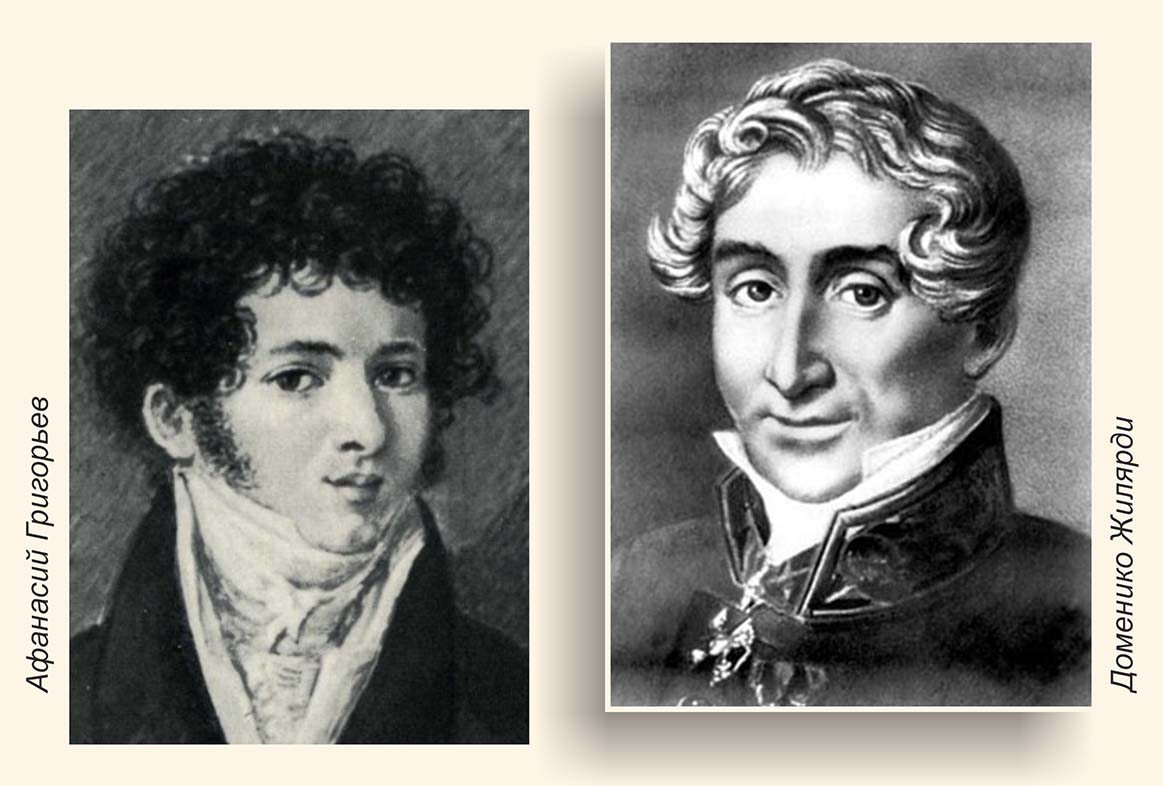
Доменико («Дементий Иванович») Жилярди
Афанасий Григорьевич Григорьев
Первые два варианта здания, пополнившие сокровищницу «бумажной архитектуры», были отвергнуты Опекунским советом Воспитательного дома из-за их дороговизны. Может быть, эти два удара и помогли зодчему решиться на поразительно простое и (сколько мы смеем судить) наилучшее решение. Чтобы представить внешний вид будущего дворца, Жилярди уже не потребовались красивые многодельные отмывки, хватило двух карандашных чертежей-набросков главного и паркового фасадов его центральной части (их читатель сможет увидеть на этой странице); в окончательном варианте нет ни внушительного купола, присутствовавшего в одном из первых вариантов, ни парадных встречающих колоннад. Но и он был осуществлен с некоторыми потерями. В итоге на главном фасаде недостает части запроектированного лепного декора, а также, к еще бо́льшему сожалению, отмеченного скульптурными группами стилобата, который «торжественно» приподнимал бы подходящих к главному входу и предполагал лучшие чем сейчас пропорции крыльца; парковый фасад не везде, где намечалось, получил руст и т.д. И за всем тем, результатом явился один из признанных шедевров высокого русского классицизма. Именно Доменико Жилярди и Афанасий Григорьев определили впечатляющий архитектурный облик дворца, воплотивший ампирные монументальность, простоту и изящество. Здание поистине великолепно (и остается только жалеть о его малой доступности для обозрения, как и, едва ли не хуже того, о громоздящейся за ним башне корпуса МВТУ времени 1950-х гг.). Подчеркнуто мощен ритм в решении главного фасада, создаваемый семикратным повтором излюбленной Жилярди композиции – арочного, на два этажа, проема с симметрично вписанным в него фрагментом колоннады (в данном случае из двух строгих тосканских колонн, образующих трехчастное «итальянское окно»). Разновысокие основные объемы здания – трехэтажные центральная и фланговые части, акцентированные масштабными итальянскими окнами в арках, и в контраст им пониженные двухэтажные соединительные корпуса-галереи с их монотонными рядами окон – образуют выразительную, четкую и ясную композицию (которая, увы, была нарушена с появлением надстроек галерей в конце XIX-го века). Обращенный к Яузе парковый фасад, ныне замкнутый в «колодце» внутреннего двора нового корпуса МВТУ, в сравнении с уличным далеко не столь лапидарен. Лирична, как в «подмосковной», окруженная по 2-му и 3-му этажу ионической колоннадой полуротонда (похоже, была использована колоннада авторства Казакова), которую составляют алтарная часть помещенной в 3-м этаже училищной церкви св. Магдалины и восточная сторона парадного актового зала в основном (втором) этаже.
В 1830-м году здание было готово, 1 июля 1830-го года император Николай I утвердил устав Ремесленного заведения. Правда, пригодным для обитания размороженное за долгие годы пребывания в руинах здание стало лишь в 1832-м году.
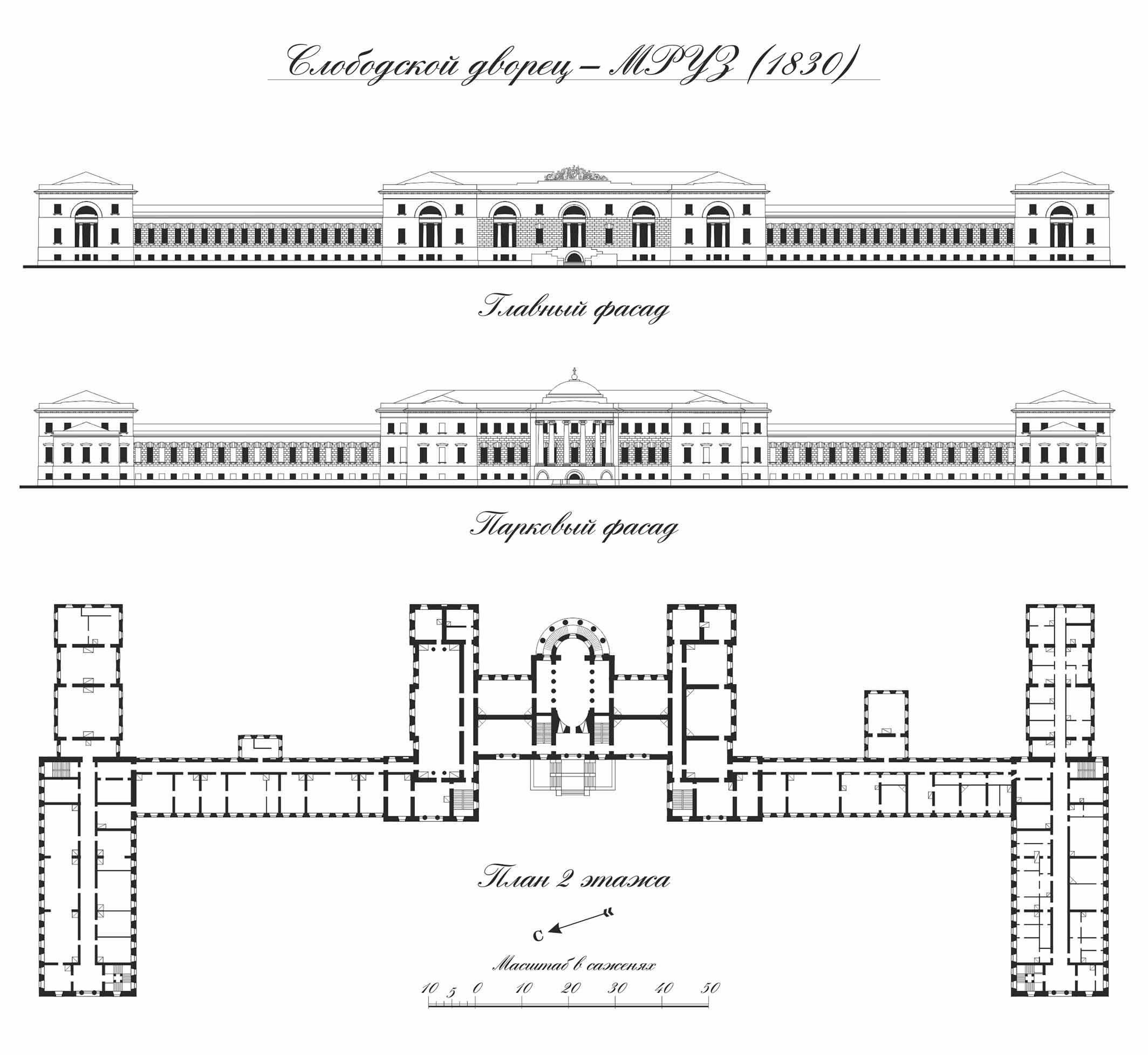
Доменико Жилярди, Афанасий Григорьев. Слободской дворец – здание МРУЗ.
Эскиз реконструкции главного и паркового фасадов на момент завершения строительства в 1830 г.
(на парковом фасаде показаны необходимые, но неосуществленные замковые перемычки окон галерей и руст в центральной части по бокам от ротонды;
не показаны пристройки к галереям)
Двухэтажные корпуса во флангах здания со стороны парка – фрагменты усадьбы Бестужева-Рюмина / Слободского дворца XVIII в.
Почти полностью сохранила капитальные стены бывшего дворца центральная (трехэтажная) часть здания
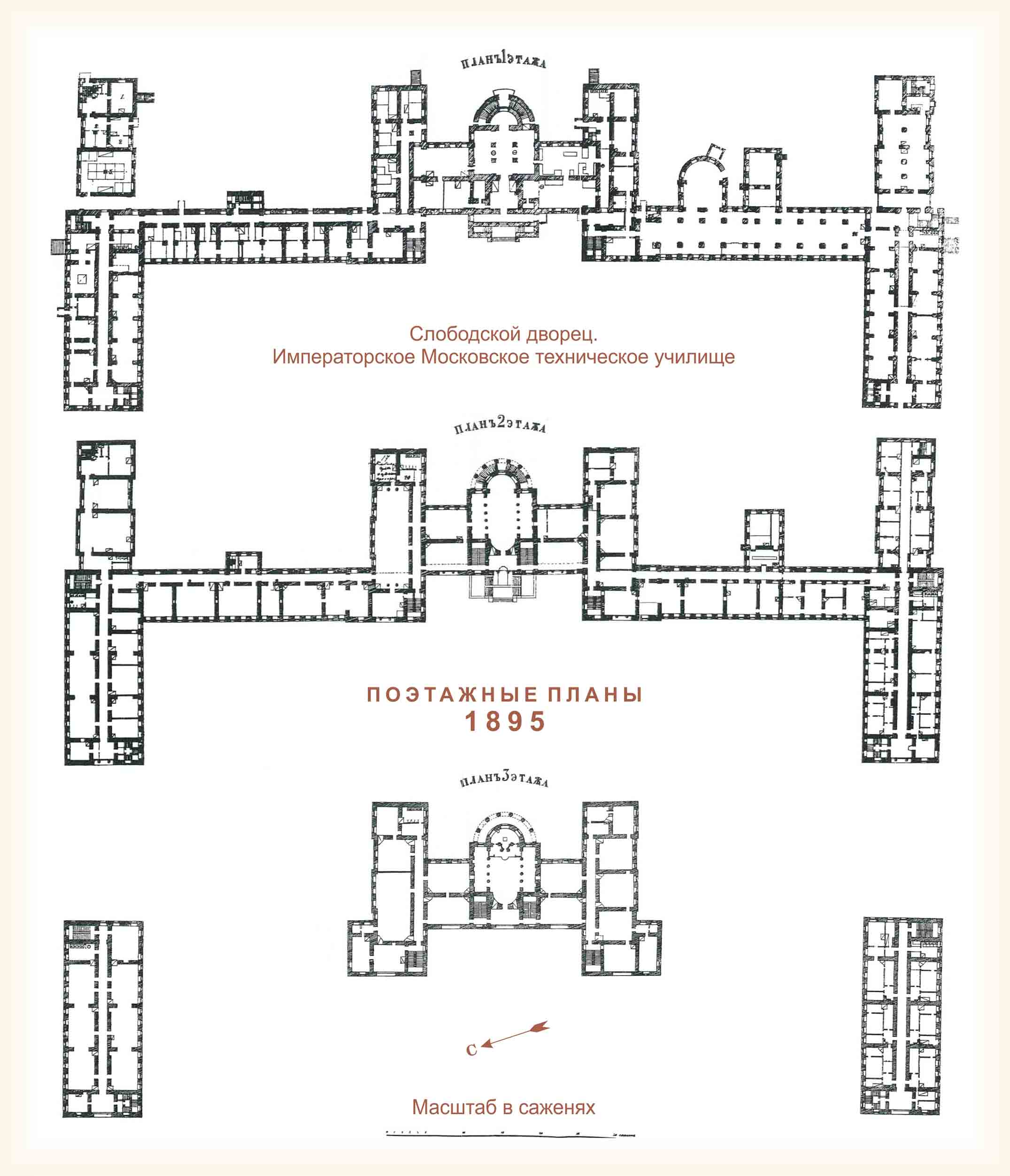
Поэтажные планы здания ИМТУ, 1895 г.
(по материалам Музея МГТУ им. Баумана, без экспликаций)
Ценнейшее в интерьере: церковь св. Марии Магдалины, актовый зал,
своды древней усадьбы
На месте ставшего ненужной роскошью грандиозного двухсветного зала в центре прежней усадьбы Безбородко – царского дворца, Д. Жилярди устраивает домовую церковь заведения в верхнем, 3-м этаже и актовый зал в бельэтаже – 2-м этаже.
Для церкви зодчий пристроил традиционную апсиду (полукруглую в плане алтарную часть), вписанную в колоннаду (по-видимому, сохранившуюся после пожара, еще авторства Казакова). Интерьер этой части решен удивительной шестиколонной ротондой. Два ряда таких же колонн (только имеющих базы, в отличие от поставленных прямо на солею колонн алтаря-ротонды), делят церковь на три нефа, широкий центральный и боковые.
Актовый зал, естественно, воспроизводит в плане церковь, без ротонды, и имеет, вместо изящных ионических колонн в церкви, мощные тосканские.
После Октябрьского переворота церковь ИМТУ была закрыта, хотя еще и послужила в 1921-м году для отпевания «отца русской авиации» Н.Е. Жуковского. С тех пор в ее помещении располагается – так сказать, сообразно его культовому назначению – «кабинет социально-экономических наук», а затем ученый совет или конференцзал. К настоящему времени в бывшей церкви уничтожен, в частности, чрезвычайно украшавший ее живописный и рельефный плафон, центральная часть которого выглядит на старых фотографиях как плоский купол со скрытой подсветкой. Плафон существовал еще по крайней мере в 1930-х годах.
Актовый зал более всего известен широкой публике тем, что в нем (впрочем, вероятнее, этажом ниже) лежало перед похоронами-манифестацией 20 октября 1905 года тело убитого революционера Н.Э. Баумана – таков в то время был настрой студентов и части преподавателей ИМТУ. (Об исторической встрече Алекcандра I с дворянством и купечеством в 1812-м году здесь можно не упоминать, т.к. в архитектурном отношении двухсветный зал царского Слободского дворца слишком отличался от актового зала МРУЗ/ИМТУ.) Профессионалам, разумеется, памятны и другие события. В частности, с 19 марта 1934-го года, при директорстве А.А. Цибарта, здесь проходили особо важные заседания первого в Союзе, после нескольких лет запрета на подобные коллегии в вузах, вузовского ученого совета – «Совета Краснознаменного Механико-машиностроительного института им. Баумана».
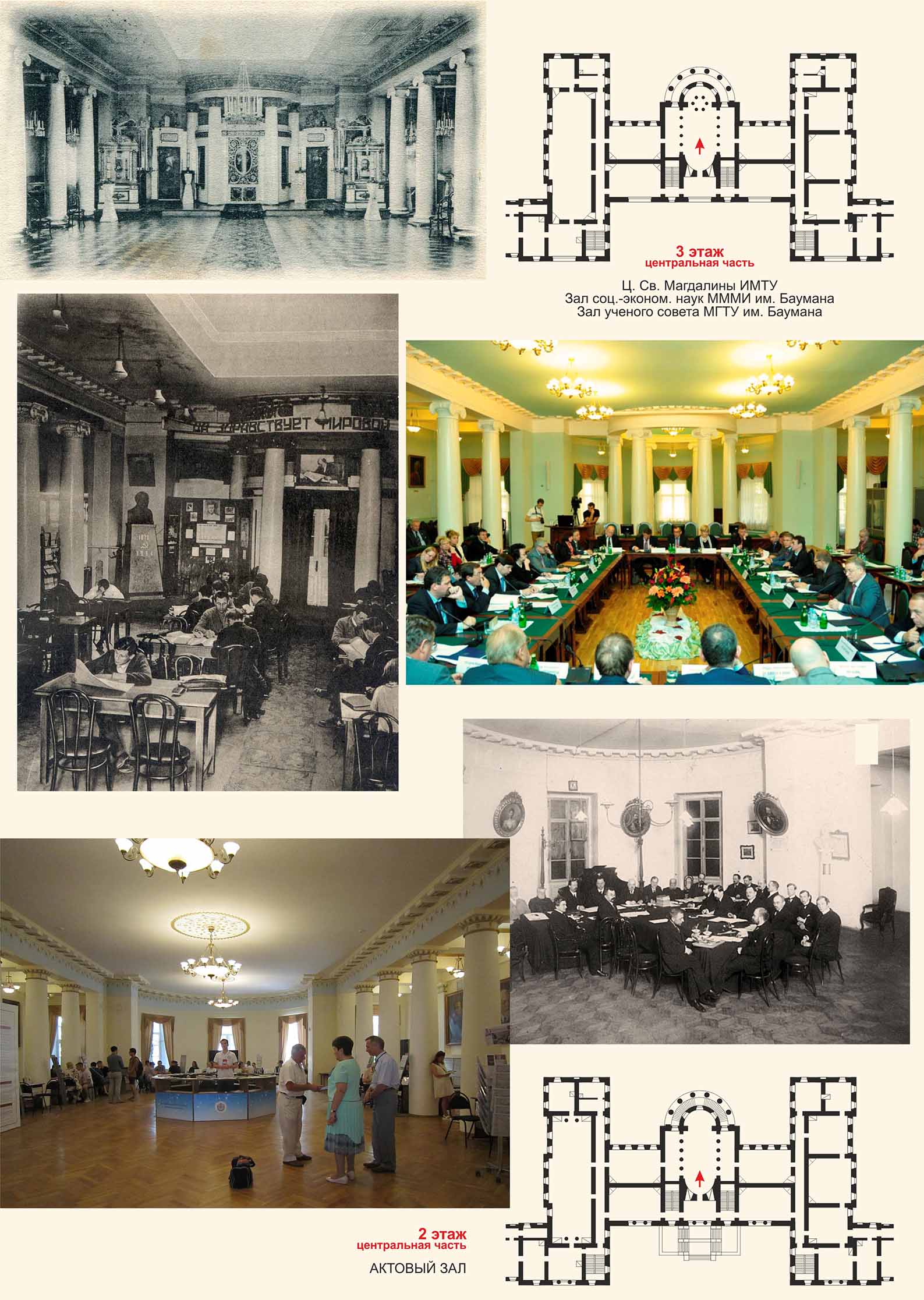
В 3-м этаже:
Ц. св. Магдалины, открытка 1900-х гг.;
«Кабинет социально-экономических наук», фото из юбилейного сборника «100 лет МММИ им. Баумана», 1933;
Зал ученого совета МГТУ им. Баумана, фото с сайта МГТУ, 2000-е гг.
Во 2-м этаже:
Актовый зал, фото автора, 2018; Актовый зал, фото 1900-х гг.
Цокольный (1-й) этаж, в котором ко времени учебы Цибарта располагались, кроме швейцарской и квартир служителей, училищные учебные мастерские и лаборатории, особенно интересен сводчатыми, по-видимому первоначальными перекрытиями в своей центральной части.
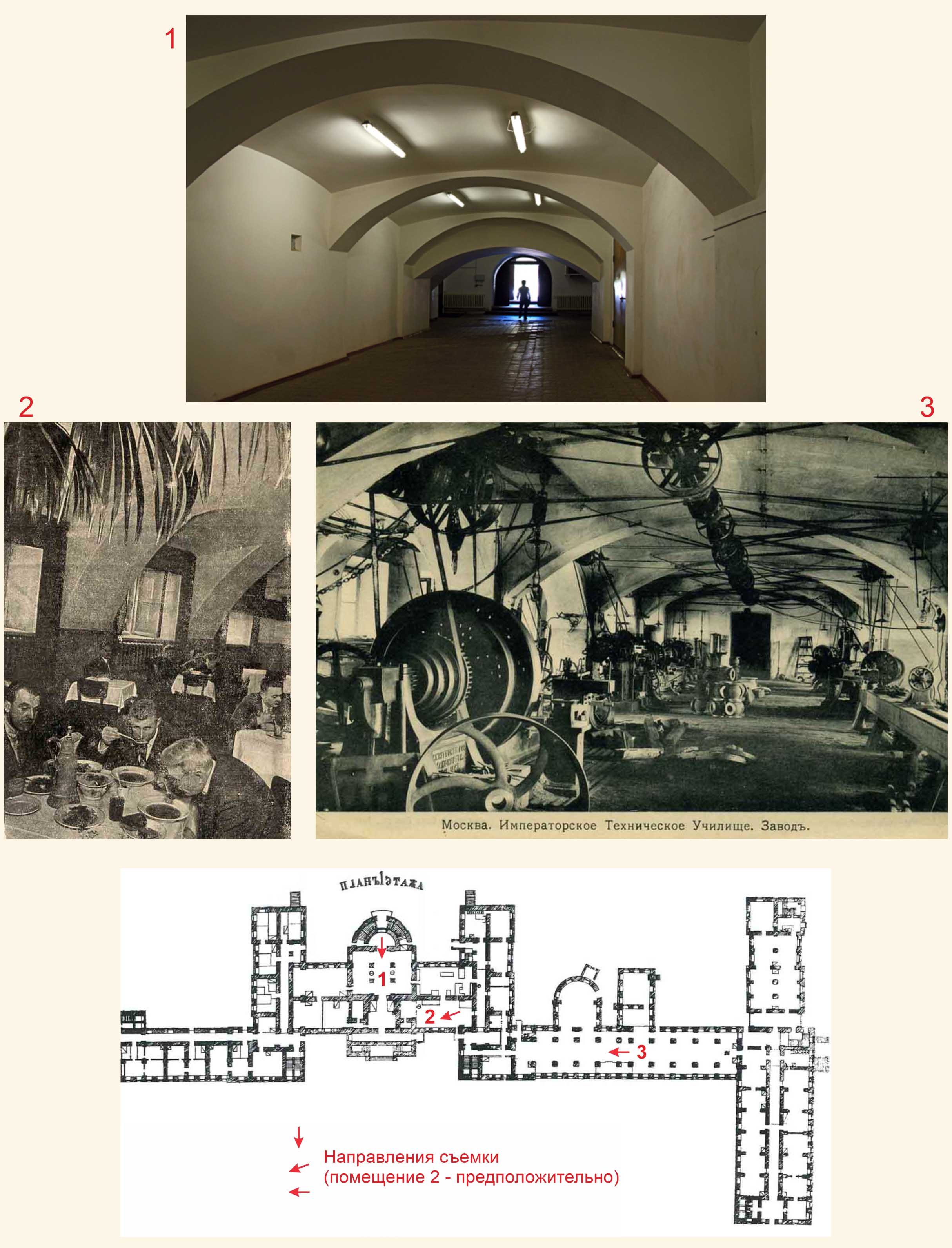
В цокольном (1-м) этаже:
Сверху: в бывш швейцарской. Фото 2022 г., автор препод. МГТУ им. Баумана (ЖЖ). Отгорожен сквозной проход от главного к парковому фасаду
Слева: в профессорской столовой, 1933. Центральная часть дворца. Фото из юбилейного сборника «100 лет МММИ им. Баумана»
Справа: Завод, 1900-е гг. Южная галерея. Скан открытки 1900-х гг. с сайта «Всероссийское генеалогическое древо»
Штукатурка и покраска... по замыслу Жилярди? Аргументы «за».
Потеря аттика и пр.
Сейчас это трудно представить, да и как-то не хочется в это верить, но еще на фотографии 1888-го года (см. Н.А. Найденов) здание запечатлено неоштукатуренным – кирпичным. На фоне темной кирпичной кладки ярко выделяются белокаменные детали – цоколь (не путать с кирпичным «цокольным» 1-м этажом), подоконные доски, антаблементы, а также (вскоре утраченные) аттики всех частей здания. Таким дворец и был изначально: во всяком случае, таким мы его видим на картине середины XIX века (см.: Евангулова). «Возможно, это [неоштукатуренная кирпичная кладка] был художественный прием, использованный Жилярди и в мавзолее в Отраде – постройке того же времени; то же было сделано и в мавзолее в Суханове» (Белецкая, Покровская). Впрочем не исключается и банальная нехватка средств: не были осуществлены даже традиционные лепные «брошки» из переплетенных венков в широких полях между окнами второго и третьего этажей во флангах здания, как и лепнина во фризах колоннад в «итальянских окнах», предусмотренные проектом Жилярди.
Тема этой штукатурки на самом деле весьма тревожна. «Необходимы... реставрационные работы, в частности, восстановление первоначального темно-красного тона стены...» (О.С. Евангулова), – шокирующей перемены как будто требует историко-архитектурная правда.
Однако принципиальный для судьбы дворца вопрос, предстояло ли ему по замыслу зодчего стать оштукатуренным или нет, может иметь и однозначный ответ в пользу штукатурки. Ибо совершенно очевидно соображение, что если в кладке имеются видимые следы переделок, то штукатурка тем самым предполагалась. Открытая кладка, изначально не предназначенная под штукатурку, обязана быть безупречной. Меж тем, после двух капитальных реконструкций исходной усадьбы XVIII-го века, едва ли не четверть кирпичной поверхности внешних стен здания МРУЗ может быть испещрена перекройками – это растесывания и закладки в перенесенных или видоизмененных проемах с кусками их прежних перемычек, повсеместное соседство разнокалиберного кирпича, остатки срубленных белокаменных, и классицистических и пышных баро́чных, элементов декора... Пожелать оставить обозримой столь пеструю картину (хоть и сокровище для будущих исследователей!) на фасадах дворца архитектор никак не мог бы. Пожалуй, не мог бы даже и допустить такую возможность.
Добавим к этому, что поверхности древних фрагментов стен, обгоревшие и только что расчищенные от остатков штукатурки, никак не могли быть хоть сколько-нибудь «презентабельными».
О том, что таится под штукатуркой, в основном можно только догадываться. – Кладка главного фасада возможно и не имеет внешних следов реконструкции: тут стены прежнего дворца могли быть частью переложены заново, частью облицованы кирпичом в связи с появлением приложенного к стене 2-го этажа руста. Не то нарядный, украшенный полуротондой парковый фасад (в то время отнюдь не задворки). В центральной его части, скорее всего, перекройки под нынешней штукатуркой должны обнаружиться. Это следует из простого осмотра стен, примыкающих к ротонде: рустован лишь полукруглый выступ этой ротонды, пристроенный самим Жилярди, а на прикладку руста к старым стенам (руст был предусмотрен в проекте) возможностей у каменщиков не хватило, сама стена под штукатуркой, понятно, осталась еще прежняя, времён Растрелли и Казакова, а значит и непригодная для демонстрации. Относительно выходящих в парк фланговых корпусов судить без натурных исследований трудно: остается неясность, действительно ли они были разрушены пожаром до фундаментов, и тогда стены были возведены заново, или все же частично сохранились и были использованы.

Пока нам известны лишь две фотографии старых стен без штукатурки, и только со стороны парка. На первой запечатлена сцена во время панихиды по первому выборному директору ИМТУ А.П. Гавриленко 13 мая 1914 г.: люди собрались у полуротонды с церковью св. Магдалины. Фасад к этому времени не оштукатурен, и на стене слева на фото явно видны следы переделок. (См. в рубрике «При ком: великие директора ИМТУ...». Сайт pastvu.com, автор поста Boris2, нашедший эту фотографию в журнале «Искры» № 19 за 18 мая 1914 г.)
Другая фотография – из фонда Музея архитектуры им. Щусева; к сожалению, она довольно «слепая», т.к. получить скан с негатива не удалось. Дата съемки неизвестна. Фасад не оштукатурен. Судя по тени от ротонды (от ее колонны, стены и полукруглого архитрава), это южная стена северного ризалита центральной части дворца (см. на схеме). Кладка в некоторых местах у краев окон 2-го этажа на ксерокопии фото неразличима, возможно она действительно затерта цементом; довольно явно, что широкие области у краев окон вычинены. Над правым на фото окном 2-го, существовавшего изначально этажа (на фото снизу), можно разглядеть, сильно увеличив фото, несколько торцов уложенных полукругом кирпичей – это, очевидно, завершение барочного сандрика; слева и справа от окна, похоже, следы срубленных пилястр. Края окон 3-го этажа не выложены, а прорублены. На стене под межэтажной тягой и на кирпич выше ее имеются белокаменные вставки, неясного нам назначения, из одиночных и положенных в короткие ряды блоков, и пр. Так что строителям «было что скрывать» под штукатуркой.
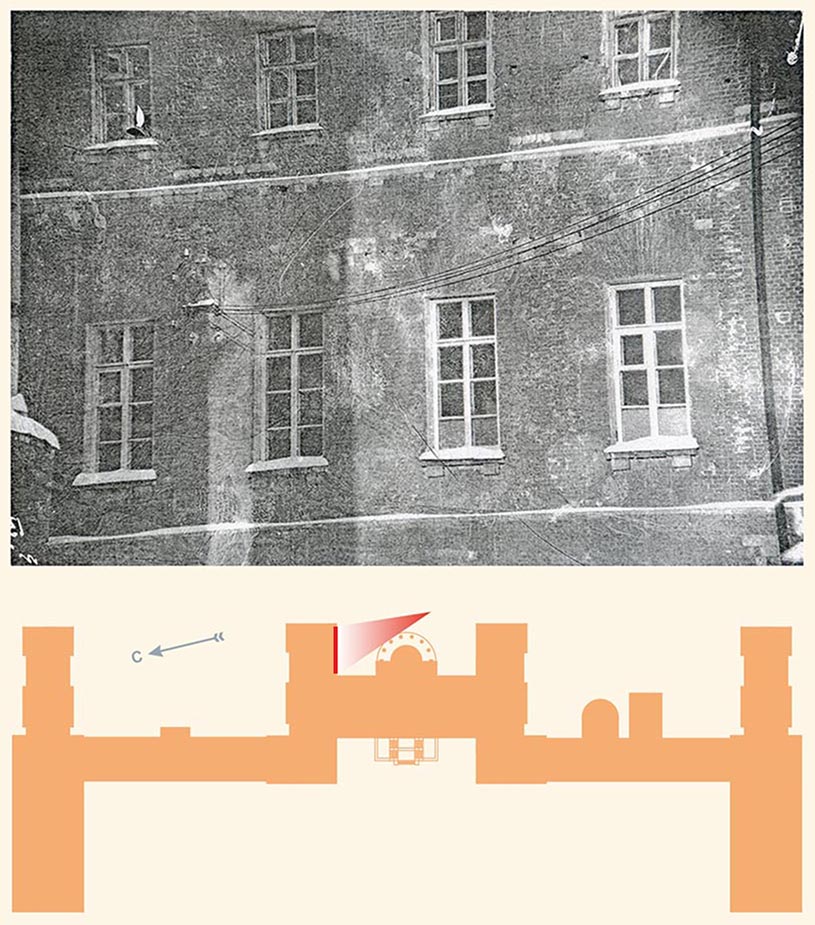
Парковый фасад, центральная часть. Южная стена северного ризалита без штукатурки
Музей архитектуры им. А.В. Щусева
Вообще же мы ошибаемся только в одном случае: если все те внешние стены дворца, которые стоят на месте стен бывшей усадьбы и воспроизводят их в плане, были переложены заново – что кажется невероятным. Окончательно решить вопрос можно за пару часов физической работы – достаточно всего лишь расчистить от штукатурки в нескольких местах стены дворца и взглянуть на их кладку. (Возможно, это уже было кем-то сделано.)

Парковый фасад, центральная часть
Чураков М.М., май 1968. Музей архитектуры им. А.В. Щусева
Площадка и лестницы с балюстрадой – сер. ХХ в.
В участках главного фасада центральной части дворца, имеющих по одному «итальянскому окну» слева и справа от центрального, стены в соответствии с проектом Жилярди были переложены заново – они значительно сдвинуты вперед. Кроме них, сколько можно судить по репродукции его рабочего чертежа, несколько сдвинуты вперед и фронтальные стены в расширенных Жилярди флангах этой части: здесь явно увеличены выходящие на Коровий брод прежние залы, устроены достаточно просторные новые лестницы. А приложенный во 2-м этаже кирпичный руст предполагает облицовку кирпичом также и стен 1-го и 2-го этажей, так что древняя кладка с переделками должна быть скрыта под кирпичом и там, где первоначальная стена сохранилась. О гладких боковых (северных и южных) участках стен судить без натурных исследований трудно. О парковом фасаде, об отсутствии приложенного руста в важных участках стен, выше уже говорилось. Если его стены изначальные и не облицованы кирпичом, то все перекройки фасада должны на их кирпичной поверхности отразиться (и ее, «по-хорошему», а значит и все здание, надо было оштукатурить). Крылья дворца, выступающие к Коровьему броду, и соединительные галереи целиком принадлежат Жилярди и Григорьеву, тут вопроса о перекладках нет. Но показательно, что по всему парковому фасаду дворца и в том числе его частях 1830-го года отсутствуют такие важные детали декора, показанные в проекте Жилярди и осуществленные на главном фасаде, как надоконные замковые перемычки. Это, конечно, та самая экономия, из-за которой, видимо, дворец и не был оштукатурен. Недоделки со стороны «двора» заказчики посчитали не столь важными. |
Можно привести и еще один аргумент за изначально предполагавшуюся зодчими штукатурку. Это само наличие запроектированных Жилярди, но неосуществленных деталей декора (помимо лепнины), которые, не будучи выполнены в камне, могли быть восполнены только в штукатурке. В первую очередь это отсутствующий в кирпичной кладке руст центральной части паркового фасада в пряслах у ротонды. Затем, на всем парковом фасаде не были выполнены – ни в белом камне, ни в рисунке кирпичного руста – декоративные замковые перемычки окон 2-го этажа. (Украсить замками на парковом фасаде предполагалось ни много ни мало 55 окон!) Места этих перемычек на плоскости стены, к которым подходит выступающий руст, оставлены гладкими. По архитектурным канонам подобное невозможно, да и смотрится откровенно плохо. То, что строители рассчитывали навести эти перемычки в штукатурке, очевидно (впрочем наличие подобных штукатурных деталей не обязательно предполагает оштукатуривание всей поверхности стен).
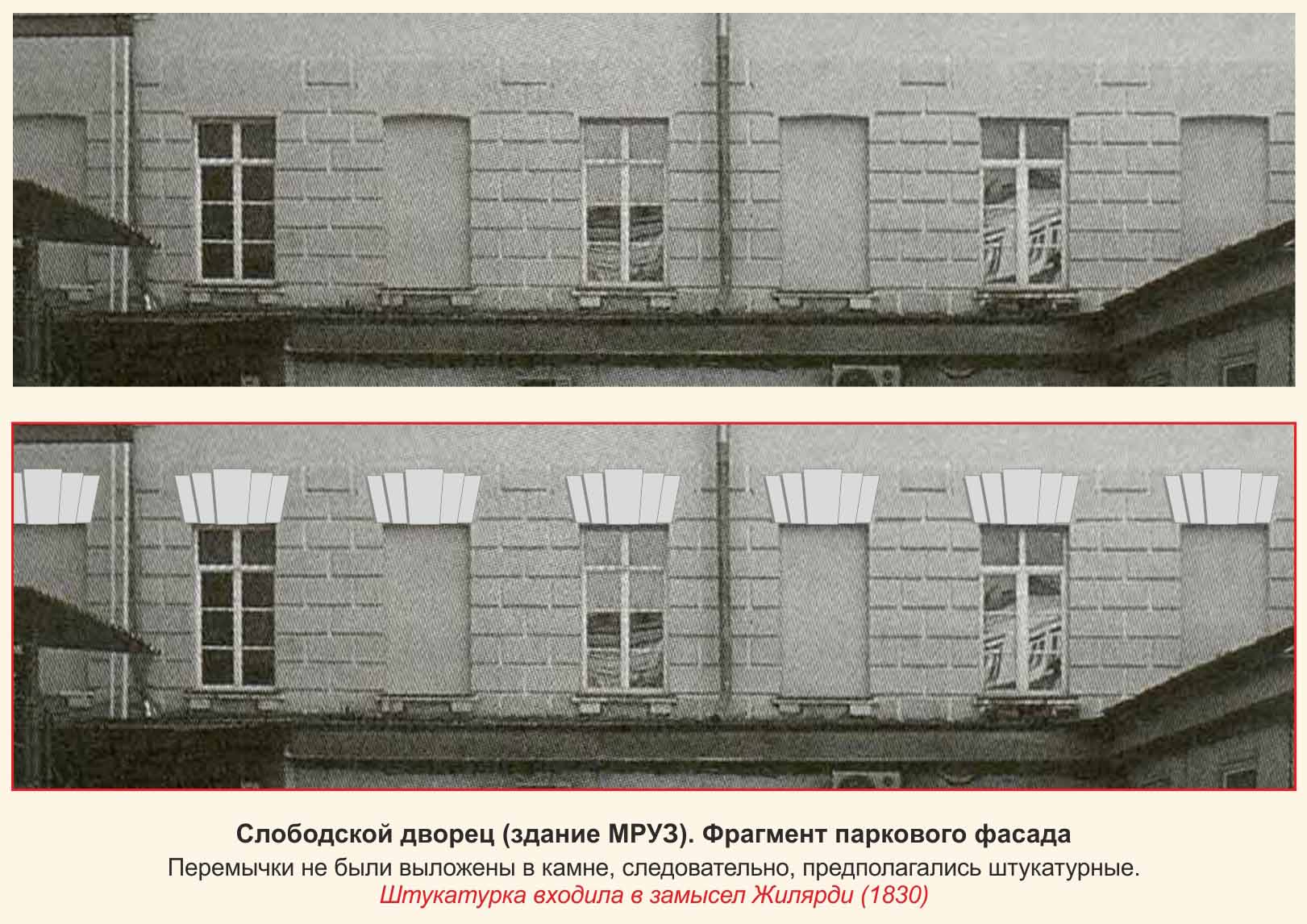
Итак, даже если по исходному замыслу Жилярди кирпич и предполагалось оставить открытым, в ходе работ не все, что для этого необходимо, удалось исполнить, а в этом случае замысел неизбежно был скорректирован самим зодчим в пользу штукатурки и остается авторским. (Это надо подчеркнуть, поскольку, повторим, в ходе будущей когда-нибудь реставрации обязательно встанет вопрос о возврате к голому кирпичу стен.) Кстати, такая корректировка была бы не столь и критична: в конце концов, пусть и не фактуры голой кладки, но того же контраста в цвете стен и деталей, который дают кирпич и белый камень, можно было достичь вишневой покраской по оштукатуренной поверхности (кроме желтого, красили в ту эпоху и в голубой, и в вишневый цвета). Помешать же правильному завершению работы мог, кроме экономических причин, окончательный отъезд Жилярди из России в 1832-м году.
Окраска свежеоштукатуренного после 1888-го года дворца была изначально белой – об этом два раза упоминает Борис Зайцев, в 1898/99-м учебном году студент-первокурсник ИМТУ, в своем автобиографическом романе «Юность»: «на небольшой площади, несколько пониже, к Яузе, огромное белое здание: Императорское Техническое...»; «и в осенней тьме Москвы на Коровьем Броду белое здание...». При этом цвет других классицистических домов писатель отмечает точно: «...химию слушают в другой аудитории. Тут окна в сторону Яузы, река видна, но за ней лесистый подъем – парк Кадетского корпуса: старинные, желтоватые здания. За ними Анненгофская роща...». Белым дворец кажется и на запечатлевших его в то время фотографиях. Когда здание приобрело столь органичную для классицизма желтую окраску стен при белых деталях убранства, нам неизвестно. На открытке, выпущенной Северным художественным издательством в 1912-м году (центральный вход с тамбуром) стены уже не белые (значит, желтые).
Таким образом, привычные, наверняка полюбившиеся каждому видевшему дворец светлая гамма и гладкие стены, но вместе с тем, увы, совершенно излишний тонко прочерченный в штукатурке ленточный руст, довольно аморфные декоративные замковые перемычки окон во 2-м этаже и ненужные профили между выложенными в кирпиче блоками подлинного руста появились достаточно поздно, вместе со штукатуркой – в последнем десятилетии XIX века. Но и не позже, т.к. имеются фотографии, где дворец уже оштукатурен и при этом отсутствуют надстройки, осуществленные Львом Кекушевым до 1899-го года.
О надстройках Кекушева, бывших частью его общего замысла – к счастью, неосуществленного – полной перекройки фасадов дворца, речь пойдет отдельно.
Надо признать, что те, кто в целом все-таки столь удачно (на наш взгляд) нарядил дворец в радостную штукатурку/покраску, сделали это не благодаря их какому-то особому художественному дару, ибо в остальном эти люди облику дворца прямо вредили. Одновременно с появлением штукатурки дворец потерял изначальную, каноническую в классицизме и весьма важную деталь своей архитектуры – свой белокаменный аттик (невысокую стенку-парапет над венчающим карнизом здания), по всему периметру дворца. От аттика сохранился лишь фрагмент над входом в центральной части: он служит постаментом для белокаменной скульптурной группы работы Витали. Видимо, с аттиком решили покончить из-за причиняемых им сложностей с водостоком (хотя, при российских зимах, парапет на краю кровли предохраняет прохожих от образования и падения наледи). Это существенная, совершенно недопустимая утрата, исказившая общие пропорции творения Жилярди – сделавшая его приземистее.
Тогда же или на несколько лет позже перед центральным входом, на площадке белокаменной лестницы у основного, второго этажа, появляется удобный и фундаментальный, но обезобразивший самый центр фасада деревянный тамбур. К счастью, он просуществовал недолго. (Студент Цибарт знал училище именно с этим тамбуром; см. на открытке в рубрике «Нуждающийся студент»).
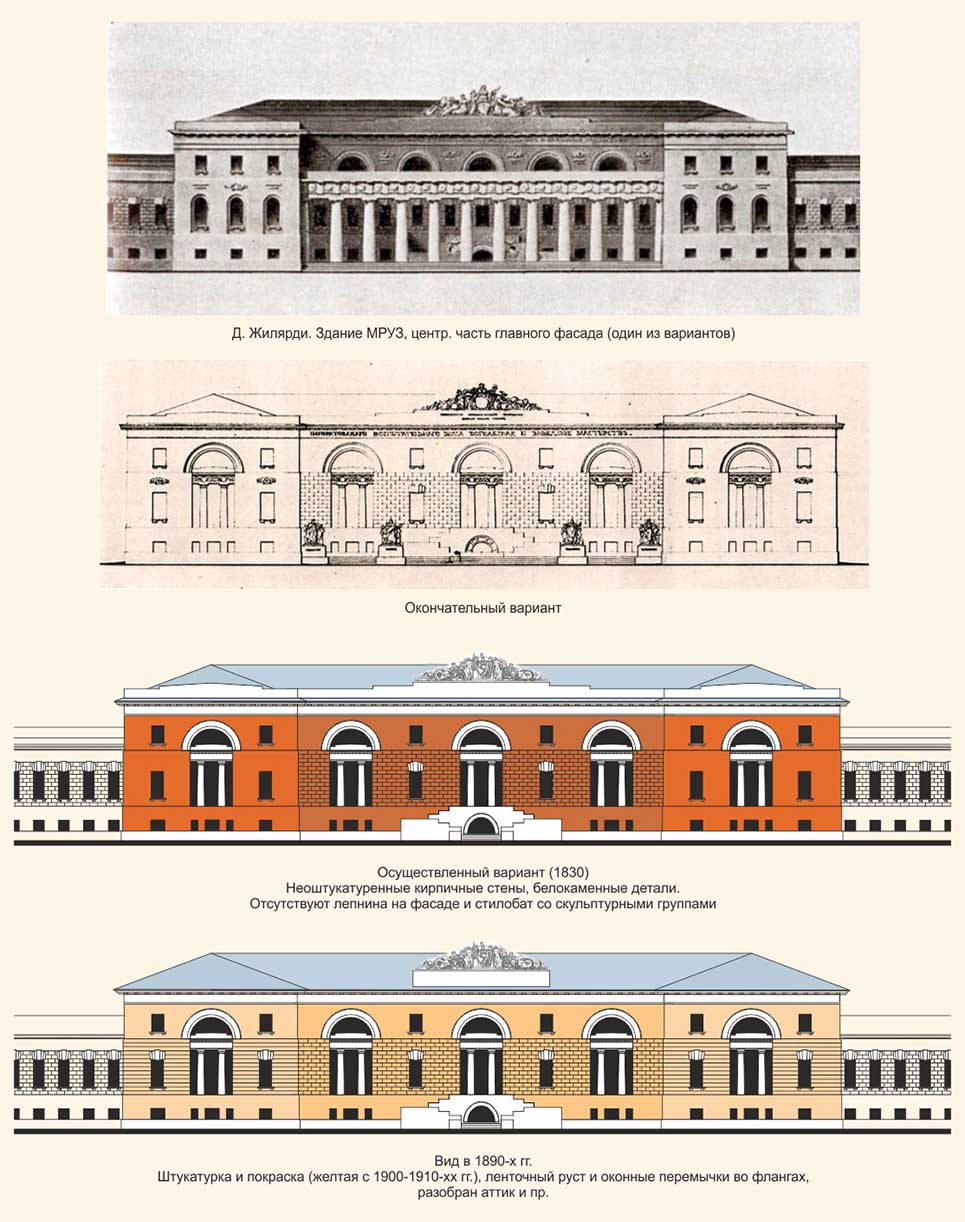
Незабываемая «Минерва»
Произведение Ивана Петровича (Джованни) Витали – одного из крупнейших российских ваятелей, мастера вполне камерного портрета и в той же мере монументалиста, умевшего подчинять свое творчество внешним требованиям архитектуры – запоминающаяся примета дворца и чуть ли не символ училища. Общий замысел скульптурной группы определил, разумеется, Жилярди. Это должна была быть центрическая пирамидальная композиция, довершающая кульминацию общей центрической композиции дворца, его главный вход.
В середине развернутой по фасаду группы фигур-аллегорий восседает богиня мудрости Минерва, римский аналог Афины, с подобающим Афине копьем (играющим в композиции примерно ту же роль, что в архитектуре шпиль) и щитом с рельефным изображением Медузы Горгоны. По обе руки от нее стоят, несколько сдвинутые в глубину и оттого предстающие с площади ниже сидящей Минервы, крылатые гении искусств – один с лирой, другой с факелом, символом передачи знаний. По краям – две полулежащие женские фигуры, олицетворяющие Искусство и Науку, и атрибуты последних – глобус, свиток, колесо, наковальня, два бюста (самого́ Витали и московского генерал-губернатора А.А. Долгорукого) и молоток скульптора, палитра, архитектурные детали (подробнее см., напр., Анцупова, Скульптурная группа Минерва»).




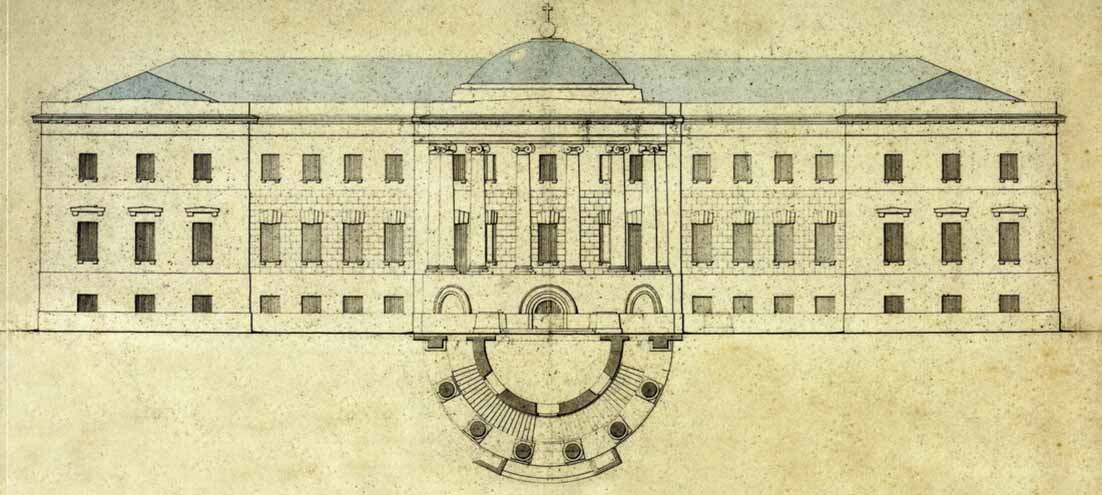
Парковый фасад. Проект Д. Жилярди, 1827.
(Сканы чертежей Жилярди главного и паркового фасадов – с сайта Общества изучения русской усадьбы,
см. ссылку в списке источников)
Ограда.
Таинственные письмена
Замечательна дошедшая до нас (хоть и с рядом досаднейших утрат и перестроек) ограда дворца, авторства Жилярди или, что вероятнее, спроектировавшего схожие ограды Григорьева. Это одна из лучших сохранившихся классических оград в Москве.

ИМТУ после 1899 г.
Композиция ограды, нарушенная – скорее погубленная – к настоящему времени, тонко продумана и удивительно гармонична.
(Мы судим о ней по открыткам конца XIX – нач. XX веков, где она еще, вполне очевидно, изначальная.)
Симметричная, относительно оси самого́ дворца, ограда имеет четыре входа, состоящих во всех из них из схожих по форме пилонов. Обрамляют картину ограды, за северным и южным пределами ее проекции на дворец, слегка выступающие за красную линию сравнительно широкие участки глухих кирпичных стенок со входами из кирпичных пилонов. Между ними, в проецирующейся на дворец основной части ограды – два далеко отстоящих от его оси главных входа. Эти входы имеют пилоны белокаменные, украшенные скульптурными львами на завершениях, и ведут в курдонер дворца, с разных сторон открывая входящему его лучшие, ракурсные видовые точки.
Другие элементы архитектуры ограды, кроме пилонов и общего белокаменного цоколя, – простые, слегка сужающиеся кверху белокаменные столбы, несущие кованые с литыми картушами решетки; сами решетки двух разных типов, основного широкого и узкого (плюс створки ворот); такие же кирпичные стенки, как и во флангах ограды, но длиной примерно в ширину ее секции.
Выстроена композиция вокруг двух ее кульминационных пунктов – это два главных белокаменных входа, – и решена двумя разными темами – ритмами в чередованиях ее немногих элементов. Общий, равномерный «фоновый» ритм образуют три участка секций с широкими решетками (всего таких секций – 21 в участке по оси дворца, и по 5 во флангах). Иной, более напряженный и сложный ритм – в четырех одинаковых отрезках ограды, каждая с кирпичными стенками по краям и вмещающая по три широкие и между ними две узкие секции. Особый ритм этих отрезков акцентирует входы: по одному такому отрезку с обеих сторон примыкает своими стенками к пилонам каждого из двух входов, образуя с ним общее центрическое целое.
«Фоновые» участки ограды – почти видовые (для находящихся на улице), они более прозрачны, т.к. состоят только из столбов и широких решеток. Двое крайних из этих «прозрачных» участков почти вплотную подходят к фасадам выдвигающихся к улице крыльев дворца, за долгим центральным участком – курдонер, парадная часть дворца. В противоположность этому, те отрезки ограды, которые окаймляют два главных входа, с глухими стенками и зачастившими, благодаря введению узких секций, столбами, заинтриговывающе прикрывают обзор – до того момента, пока входящий не окажется на территории и перед ним не предстанут открытые великолепные перспективы дворцового ансамбля. (Именно эти места застроены теперь проходными...)
Схожий эффект испытывает и пешеход. Двигаясь вдоль дворца от любого края ограды, мимо, сначала, ее глухих кирпичных стен и неукрашенных ворот, затем обнаруживая за ними появившийся вид на дворец и ощущая нарастание ритма элементов ограды, несколько прикрывающих этот вид, и затем к ее кульминации – одному из двух главных белокаменных со львами входов, – он, проходя немного дальше входа, оказывается в створе ее широкого центрального участка, на протяжении нескольких минут ходьбы демонстрирующего его взорам, за нарядными и вместе с тем простыми решетками, чудесные картины обширного курдонера и главного фасада.
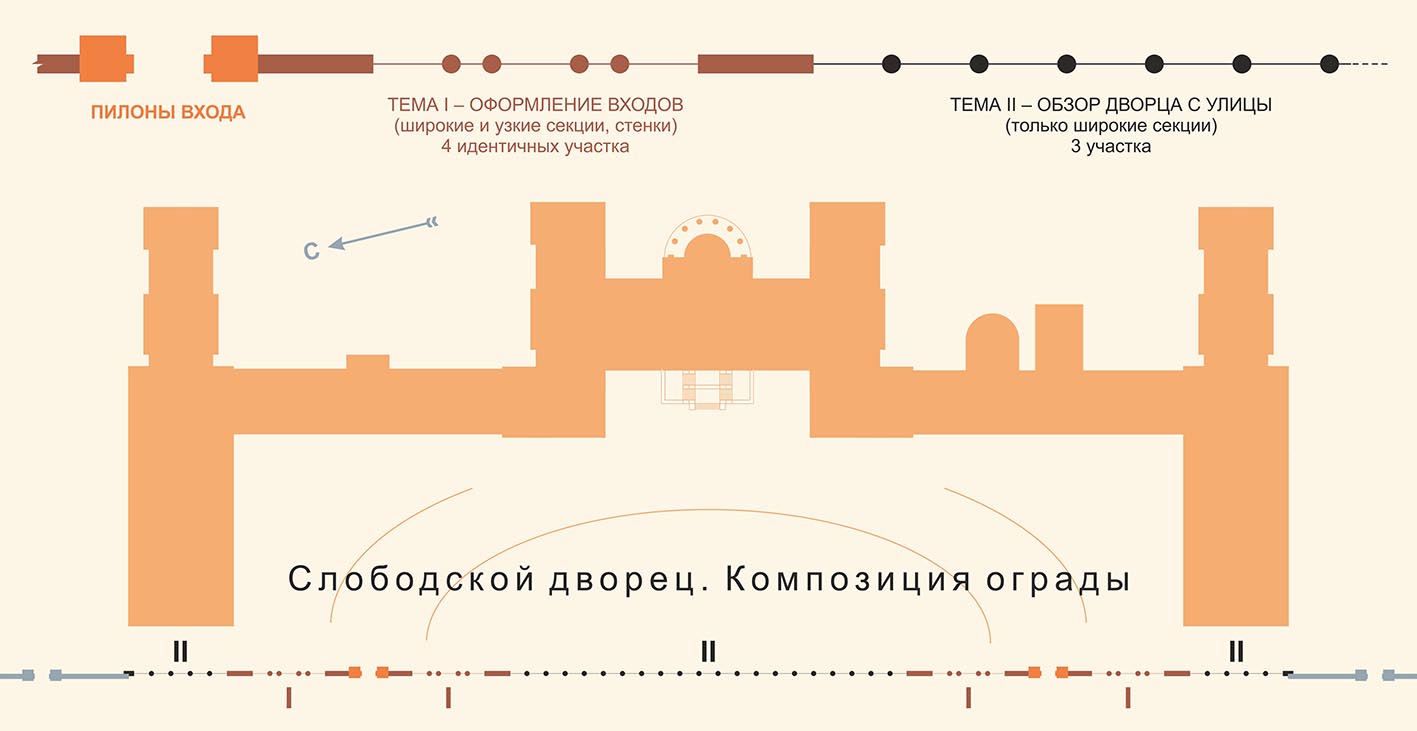
Слободской дворец. Схема ограды
Последний подлинный белокаменный лев исчез в 1990-х гг., а те, которых можно видеть сейчас – сделаны современным скульптором и установлены в т.ч. на перестроенной проходной северного входа к 175-летию МГТУ, в 2005-м; позже они перекочевали на кирпичные северные ворота. Эта проходная похоронила и сами белокаменные пилоны северного главного входа, вместе с примыкавшими к ним стенками. На южном главном входе пилоны еще живы: кое-как сохранился правый (от зрителя с улицы), а левый, вместе со стенкой, расширен стеной проходной. Стенки и ворота с несуществовавшими львами на месте прежних фланговых кирпичных стен и ворот (от краев дворца в стороны от него) – сильно переиначены в последнее десятилетие. Сама ограда никогда не реставрировалась (см. Учетная карточка)...
О композиции ограды можно и не вспоминать – ее «кульминациями» оказались прежде скромные кирпичные фланги, ныне изукрашенные новодельными львами на воротах и контрастами белого/красного, в то время как из двух главных белокаменных входов с подлинными львами один застроили вовсе, уничтожив четкую симметрию и центричность композиции, а другой давно изуродован.
Увы, чтобы оценить красоту ограды, приходится отвлекаться слишком от многого, причем не только от разрушений и архитектурных фантазий нового времени, но и от того ущерба ансамблю дворца и его ограды, который был причинен ограде без всяких ее физических повреждений еще в 1889-м году. Тогда были оштукатурены и получили светлую окраску исходно темно-кирпичные стены дворца. Однако такие же кирпичные поверхности стенок в ограде оштукатурены и окрашены не были, и этим ограда была почти «убита»: на фоне гладких и светлых стен дворца эти стенки смотрятся совершенно инородно, чуть ли не как временные сооружения для каких-то ремонтных работ. Кажется, любой архитектор, не связанный необходимостью следовать исторической правде, не задумываясь их оштукатурил бы и окрасил в цвет стен дворца (странно, что этого не сделали авторы дворцовой штукатурки, при наличии замечательного архитектурного факультета ИМТУ)... Ныне воспринимается без помех, если не считать следов времени и поновлений, в основном «фоновая» центральная часть ограды в 21 секцию. – Во всяком случае, такое впечатление сложилось у автора этой страницы.

Центральный («видовой») участок ограды.
Фото с сайта Яндекс-карты

Фрагмент ограды с южным входом (слева на фото)
Использована фотография Татьяны Васекиной, 2018. Сайт www.peshkompomoskve.ru
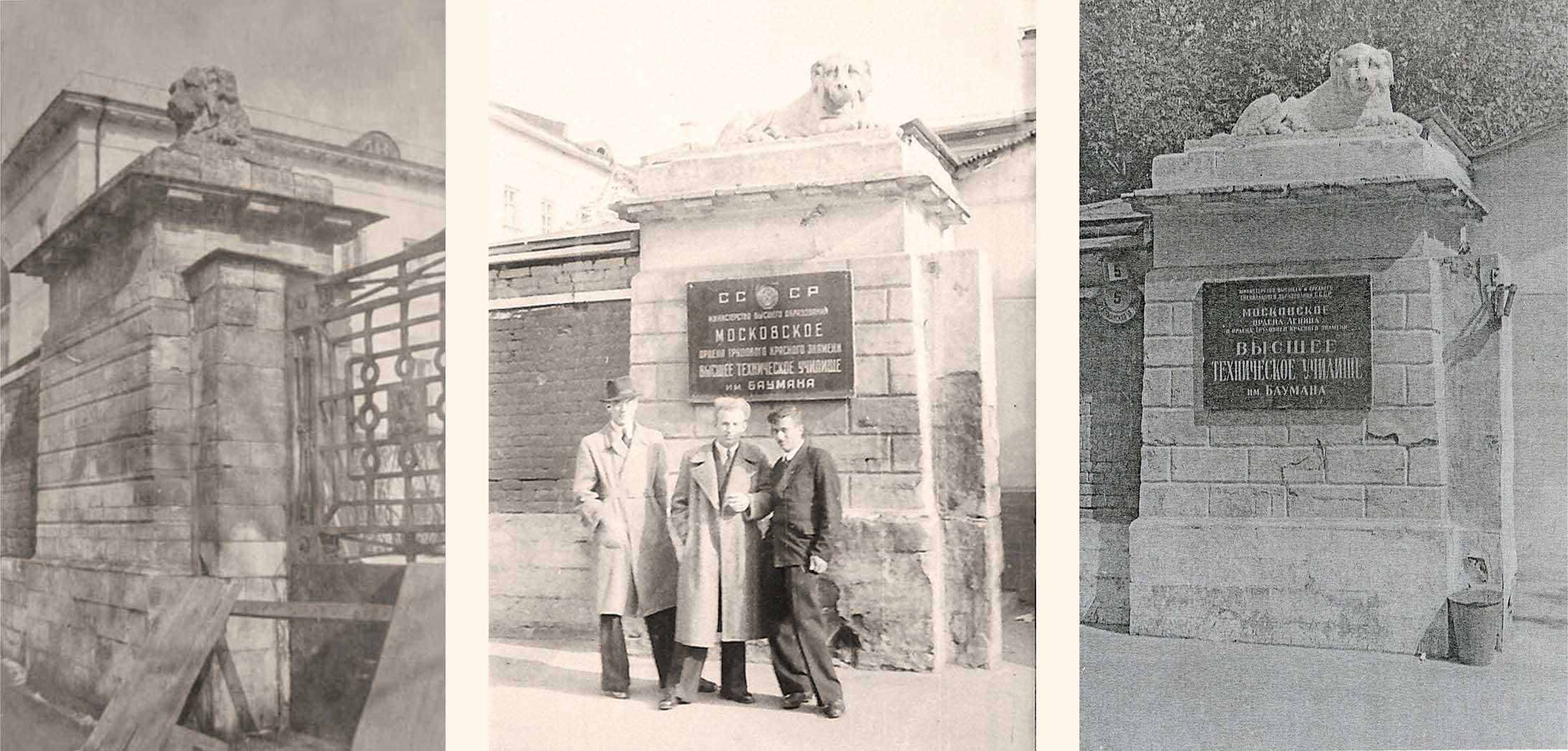
Пилон северного главного входа, подлинный белокаменный лев. 1940, 1955 и 1968-й годы.
1) Музей архитектуры им. А.В. Щусева, 1940 (видна также створка кованой решетки входа) 2) pastvu.com/280149 uploaded by Gor55
3) Музей архитектуры им. А.В. Щусева, фото М.М. Чуракова, 1968

Пилоны северного входа в ограде МРУЗ / ИМТУ / МВТУ им. Баумана в 1971 – 1987 гг.
(Проходная за пилонами построена в 1930–40-х гг. В настоящее время утрачены)
Фото с сайта pastvu.com, автор М.В. Стриженов

Фрагмент ограды. 2018
Главный и самый запоминающийся элемент всякой ограды – ее решетки. В ограде Слободского дворца почти все они, за исключением решеток входов, дожили до нашего времени (потому и можно говорить об ограде как о все-таки сохранившейся).
Кованые решетки двух типов – основного широкого и узкого – украшены, кроме собственного рисунка, литыми декоративными композициями (картушами), соответственно большого и малого вариантов. Большой картуш состоит из центрального венка и продленных крыльев из листьев и лент, малый – только из венка и лент. В обоих вариантах картушей, которые можно видеть в настоящее время, в круглое поле венков помещено рельефное изображение головы (т.н. маскарон) бога огня Гефеста, покровителя кузнечных ремесел. В малом варианте картушей имелись также и образцы с лирой и плодами в венке, вместо маскарона; вероятно эти картуши предназначались для решеток ворот, которые не сохранились. Образец такого картуша можно видеть в музее МГТУ.
Решетки Слободского не только замечательно красивы, – они любопытны также своей особой символикой.

Малый картуш с лирой и гексаграммами. Фото Музея МГТУ им. Баумана

Секция ограды Слободского дворца (с большим картушем). Фото Ирины Овчинниковой, 2015
Маскарон Гефеста, точнее его фон, породил множество легенд. По окружности поля с маскароном идет таинственная, как будто зашифрованная надпись, в сумме из 17 похожих на латинские и греческие букв (очертания трех из них не соответствуют ни одной ни в греческом, ни латинском алфавите), разделенных на четыре группы. Смысла этих письмен до сих пор не установил никто, если не считать фантастических «масонских» теорий (их появлению могут способствовать и имеющие долгую мистическую историю гексаграммы, шестиконечные звезды в тех малых картушах, которые не имели маскарона), – и той основной теории, что это не слова, а какие-то (впрочем тоже непонятные) аббревиатуры (см. Анцупова).
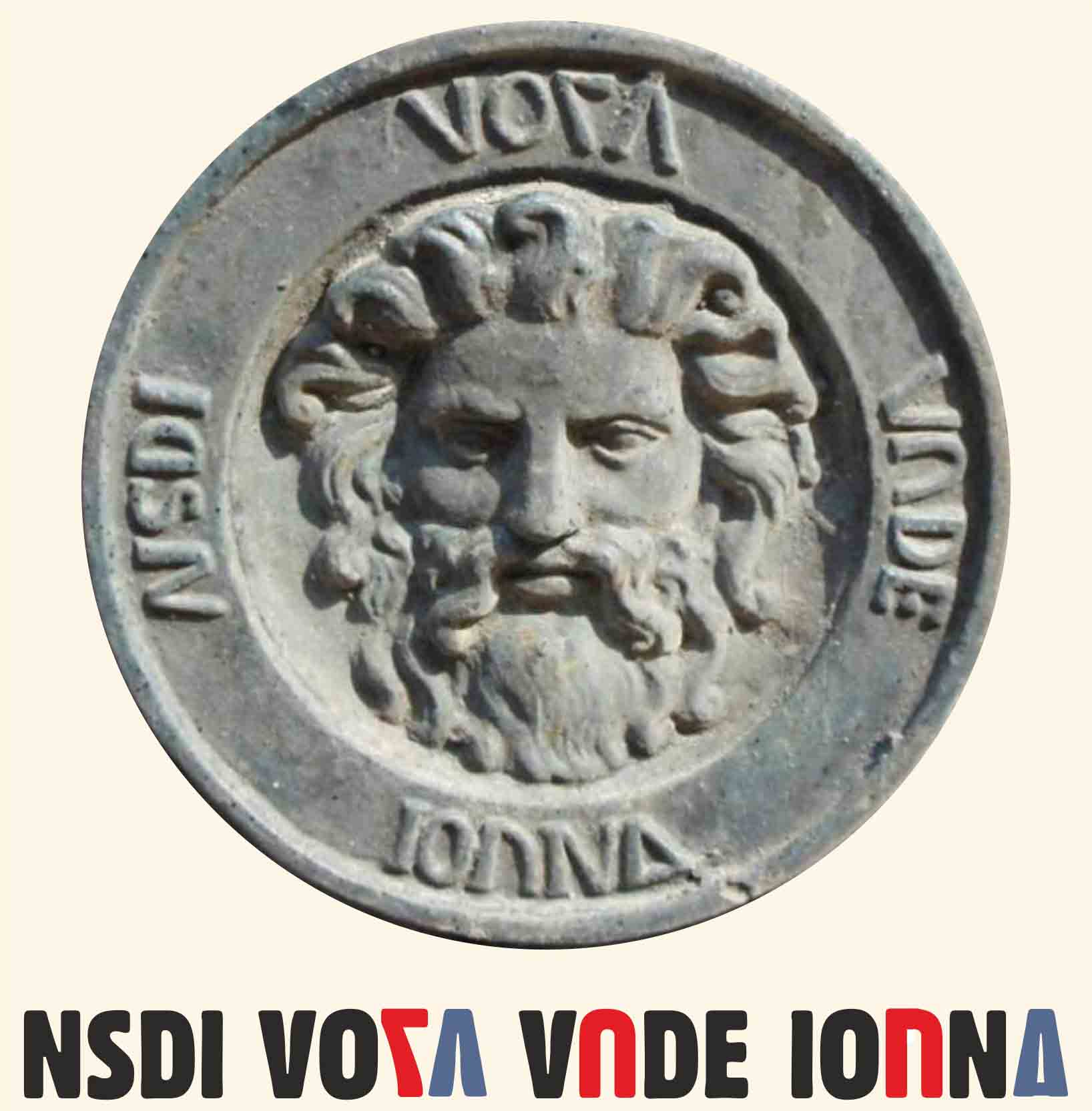
Наша собственная версия вполне прозаична. Она родилась из некоторого знакомства с тем, «как это делается». Скорее всего, была отлита незаконченная работа. Если лепщики, создававшие глиняный оригинал картуша, исходно не имели перед собой предполагавшегося текста надписи (в чем ничего невозможного нет), то для определения ее роли в общей композиции, характера и размера шрифта и т.п. они были вынуждены воспользоваться случайным набором похожих на настоящие слов и букв – «вот тут пойдет надпись», – этот-то рабочий вариант по чьему-то недосмотру и пошел в отливку.
Художественной ценности картушей наша версия, конечно же, нисколько не умаляет, а их исторической ценности и подавно: можно вспомнить, по аналогии, насколько дороже у нумизматов редкие образцы монет с какими-либо огрехами, чем правильные серийные.
Нереализованная перестройка Слободского дворца в 1900-х гг.: «безбожные» надстройки.
Очередные утраты
Последнее значительное изменение, чтобы не сказать искажение, в облик дворца после его «золотого» классического периода внесли в 1898–1899-х гг. Л.Н. Кекушев – первый русский архитектор модерна, преподававший в 1898–1899 гг. в ИМТУ и много строивший для него – и (возможно) преподаватель ИМТУ, архитектор А.В. Кузнецов. Впрочем, о каком-либо соавторстве в наиболее полной монографии о Кекушеве (М.В. Нащокина. Московский архитектор Лев Кекушев, 2012, и др.) ничего не сообщается. – Кекушев надстраивает на этаж обе симметричные двухэтажные части здания, эти своего рода галереи, соединявшие его трехэтажные, и акцентированные этим, центральный и боковые корпуса... Если иметь в виду лишь замысел Жилярди, это нельзя расценить иначе как катастрофу. Честно говоря, смириться с существованием этих надстроек (при всем желании – а что еще остается?) автор предлагаемых заметок не сумел.
Творение Кекушева имеет одну поразительную особенность. Здесь есть с чем сравнивать. Аналогичным трансформациям подвергались во 2-й половине XIX-го века многие лучшие городские усадьбы – их флигеля надстраивались до уровня главных зданий, возводились или надстраивались переходы между ними; при этом первой задачей архитекторов было создать видимость, что таким здание и было изначально – ни в общих очертаниях, ни в деталях неискушенный зритель не должен был различить старых частей от новых. Судя по этим примерам, можно было бы ожидать, что карнизы и тяги надстроек Слободского дворца продолжат соответствующие карнизы и тяги в его изначальной центральной части, окна в них примут форму имеющихся и займут места по осям окон в нижних этажах и т.д. и т.п. Ничего близкого к этому не происходит. Прямо на здании Жилярди, как на стройплощадке, Кекушев размещает свое авторское произведение. Огромные, сравнительно с существующими, разделенные широкими лопатками тройные окна в этих вкраплениях, никак не связанные по вертикалям с окнами существующих нижних этажей и «задранные» по высоте относительно окон третьего этажа в исторической части дворца, вообще ни одна деталь убранства надстроек ни в коей мере не мимикрирует под его ампирные формы. Эти надстройки даже несколько выше (!), чем историческая часть дворца (что было бы незаметно, если бы не был разобран его аттик)...
И при всем том, а скорее благодаря этому, художественной ценности здания был нанесен ущерб еще не самый худший из возможных. Ибо в данной ситуации – «чем хуже, тем лучше»: разностильность и помогла разбить монотонность, появившуюся при выравнивании этажности дворца. Подражание исходной архитектуре было бы еще досаднее и вредило бы замыслу Жилярди, если это только возможно, еще больше, чем ее полное игнорирование. Да и оценивать произведения искусства можно по-разному. «Надстройка была сделана очень корректно в пропорциональном и стилистическом отношениях» – так воспринимает труд Кекушева М.В. Нащокина; «тонкое чувство стиля и архитектурного целого позволили ему [Кекушеву] на редкость бережно надстроить классицистические корпуса...». Как бы то ни было, но уж «бережность» (тем более к классике), как мы дальше увидим, тут явно ни при чем, а если что в какой-то мере и выручает, то это скорее ее демонстративное отсутствие.
Что касается датировки надстроек «1898–1899», расходящейся с указанной в авторитетном многотомном каталоге памятников архитектуры Москвы (якобы 1912-й г.), то она подтверждается также высказанным еще в 1904-м году (резко критическим) замечанием будущего классика советской архитектуры И.А. Фомина об этой работе (см.: Нащокина). А недавно нам встретилась в интернете и фотография ИМТУ 1904-го года с этими надстройками (сайт art.auction-house.ru, альбом «Императорское Московское Техническое училище. Выпуск 1904 г.», – в каталоге РГБ этого издания, увы, нет). На иллюстрации ниже мы ее несколько обрезали, подогнав кадр под фото из альбома Найденова.
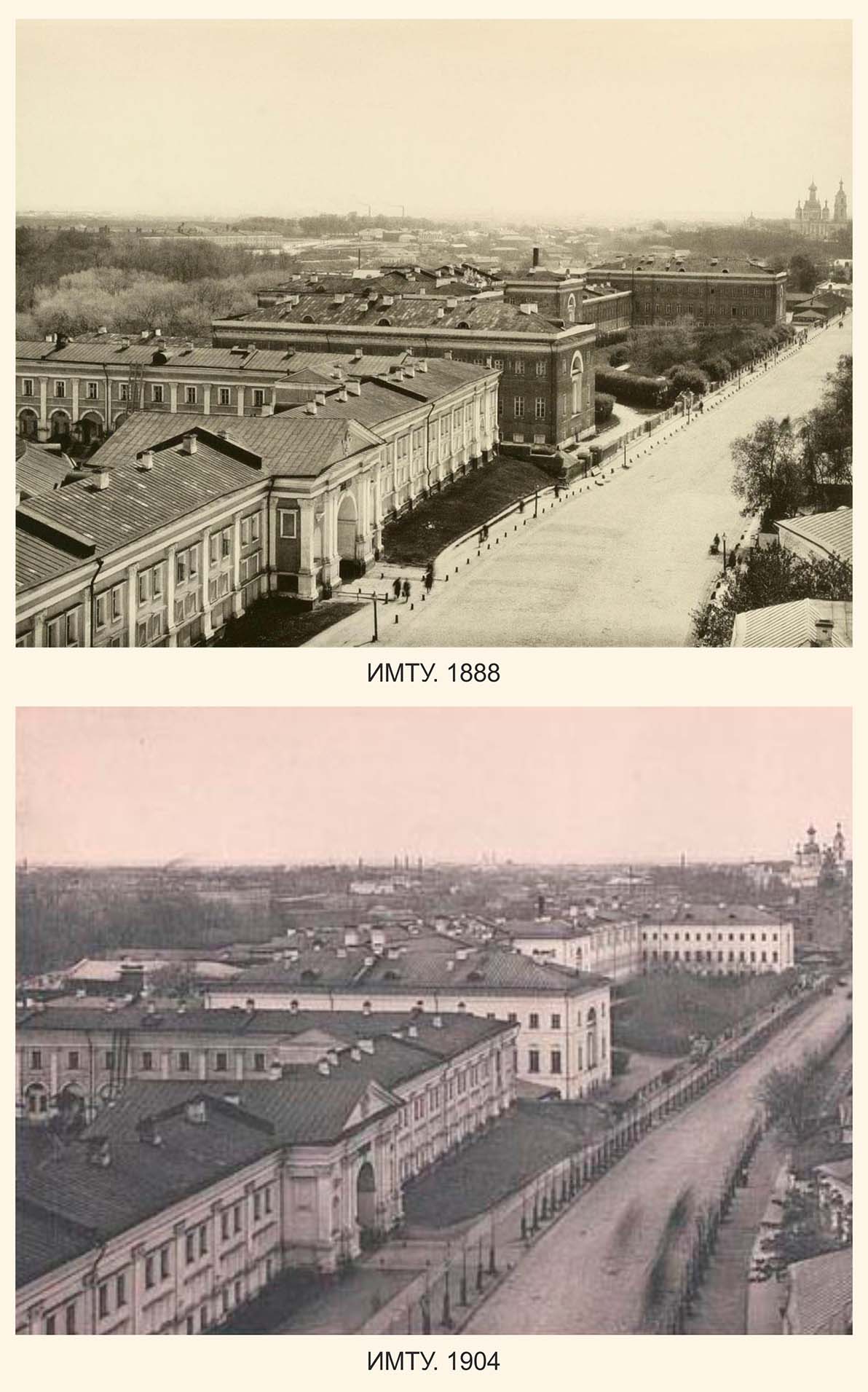
Еще точнее на указанную М.В. Нащокиной дату возведения надстроек – если и не более раннюю – наводят два литературных источника.
В упомянутой автобиографии Бориса Зайцева, поступившего в ИМТУ в 1898-м и исключенного за участие в студенческих беспорядках в марте 1899-го года, о строительстве новых аудиторий ничего не говорится – хотя и самому зданию и быту ИМТУ писатель посвятил в книге несколько интересных абзацев. Меж тем в ходе реконструкции не могла действовать добрая четверть учебных помещений, центральный и фланговые корпуса были разобщены, и не заметить всего этого было невозможно. Получается, что надстройки Кекушева были возведены самое позднее до августа – сентября 1898-го года, очень близко к этой дате. «Светло, просторно, пахнет немного краской, лаком...».
О том же говорят мемуары Н.М. Щапова, судя по их тексту, студента ИМТУ с 1899 или даже 1898-го года (и его преподавателя в 1910-х годах). Архитектура дворца привлекает его особое внимание. «Подъезд неописанный, коридоры – до бесконечности», – передает автор свое впечатление от дворца цитатой из «Левши», – упоминает он и о прежнем красно-белом фасаде здания, и об ограде, и, главное, о надстройках Кекушева. О них Щапов пишет: «его [Слободской дворец] несколько испортили надстройкой на 2-м этаже двух огромных аудиторий около 1890 г.». Как видим, мемуарист еще на 10 лет их «состарил». Возможно, новшества Кекушева по прошествии времени ассоциировались в памяти знакомых с ИМТУ со светлой покраской 1890-х гг., уже так резко изменившей зрительный образ училища. Но ясно одно: ко времени начала учебы Щапова в ИМТУ, а это может быть и 1898-й год, аудитории Кекушева уже существовали и функционировали.

Но вернемся к разговору о стилевом решении надстроек. Приведенное высказывание Н.М. Щапова интересно еще и тем, что, скорее всего, воспроизводит распространенную в его среде оценку вклада Кекушева – Слободской дворец несколько испортили. Что и говорить – сровнять силуэт разновысокого по замыслу здания, шедевра архитектуры, не испортив его – задача в принципе невыполнимая.
Упомянутая Нащокиной критика надстроек Фоминым (в его статье «Московский классицизм» – «Мир искусства», 1904, т. 12, № 7, с. 197), звучала буквально так: «...Императорское Техническое училище – один из лучших памятников эпохи – безбожно испорчено двумя пристройками Гражданского Инженера Кекушева...». Знаток и ценитель творчества Кекушева, М.В. Нащокина комментирует это высказывание весьма категорично: «талантливый помощник зодчего – молодой И.А. Фомин – через несколько лет осудил эту работу мастера: его оценка была, скорее всего, продиктована личными мотивами и явно несправедлива» (Нащокина. Работы Льва Кекушева...). Вообще же, по ее мнению, «в этом [критике надстроек] нет ничего удивительного, ведь мы смотрим на перестройку здания глазами человека XXI века, повидавшего гораздо более варварские реконструкции» (Нащокина. Московский архитектор Лев Кекушев). Не желая ловить автора на слове, но – все-таки варварские.
Пытался ли Кекушев, предположительно выполняя требования заказчика, снизить поневоле причиняемый зданию эстетический ущерб, или же сам относился к творению Жилярди по-варварски? Есть ответ и на этот вопрос.
Ответ этот, что называется, неутешительный. Воспользовавшись ссылкой Нащокиной на 4-й выпуск за 1900-й год журнала «Архитектурные мотивы», мы обнаружили в нем, к своему даже не удивлению, а потрясению... модернистский кекушевский проект полной переделки главного фасада Слободского дворца! Здесь мы имеем дело с одним из тех непостижимых и разочаровывающих, но слишком частых в истории архитектуры случаев (оговоримся – еще не самых масштабных), когда и лучшие зодчие проявляют полнейшее пренебрежение к творениям своих предшественников.
Действительно. Одними известью и гипсом дело не обходится – проектом полностью уничтожается вся капитальная парадная стена с главным входом, превращаясь в сплошные окна-витрины; второй, основной этаж здания получает пониженные, вместо высоких, а третий высокие окна; разумеется, прежде гладкие стены ампирного дворца заполняет остро-характерный модернистский декор. Скульптурной группе классика Витали здесь, конечно, не место... Оказывается, «безбожные» надстройки были лишь малой частью и началом воплощения общего, тут уж воистину безбожного замысла! Кроме только очертаний плана, проект Кекушева (сам по себе весьма привлекательный) не оставляет от гениального Жилярди практически ничего. На месте Слободского дворца предстояло возникнуть творению Кекушева...
Впрочем, можно предположить, что проект Кекушева – лишь архитектурная фантазия, которую автор не намеревался воплощать в натуре. Но уже такие смелые несостыковки, как разные вертикальные отметки окон в осуществленных надстройках и в исторической части здания, делают это предположение, на наш взгляд, сомнительным.

Центральная часть Слободского дворца по замыслу Л. Кекушева:
практически полная перестройка
Что ж, полезность надстроек для задач училища очевидна, и тогдашний директор ИМТУ И.В. Аристов, замечательный администратор, сумел организовать их появление. Удивляет, конечно, архитектор Кекушев. Удивляет и то, что все это происходило при наличии в ИМТУ архитектурного факультета.
Естественно, что, имея в виду стереть с фасадов архитектуру Жилярди, Кекушев и при возведении надстроек не стремился сохранить подлинные архитектурные детали дворца, даже те, которым физически ничто не мешало существовать и после перестройки. Так, сколько можно судить на глаз, нижняя отметка окон надстроек «садится» как раз на верх исторической части фасада галерей, место ее бывших аттиков, – то есть вся кладка времени Жилярди не тронута, – и при этом белокаменные карнизы галерей в этой кладке безжалостно срублены, их антаблементы в целом превратились в голые простенки между вторым и третьим этажами, по которым прочерчен в штукатурке едва заметный «греческий руст» (горизонтальные линии)! Расчищая поле для своей композиции из окон, лопаток и тяг, «гражданский инженер» не поколебался уничтожить с полкилометра этих карнизов – работа для каменщиков немалая!..
К счастью (для будущих поколений), венчающие части обеих галерей легко могут быть воссозданы во всех деталях по следам в сохранившейся кладке (их наверняка можно будет найти под штукатуркой). И это необходимо сделать, выбрав между композициями Жилярди и Кекушева, по справедливости, Жилярди.

Надстройка ИМТУ, фрагмент паркового фасада.
Место уничтоженного антаблемента галереи Жилярди
Использовано фото М.В. Нащокиной

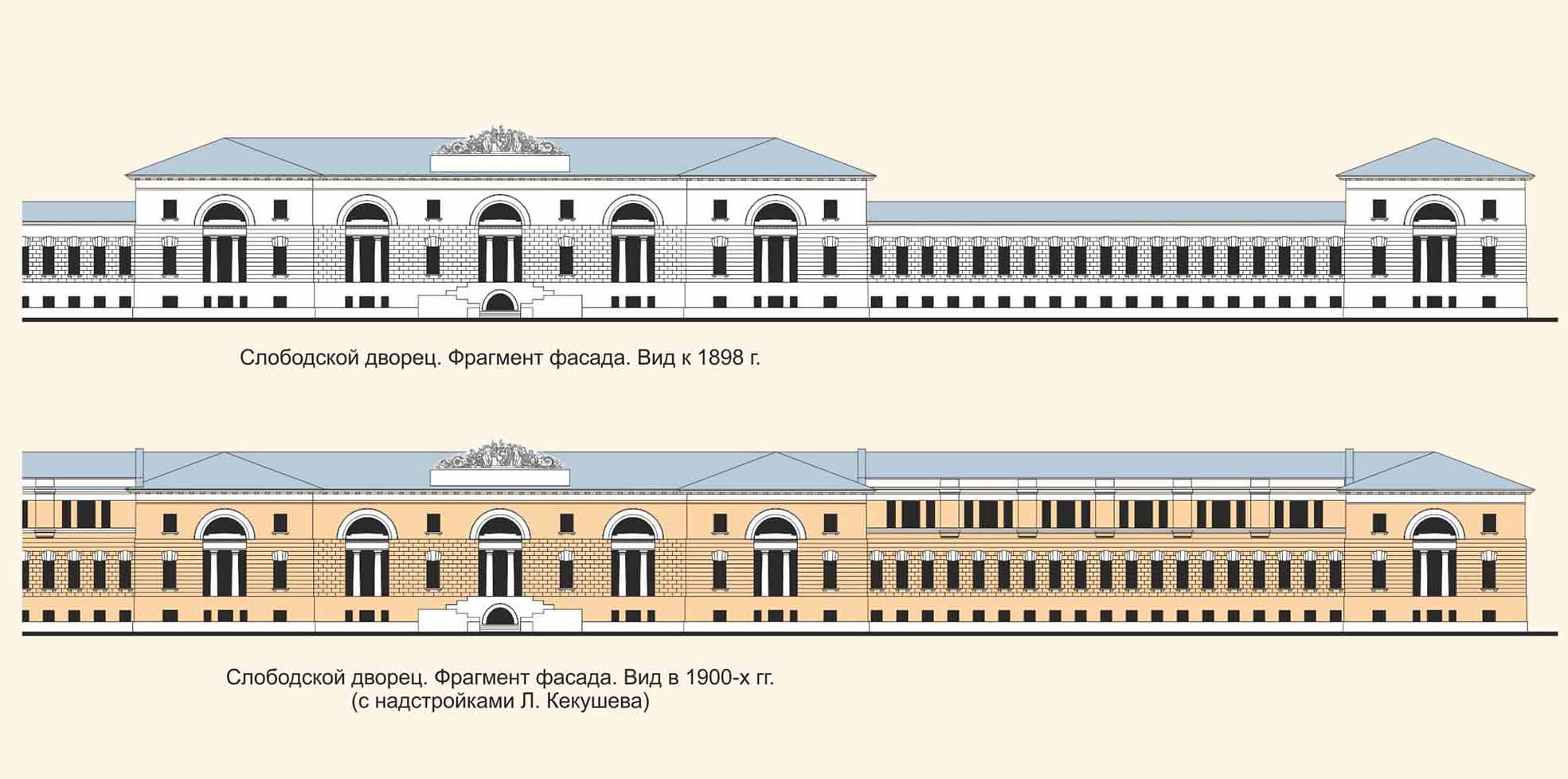
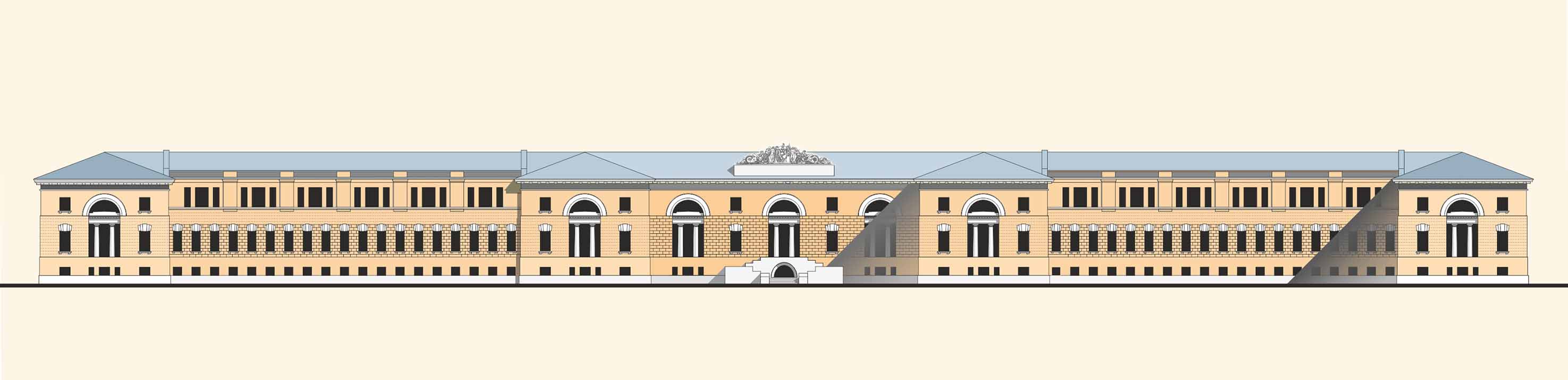
Иным, как с кекушевскими надстройками с их прекрасными в функциональном отношении аудиториями, а также оштукатуренным и желто-белым, студент Цибарт здания ИМТУ не знал. Что до деталей интерьера авторства Жилярди и Григорьева, то здесь ему повезло значительно больше, чем нам. Наибольший урон интерьер дворца понес, видимо, во время капитального ремонта 1953-1957 гг., когда, скорее всего, и был в числе прочего уничтожен плафон бывшей училищной церкви, реконструированы залы, соседствующие с актовым во втором этаже и с церковью в третьем (а с этим и изуродован парковый фасад рядом с жемчужиной дворца – его колонной полуротондой: с севера от нее появились огромные окна-витрины). Также реконструированы лестницы (кроме двух центральных). Вместо выложенных на кирпичных косых арках, теперь это обычные лестничные марши на косоурах, более пологие и оттого даже нарушившие планировку: входы в аудитории с исчезнувших площадок пришлось заложить, и т.д. Еще в 1936-37 гг. утрачены многие старинные печи, видимо показавшиеся хозяйственникам не представляющими никакой ценности, только занимающими место. Так, в предполагаемом кабинете директора Цибарта в 1930-х годах еще видна на фотографиях прямоугольная в плане печь, с простыми, белыми с (голубой) каймой изразцами, латунной вьюшкой... Ныне еще встречаются в интерьерах такие подлинные детали, как ампирные двери с фурнитурой (фото с такой дверью см. далее на сайте в Приложениях к очерку), но о многочисленных перегородках, облицовках и пр. и говорить нечего.
Что можно сделать
Если искусствоведы исследовали дворец более или менее пристально, то о его научной реставрации (включавшей бы, молвим со слабой надеждой, и разборку «безбожных» надстроек) приходится только мечтать. Правда, методически правильная полная реставрация памятника зодчества поставит вопрос о возврате к его изначальной, слишком суровой кирпичной фактуре... Например, О.С. Евангулова, автор капитальной работы о Слободском дворце, ставит эту задачу чуть ли не на первое место.
Серьезная реставрация интерьеров Дворца в целом, видимо, неосуществима. Но, по меньшей мере, что касается залов бывшей церкви и актового зала училища, то здесь самая точная научная реставрация вполне возможна и необходима.
Что до предстоящей (в неопределенном будущем) реставрации фасадов Слободского дворца (кстати, колоннада полуротонды находится сейчас в аварийном состоянии) – то, надеемся, она пойдет по следующему варианту. Безусловно необходимо реконструировать весь архитектурный декор их доступных ныне частей на 1830-й год, т.е. на момент завершения строительства, хоть и обеднённый сравнительно с проектом Жилярди. Это значит воссоздать завершения галерей (а столь функциональными кекушевскими аудиториями над ними лучше всего пожертвовать вовсе), восстановить белокаменный аттик на всем дворце, кое-где осыпавшиеся модульоны в карнизах и пр. (Кроме кекушевских надстроек, есть проблема с расширенными окнами одной из стен, примыкающей к ротонде.) Но все же стены дворца хотелось бы видеть заново оштукатуренными: как об этом подробно говорилось выше, даже если (что неизвестно) поверхности стен и замышлялись Жилярди кирпичными, почти наверняка (что легко проверить) в ходе строительства не все внешние стены древней центральной части дворца удалось привести в потребный для этого вид, вследствие чего уже тогда этот замысел должен был быть им же скорректирован в пользу штукатурки. – При этом, конечно, исключено повторение появившихся в 1890-х гг. лишних и измельченных штукатурных деталей – не существовавших до той поры «греческого руста» и декоративных замковых перемычек в трехэтажных частях здания (ставших семичастными вместо пятичастных и там, где они имеются), профилей в подлинном русте и пр. Окраска должна остаться такой, какой она была с 1900-х гг. до последнего времени – классицистической желтой.
Удастся ли будущим реставраторам добиться разборки надстроек, или не удастся – антаблементы галерей, подчеркнем, в любом случае необходимо восстановить, что зрительно хоть отчасти выявит композицию Жилярди. А сами надстройки, если они останутся, может быть, выделить цветом – оставить побеленными. (См. следующие иллюстрации.)
Ограда. – Надо верить, что в конце концов она будет полностью реконструирована на начало 1830-х годов. Пока же, кроме общих восстановительных работ, и возможно и необходимо воссоздание южного главного входа: обоих его пилонов и примыкающей к левому пилону опорной стенки. Со стороны территории к пилону и стенке пристроена проходная – ее (если не снести) надо отделить от них каким-либо нейтральным цветом. Ну и, по нашему мнению, следует привести фактуру и цвет всех стенок в ограде в соответствие с фактурой и цветом самого́ дворца, какими бы в итоге они ни оказались.

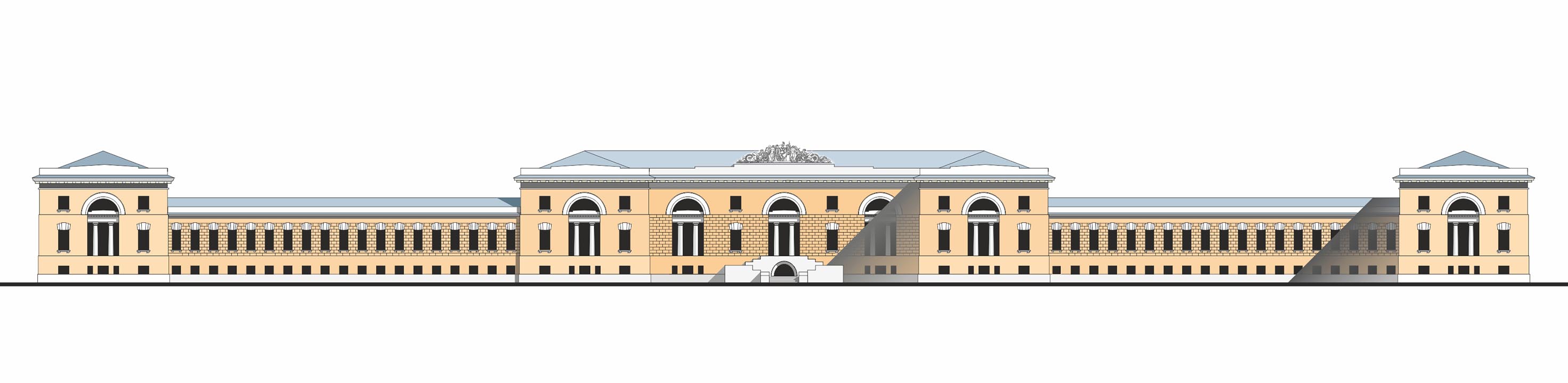
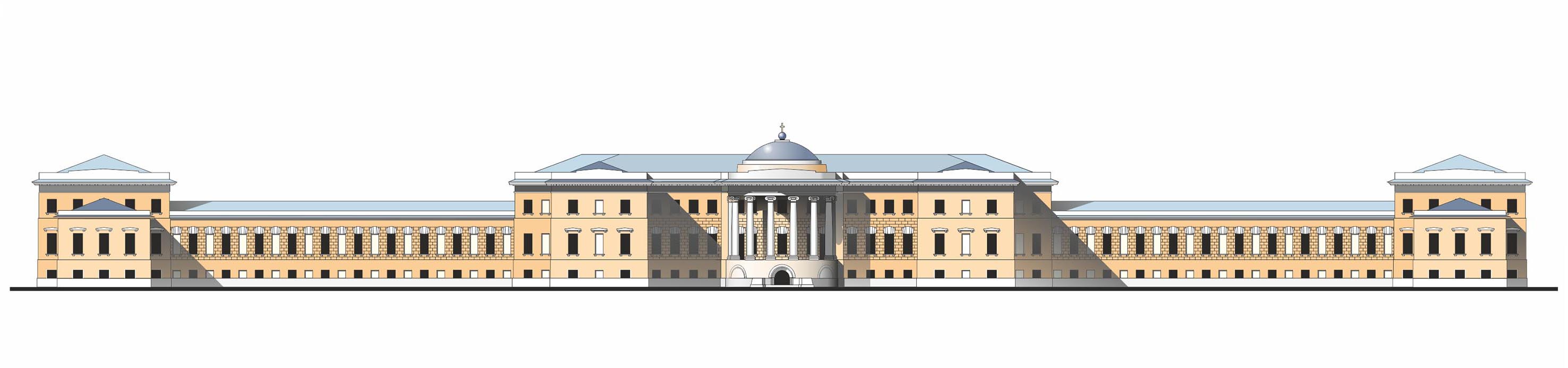
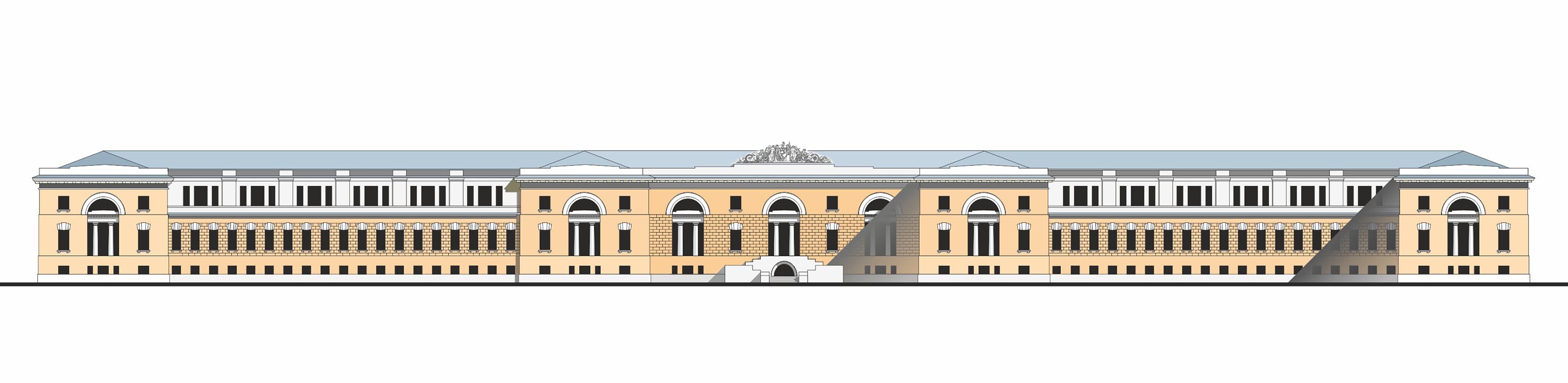
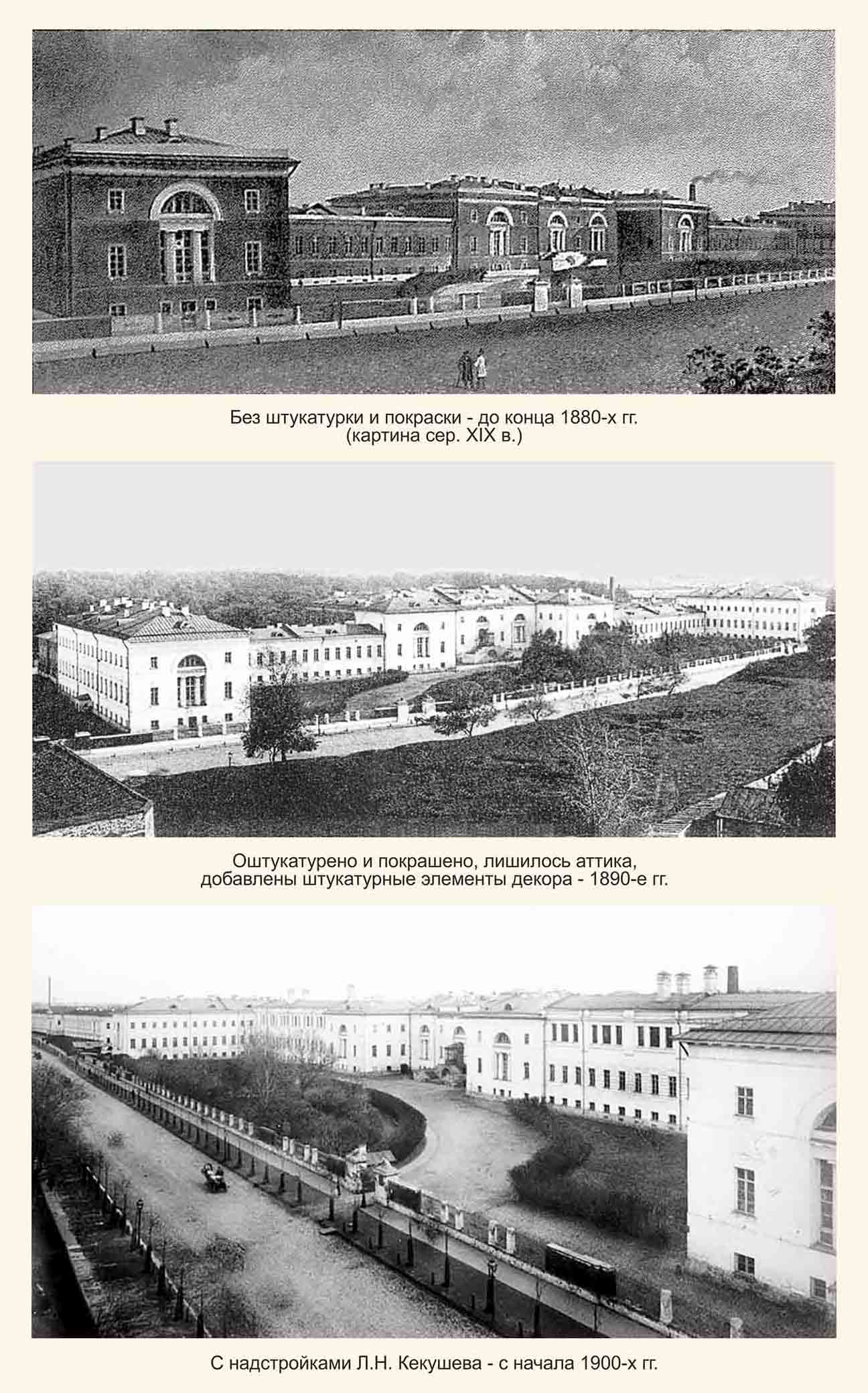
Post scriptum
Добавим, что в 1933-м году над Слободским дворцом в очередной раз, после не до конца осуществленного кекушевского проекта, нависла опасность практически полной эстетической гибели: его предполагалось надстроить. В Приказе наркома Орджоникидзе по НКТП № 144 от 14 февраля 1933 г. «О мерах дальнейшего развития и укрепления Московского механико-машиностроительного института им. Баумана в связи с его столетним юбилеем» значилась, в числе прочих, и такая горячо ожидаемая в МММИ мера: «надстройка главного здания для расширения аудиторного фонда и учебных кабинетов». К счастью, уже в 1934-м году эта убийственная реконструкция, одна из многих подобных в то время, была по каким-то, скорее всего чисто экономическим и конъюнктурным причинам отменена. (В это время пользовался особым покровительством наркомтяжпрома и отстраивался сосед Бауманского – МЭИ.) Подробнее об этом см. в тексте.
Об архитектуре Слободского дворца см. также на этом сайте в статье из: Памятники архитектуры Москвы. Однако в ней имеются отмеченные выше ошибки в датах.
Примечание. В распоряжении автора нет архитектурных обмеров и исследований здания, все приведенные здесь чертежи (скорее рисунки) весьма приблизительны.
А. Абелев, январь 2026 (не окончено!)
Краткая хронология (таблица-анкета и дополнения)
Краткая автобиография (ЦГАМ, 1933; РГАСПИ, 1936)
(после ссылок на архивные материалы – в хронологическом порядке публикаций)
1. Метрическая книга, Польша – 1631d / записи гражданского состояния Евангелическо-Аугсбургского прихода в Поддембицах (1631d / Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poddębicach / Jednostka: 1892 / UMZ-1892 / Katalog: Urodzenia). – Рождение А.А. Цибарта
2. Государственный архив Гомельской области (ГАМО), ф. 24, оп. 1, д. 1, лл. 17-52об, 53-60 (сайт "Архивы Беларуси"). Протокол 1-го Гомельского губернского съезда Советов (17-52об), май 1019 г. Протокол 2-го Гомельского губернского съезда Советов (лл. 53-60), содержащий обращение к трудящимся Польской Республики и ССР Литвы и Белоруссии, и др., январь 1920 г. На иллюстрации в тексте: страницы и фрагменты страниц 53, 53oб, 59oб, 60. – Государственный архив Брестской области, ф. 495, оп. 4, д. 4, л. 104 и д. 1, л. 16 (сайт "Архивы Беларуси"). Приказы Губернского минского ВРК №№ 1 и 2 от 11 и 14 июля 1920 г. (см. на иллюстрации в тексте).
3. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Личное дело Цибарта А.А. из архивного фонда "Государственная экспортно-импортная торговая контора (Госторгбел) Управления уполномоченного Наркомвнешторга СССР при СНК БССР" (ф. 491, оп. 4, д. 125); документы из арх. фондов "Центральный Комитет Компартии Белоруссии" (ф. 4п, оп. 1, д. 80, л. 40; д. 192, лл. 77, 78; д. 419, лл. 9, 13; д. 421, л. 83; д. 435, лл. 499–500 o6.; д. 504, лл. 68, 110; д. 8876. лл. 1, 2, 46), "Центральный Исполнительный комитет (ЦИК) Белорусской ССР" (ф. 6. Оп. 1. Д. 1. Л. 2, 8, 8 o6,, 22, 22 об., 50a oб.; д. 19. лл. 19, 78, 90, 90 об., 91; д. 53. лл. 45, I18, 120, 214; д. 56, лл. 90, 90 об.; д. 149. л. 94), "Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ) БССР" (ф. 63, оп. 1, д. 7, лл. 13–14 об.; д. 13, л. 56; д. 16, лл. 14, 14 об., 65, 65 об.; д. 17, лл. 1, 2 об., 6–8, 13–15 об.; д. 20, л. 50; д. 23, лл. 27–31 об.; оп. 2, д. 7, лл. 47; д. 35, л. 12; д. 36, лл. 38, 54; д. 59, л. 54; д. 144, лл.48, 48 об.), "Военно-революционный комитет (Военревком) БССР" (ф. 8, оп. 1, д. 2, лл. 34–35; д. 12, лл. 16, 16 об; д. 23, лл. 15, 19, 27; д. 72, лл. 35, 36, 37 об.; д. 74, л. 300), "Народный Комиссариат рабоче-крестьянской инспекции (НК РКИ) БССР" (ф. 101, оп. 3, д. 7, лл. 20–24 об.), "Центральная Контрольная Комиссия КП(б)Б (ЦКК КП(б)Б)" (ф. 15п, оп. 22, д. 2, лл. 29, 30), "Управление уполномоченного Наркомвнешторга СССР при СНК БССР" (ф. 126, оп. 1, д. 87, лл. 69, 72, 104, 104 об.; д. 89, лл. 3, 6, 13; д. 96, лл. 79, 80, 103). – Выявлено НАРБ.
4. Российский государственный архив экономики (РГАЭ), ф. 3429, оп. 20, д. 600, лл. 6–25об. (Личное дело А.А. Цибарта, все материалы /1923-1929 гг./.). РГАЭ ф. 1884, оп. 27, д. 267, лл. 1-16. (Личное дело В.А. Ушкова, все материалы /1918-1919 гг./.) РГАЭ ф. 8513, оп. 2, д. 4107, лл. 1-6. (Личное дело З.В. Малинковича, все материалы /1940 г./.)
5. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), ф. 17, оп. 100, д. 108142 (Все 9 документов) (Краткая хронология /таблица-анкета/ и дополнения) (Краткая автобиография)
6. Центральный государственный архив г. Москвы (ЦГАМ). Отдел хранения документов (ОХД) после 1917 г. Ф. Р-1992, оп. 4, дела 1-6, 11, 12, 14, 15 (архивы МММИ им. Баумана, основная деятельность). Содержание документов и номера листов дел см. в тексте
7. Центральный государственный архив г. Москвы (ЦГАМ). Отдел хранения документов общественно-политической истории москвы (ОХД ОПИМ). Ф. П-158, оп. 1, ед. хр. 51, 70; Ф. П-158, оп. 1а, дела 1, 3, 11, 12 (засекреч.), 14, 16, 25, 26, 35, 39, 43, 44 (архив парторганизации МММИ им. Баумана); Ф. П-84, оп. 1а, ед. хр. 208 (материалы комиссии по чистке парторганизации МММИ им. Баумана). Содержание документов и номера листов дел см. в тексте
8. Центральный архив ФСБ России (ЦА ФСБ РФ). Архивное уголовное дело № Р-24817 (том 1, лл. 111-276 – дневник и личные записи Цибарта 1935–1937 гг.; фото; арх. справка; лл. 84-87 – протокол допроса 25 марта 1938 г.; лл. 94, 95 – обвинительное заключение; л. 96 – приговор Особого совещания, и пр.; том 2, лл. 13-172 – партсобрание (стенограммы партийного собрания МММИ им. Баумана 1 и 4 декабря 1937 г.), и пр. – см. на этой странице)
9. Справки из Информационного центра УМВД России по Магаданской области. (Архивное дело А.А. Цибарта уничтожено в 1955 г.; сведения из архивной учетной карточки "третьим лицам" не предоставляются)
10. Справка из Управления по Магаданской области ФСБ России. (Сведений нет, т.е. новых дел против Цибарта не возбуждалось)
11. Справка из Государственного архива Магаданской области (ОГКУ "ГАМО"). (В составе архивных документов вольнонаемных работников ГУС ДС за 1939-1957 гг. в каталоге личных карточек и описях личных дел Цибарт А.А. не значится)
12. Государственный архив Магаданской области (ГАМО) ф. Р-23, оп. 1, д. 1077, лл. 25-27 (Распоряжение № 410 по ГУ СДС НКВД-СССР ОТ 03.09.1941 о переводе 11 з/к инженеров и в т.ч. Цибарта из упр. Колымпроект в ЦНИЛ ДС). Сканы письма из Архива и распоряжения Егорова Распечатка распоряжения Егорова. Дополнения (сканы документов): список з/к з/к работающих в Констр. бюро ДС 27.02.1943; справка результатов рассмотрения штатных расписаний по отделам ГУ Дальстроя на 1943 г.; распоряжение по ГУС ДС НКВД СССР (по личному составу) 15.03.1943.
13. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) ф. 7523 сч., оп. 60, д. 1404, л. 7 (о лишении ордена – см. на этой странице); ф. Р-8131, оп. 31, д. 71094, лл. 1–9 (о реабилитации)
14. Российский Государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД). Док. фильм "Кадры о кадрах – рапорт ВТУЗов". Режиссер И. Венжер. Союзкинохроника, 1934 (учетный номер 3717). Фотографии: А.А. Цибарт в 1933 г. (ед. хр. 0-4345); торжественное заседание в филиале ГАБТ, посвященное 100-летию МММИ им. Баумана (ед. хр. 1-16219, 1-6779, 1-14173, и др.)
15. Справка из Верховного суда РСФСР (о реабилитации) 1957 г.
16. Дневник А.А. Цибарта 1935–1937 гг.. Центральный архив ФСБ России (копия – в семейном архиве)
17. Письма А.А. Цибарта из ИТЛ в Магадане (семейный архив)
18. Указ Президента РФ В.В. Путина о восстановлении А.А. Цибарта в правах на орден (скан Указа см. в тексте)
* * *
19. Публичный акт Ремесленного Учебного Заведения 10-го сентября 1860 года. / Отчет о состоянии и действиях Ремесленного Учебного Заведения. Директора заведения Ершова. / О химико-техническом отделении Ремесленного Учебного Заведения. Профессора Киттары. / Несколько замечаний об общем составе учебного курса и о преподавании физики в Ремесленном Учебном Заведении. Профессора Любимова. – Москва. В типографии Каткова и комп. 1860.
20. Устав Общества вспомоществования нуждающимся воспитанникам Императорского Московского Технического Училища. – Москва. Типография Общества распростр. полезн. книг. Моховая, д. Торлецкой. 1888. С. 3, 4.
21. Об устройстве общежития для студентов Императорского Московского Технического Училища. Доклад [товарища Председателя Общества, ученого инженера-механика] Н.П. Зимина Обществу вспомоществования нуждающимся студентам Императорского Московского Технического Училища, сделанный в годичном заседании Общества, состоявшемся 19 февраля 1895 года. – М., 1895.
22. Устав Лодзинского мануфактурно-промышленного училища. Лодзь, 1901. – 28 с. [Стр. 26-27: таблицы учебных часов и штата]
23. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь (ЭСБЕ). Ст. Лодзь, Техническое образование; Императорское московское техническое училище.
24. Известия Императорского Московского технического училища за 1902 г. – Москва. Типография М. Борисенко, ул. Б. Дмитровка, Дом Дворянского Собрания. 1903. (В издании приводится полный список профессоров, преподавателей и сотрудников ИМТУ, отчет о событиях, в т.ч. об открытии физико-электротехнического института ИМТУ, и многое другое)
25. Петражицкий, Л. И. Университет и наука: опыт теории и техники университетского дела и научного самообразования. С приложениями: о высших специальных учебных заведениях и о среднем образовании. – Санкт-Петербург : Тип. Ю. Н. Эрлих, 1907.
26. Ивановский, В. Н. Предметная система в наших университетах и ее применение к философским наукам : [Докл., чит. в заседании Петерб. филос. о-ва 8 сент. 1907 г.] / В.Н. Ивановский. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1907. – 56 с.
27. Алфавитный список студентов Императорского Московского Технического училища
– на 1910-1911 академический год. – М. : Товарищество типо-литогр. И. Д. Худякова, 1910. – 252 с.;
– на 1911-1912 академический год. – М. : Типография Императорского Московского Университета, 1911. – 241 с.;
– на 1912-1913 академический год. – М. : Товарищество типо-литогр. И. М. Машистова, 1912. – 236 с.;
– на 1913-1914 академический год. – М. : Товарищество типо-литографии И. М. Машистова, 1913. – 224 с.;
– на 1914-1915 академический год. – М. : Товарищество типо-литографии И. М. Машистова, 1914. – 215 с.
(Отдел редких книг библиотеки МГТУ им. Баумана, сведения предоставлены Э. Наумовой)
28. Краткий отчет о состоянии Императорского Московского Технического Училища за 1911 г.; 1913 г.; 1914 г.; 1912, 1916 гг. – Москва, Типография Императорского Московского Университета, 1912.
29. Журавлев, Алексей Иванович. Императорское Московское техническое училище : Справочник : Сведения, справки, прогр., списки руководств и проч., необходимые для поступающих, переводящихся из др. высш. уч. зав. и студентов И.М.Т.У. / Сост. А.И. Журавлев. – Москва : Изд. группы студентов-техников, 1913. (Оглавление и условия приема)
30. Краткий исторический очерк двадцатипятилетней деятельности Общества Вспомоществования нуждающимся студентам Императорского Московского технического Училища. 1889 – 1914. – Москва, Типо-литография Русского Товарищества Печатного и Издательского дела, 1914. (В издании помещен также Устав Общества Вспомоществования нуждающимся воспитанникам ИМТУ 1888 г.)
31. Обзор преподавания Имп. Московского технического училища... – Москва, 1906–1914. (Здесь цитируется: Обзор <преподавания> Императорского Московского Технического Училища за 1906–7 учебный год).
32. О современном положении Императорского Московского Технического Училища. 1905 – 1908 г. Записка Учебного Комитета. – Москва, 1908. (см. Отрывок о предметной системе)
33. Друг студентов. – Иллюстрированный художественно-литературный журнал «Искры», № 19 за 18 мая 1914 года. (Фото «Студенческая панихида [по А.П. Гавриленко] на дворе технического училища», также фотопортрет А.П. Гавриленко и текст заметки)
34. Памяти Александра Павловича Гавриленко. – Политехническое общество. Москва, 1915.
35. Гриневецкий, В.И. О реформе инженерного образования. – Москва : Типо-лит. Рус. о-ва, [1915]. – 22 с.; 26. Перед загл.: Стенограммы доклада обыкновенному собранию Политехн. о-ва 17 янв. 1915 г. (Текст имеется в интернете)
36. Гриневецкий, В.И., профессор, директор и ректор МТУ. Проект развития Московского технического училища в школу политехнического типа (1915). – См.: Русская система обучения ремеслам. Истоки и традиции. Т. II (цит. с. 35). – МГТУ им. Н.Э. Баумана, М., 2016.
37. Социальный Музей имени А.В. Погожевой и Кабинет административного права при Московском университете. В кн.: Вопросы административного права. Кн. 1., стр. 152-158. М., 1916. (Также вступление к книге: Памяти Александра Васильевича Погожева, стр. 2-14.)
38. Бюллетень отдела социального страхования и охраны труда № 2/3, 1918 (стр. 54: упоминание о Музее труда бывш. им. Погожева, при Наркомтруде). – Москва: Народный комиссариат труда, 1918.
39. Известия Гомельского Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов. № 75. Понедельник, 31 марта 1919 г. С. 2. Оффициальный отдел. Приказ № 6 [постановление исполнительного комитета и временного Военно-революционного комитета о назначениях; зав. отд труда т.т. Цибарт и Грановский].
Процитированные материалы "Известий..." о мятеже Стрекопытова – № 75 31.03.1919 с. 1, № 78 4.04.1919 с. 4 и др.; упоминания о Бунде, ЕСДРП и Еврейской секции Гомельского губкома (объявления о собраниях и пр.): № 65 12.03.1919, с. 3; № 76 1.04.1919 с. 1, 2; № 79 4.04.1919, с. 1, 4; № 80 5.04.1919, с. 1, 4; № 92 20.04.1919, с. 1, 4; № 95 25.04.1919, с. 4; № 2 1920, сс. 3–5 (доклад Н. Неманова "Политическая работа среди еврейского пролетариата. Итоги и перспективы"); № 3 1921 (Деятельность Губкома за период январь – август 1920 г. /Докл. Х. Пестун/. Рубрика "Деятельность организационно-инструкторского отдела", главка ""Дни" и "недели"", с. 22 /Цибарт и др. командируется в Речицкий уезд/)
См. также ссылки на гомельские "Известия..." в разделе библиографии "Статьи, заметки, предисловия А.А. Цибарта"
<Ссылки на "Известия..." будут дополняться>
40. Селиванов, В. Стрекопытовское восстание в марте 1919 года (Воспоминания) [датированы 10 марта 1921 г.]. В кн.: Революционная борьба в Гомельской губернии. Исторические материалы. Выпуск первый. – Гомель: Государственное издательство, 1921
41. Кнорин, В.Г. 1) Восемь месяцев Советской Белоруссии (1919); 2) Белорусские люди и белорусский народ (1919); 1917 год в Белоруссии и на Западном фронте (1925). – Избранные статьи и речи. – Минск, 1990 (с. 42-67).
42. Теумин, И. Объединение Западной области с точки зрения внешней торговли // Народное хозяйство Белоруссии. 1922. № 2-3 (с. 38–46)
43. Постановления Экономического Совещания Белоруссии 30-го июня № 18. [О работе Наркомвнешторга Белоруссии по докладу И. Ленского, с. 86.] // Народное хозяйство Белоруссии. 1922. № 9 (с. 86).
44. Ленский, И. О работе Внешторга Белоруссии // Народное хозяйство Белоруссии. 1922. № 10 (с. 18–21); Ленский И., Ульянов А. Внешняя торговля в Белоруссии. // Народное хозяйство Белоруссии. 1922. № 10 (с. 81–84).
45. Внешняя торговля С.С.Р. Белоруссии. Обзор деятельности Белорусского Областного Управления Н.К.В.Т. и Государственной Импортно-Экспортной Торговой Конторы "Госторгбел" за 1921-23 гг. – Издание Белорусского Областного Управления НКВТ. МИНСК, 1924. [Авторы: Ленский, Ульянов, Юнггерц.]
46. Торговая энциклопедия. Том V. Внешняя торговля. – Издание Всероссийского Центрального Союза Потребительских Обществ. Москва, 1924.
47. Устав Егорьевско-Раменского государственного хлопчато-бумажного треста [Текст] : утвержден 19 октября 1923 года. – [Б. м.], [1923] (тип. "Дер Эмес"). – 7 с.; 23 см.
48. Катушев, Я.М. [Яков Матвеевич] Исторический очерк развития МВТУ [с 1868 г.]. В кн.: Обзор деятельности Московского высшего технического училища. – М. – Издательство МВТУ. – 1925 (1926). (С. 18–53)
49. Аким, Н.Е. Центральный музей охраны труда и социального страхования Наркомтруда и Московского отдела труда 1 января 1924 г. – июня 1925 г. – Москва : Вопросы труда, 1925.
50. Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1910 год; 1923 год; 1927 год; 1936 год. [См. далее ссылки «Кто есть кто...»]
51. Кронгауз Н. К работам комиссии по стандартизации // Швейник. – 1927. – № 6 (16 марта). – С. 95. (Статьи Цибарта в этом журнале 1926-1927 гг. см. в списке его работ)
52. Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928-1929 гг. в 5-и томах. Т. 1. Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 6-11 апреля 1926 г., стенографический отчет. Т. 2. Пленум ЦК ВКП(б) 4-12 июля 1928 г. Заседание 15-е. Стенографический отчет. Пленум ЦК ВКП(б) 4–12 июля 1928 г., резолюция "Об улучшении подготовки новых специалистов"; Пленум ЦК ВКП(б) 10–17 ноября 1929 г., резолюции. – КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (любое издание).
53. Луначарский А. Еще несколько слов по вопросу о втузах. // Правда. – 1928. – № 160 (3992) (четверг 12 июля). – С. 3.
54. Янау В. Проблема кадров. (Как выполняются решения июльского пленума ЦК ВКП(б).). Там же: Без автора. Прием в вузы. Приток заявлений от рабочих усилился. – Нужно обеспечить подготовку поступающих в вузы рабочих. // Правда. – 1929. – № 164 (4296) (суббота 20 июля). – С. 5.
55. За промышленные кадры, журнал (с начала выхода в октябре 1930 г. – орган Главного управления промышленными кадрами ВСНХ СССР, с 1931 г. – Сектора кадров ВСНХ СССР, с 1932 г. – Сектора кадров НКТП, с 1933 г. – ГУУЗ НКТП). Номера 1930 – 1937 гг. (Ссылки на отдельные номера журнала см. в соответствующих местах в тексте очерка. Статьи А.А. Цибарта см. в данной библиографии. Статья Б. Солоноуца "Математическая олимпиада в МММИ им. Баумана" ЗПК 1935 № 15)
56. Постановление ЦИК и СНК СССР от 13 января 1930 г. "О подготовке технических кадров для народного хозяйства Союза ССР". – Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917-1967 гг.) М., 1967. Т. 2. С. 156-163
57. Пролетарий на учебе. Газета студентов и работников Московского высшего технического училища. 1 марта 1930 г. (Стр. 1).
58. Петровский, Д. А. В борьбе за новые технические кадры. (Ленингр. обл. сов. нар. хоз-ва) – Ленинград : Гос. техн. изд-во, 1930
59. Петровский, Д. А. Реконструкция втузов и борьба за качество // Правда, 7 апреля 1930
60. Петровский, Д. А. Реконструкция технической школы и пятилетка кадров. (Ленингр. обл. сов. нар. хоз.) – Л., Гостехиздат, 1930
61. Петровский, Д. А. XVI съезд ВКП(б) и борьба за промышленные кадры. Харьков, Государственное издательство «Пролетар», 1930
62. Иванов, Б. Безболезненный распад МВТУ // Красное студенчество: Двухнедельный журнал ЦБ и МБ пролетарского студенчества. – [М.]: Гос. изд-во. – 1930. № 27. С. 17.
63. Опыт перехода к лабораторному методу занятий во втузах. Выпуск I – II. М.–Л., Государственное научно-техническое издательство, 1931
64. Тезисы доклада Начальника Учебной части профессора Н.В. Красноперова на учебно-производственной конференции Ленинградского Машиностроительного Института 27-28 мая 1931 г. Ленинград, 1931. С. 6,7 (о Советах отделений в МММИ им. Баумана)
65. Проф. Е.Н. Тихомиров. Курс сопротивления материалов. Изд. 2-е. – М., Московский механико-машиностроительный институт им. Н.Э. Баумана, Научно-техническое общество, 1931
66. Постановление Комиссии Исполнения при СНК Союза ССР (Подписано: В. Молотов, И. Межлаук) «О непрерывной производственной практике студентов на предприятиях “ВОМТ”а и “Парвагдиза”» от 28.05.1931. СЗ СССР 1931 г. № 35, ст. 262
67. XVII конференция Всесоюзной коммунистической партии (б). 30 января – 4 февраля 1932. Стенографический отчёт. – М.: Партиздат, 1932 (Книга на сайте Militera)
68. Пирожков Б.А., Осминкин А.И. Техническое нормирование станочных работ в механических цехах. М.-Л., 1932
69. Беспрозванный И.М. Теория резания металлов. Часть 1. Усилие резания. – Москва, Московский механико-машиностроительный институт им. Н.Э. Баумана, 1933; Часть 2. Скорость и рациональное резание. – Москва, Московский механико-машиностроительный институт им. Н.Э. Баумана, 1932
70. Постановление ЦИК СССР Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах (19.IX.1932 г., утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 16.IX.1932.) (Сайт "Исторические материалы"); сайт "Музей истории российских реформ имени П.А. Столыпина", страница "Законы о вузах и техникумах. 1930-1938 гг."
71. СССР. Народный комиссариат тяжелой промышленности. Сектор кадров. Инструктивно-директивное письмо о порядке реализации постановления ЦИК СССР от 19/IX 1932 г. "Об учебных програмах и режиме в высшей школе и техникумах" учебными заведениями системы НКТП СССР [Текст] : Прил: Постановление ЦИК СССР от 19/IX 1932 г. – Москва ; Ленинград : изд-во Наркомата тяж. пром., 1932
72. Лещинер, Ефим. Овладеть наукой : Доклад т. Лещинера о плане мероприятий комсомола по осуществлению решений правительства и ЦК ВКП(б) о высшей школе и содоклад т. Цибарт о работе Механико-машиностроит. ин-та на 6 пленуме ЦК ВЛКСМ 27 ноября 1932 г. / Е. Лещинер, А. Цибарт ; 6 пленум ЦК ВЛКСМ. – [Москва] : Мол. гвардия, 1932
73. Всесоюзное социалистическое соревнование вузов, втузов и техникумов. М.: «За пищевую индустрию», 1932
74. Сто лет Московского механико-машиностроительного института им. Баумана. 1832–1932 : [Юбилейный сборник] / Ред. совет: А. А. Цибарт, П. В. Журавлев, А. М. Аравин, А. И. Фоминых. – Москва : Госмашиздат, 1933 ("Образцовая" тип. и др.). – Переплет, XII, 406, [2] с., 19 вкл. л. ил., портр. : ил. ; 25х17 см.
Некоторые материалы из Сборника:
Оглавление
Академик Г.М. Кржижановский. К столетнему юбилею МММИ – бывшего МВТУ
А. А. Цибарт. 100 лет МММИ – МВТУ (с. 21-40);
П. Зернов. Большевики МММИ в борьбе за кадры (с. 41-58);
Приказ С. Орджоникидзе к 100-летию МММИ;
Г. А. Нехамкин. Из истории МММИ (от ремесленной школы к техническому училищу);
Г. А. Григорьев. Революционные кружки в МТУ;
М. Акимов. МВТУ после Октября;
Л. Леонидович. МММИ в борьбе за первую пятилетку;
М. Ларин. Наука и производство. Научно-исследовательская работа лабораторий МММИ им. Баумана;
Е. Симонов. Проф. П. К. Худяков
Профессор И. И. Куколевский. Экспериментальные методы преподавания;
Профессор Е. К. Мазинг. У колыбели дизелестроения. Развитие специальности двигателей внутреннего сгорания;
Ф. А. Яковлев. Хозяйство и финансы МММИ;
Ю. Вебер. Один день в общежитии;
Б. Розенцвейг. Уволенная служанка;
Н.Е. Жуковский – отец русской авиации;
Детские годы русской авиации (Туполев, Россинский);
М. Дыскин. Из дневника активиста;
Ячейка красных партизан. На штурме Перекопов науки;
Фотопортрет нач. ГУУЗа Д.А. Петровского
75. Обращение МММИ им. Баумана [по поводу подготовки к летней 1933 г. зачетной сессии во втузах]. // За коммунистическое просвещение № 118, 24 мая 1933
76. Материалы к январской зачетной сессии / 1933/34 уч. год. / Выпуск 1. – Московский Механико-Машиностроительный Ин-тут им. Н.Э. Баумана. Сектор учебных пособий. – Декабрь 1933
77. Социалистическая реконструкция и наука. 1933, выпуски 3, 10; 1935, выпуски 4, 9 (см. на странице). Г.А. Шаумян, Закон производительности рабочих машин (1933, № 10)
78. "Красный советский вуз должен дать лучшего в мире инженера" // За коммунистическое просвещение № 244, 22 октября 1933 г. (Рубрика, под которой размещены материалы о торжественном заседании 21 октября 1933 г., посвященном 100-летию МММИ им. Баумана)
79. 100 лет МММИ им. Баумана. Кинохроника (18 секунд). Сюжет о проф. Л.П. Смирнове. 1933
80. Кадры о кадрах – рапорт ВТУЗов. Короткометражный документальный фильм. Киностудия "Союзкинохроника", режиссер И. Венжер, оператор С. Сегаль, другие создатели М. Шер, Г. Гамбург. 1934. (Сюжеты о МММИ им. Баумана, Промакадемии, ЛМИ)
81. Всесоюзный комитет по высшему техническому образованию при ЦИК СССР. Бюллетень. – № 2 (16) 15 января 1934. Список втузов и научно-исследовательских институтов НКТяжпрома и ВКСвязи, в которых установлена подготовка аспирантов. С. 6. – № 4-5 (18-19) март 1934. Об обследовании Краснознаменного Московского механико-машиностроительного института им. Баумана. С. 11-15.
82. Очередные задачи втузов. Сокращенная стенограмма первого заседания совета КрМММИ. М., 1934
83. СССР. Народный комиссариат тяжелой промышленности. Главное управление учебными заведениями. Учебные планы и программы специального цикла машиностроительных втузов / Под ред. пред. Прогр-метод. комиссии проф. Н. В. Красноперова ; С пред. Д. А. Петровского. – Москва ; Ленинград : Госхимтехиздат, 1934
84. Высшая техническая школа. Ежемесячный журнал Всесоюзного комитета по высшему техническому образованию при ЦИК СССР. Сентябрь 1934 – 1936 гг. (Ссылки на отдельные номера журнала см. в соответствующих местах в тексте очерка. – Г.А. Осецимский, Опыт методической работы втуза)
85. 3-е Всесоюзное социалистическое соревнование ВТУЗ'ов. 1. Показатели соревнования 2. Календарный план института по выполнению показателей соревнования. Московский институт стали им. И.В. Сталина. 1934
86. Ерманский, О. А. Письма о рационализации. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Гос. техн.-теоретич. изд-во, 1934. Письмо одиннадцатое
87. Петровский, Д.А. Втузы тяжелой промышленности в 1934-35 году. – Москва ; Ленинград : ОНТИ НКТП, 1934. – 115 стр.
88. Ямский, А. Лучший втуз Советского Союза. М., Профиздат, 1934. – 99 стр.
89. Общетехнические факультеты. Сборник материалов под ред. инж. И.М. Пугача со вступительной статьей Д.А. Петровского. – Москва ; Ленинград : ОНТИ НКТП, 1935.
90. Всесоюзная спартакиада втузов тяжелой промышленности. М., 1935. (Д. Петровский. Новое поколение, и др.)
91. Сборник постановлений по высшему техническому образованию. Составил М.А. Романовский. М.-Л., ОНТИ, 1935 (период 1932–1935 гг.)
92. Фронт науки и техники 1936, № 1 (статья Цибарта – см. в списке его работ, другие материалы номера см. на странице)
93. Программа научно-технической конференции Краснознаменного Московского механико-машиностроительного института им. Н.Э. Баумана (итоги научно-исследовательской деятельности института за 1936 год). – Москва : Комбинат Издательства и Изготовления Учебных Пособий К.М.М.М.И., 1937.
94. Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года. 3 марта 1937 г. Вечернее заседание. Доклад т. Сталина.
95. Сперанский, А.Д. Наш Сталин. Известия ЦИК, 7 ноября 1937 г.
96. Советское студенчество 1936 № 8, 1937 № 3 (см. в списке статей Цибарта)
97. Газета КрМММИ «Ударник». Редакционные статьи: За широкую большевистскую самокритику, 29 марта и 5 апреля 1937; Итоги отчетно-выборного собрания, 23 апреля 1937; Очиститься от вражеского охвостья, 13 января 1938; О передовой статье в газете "Ударник" "Очиститься от вражеского охвостья", 21 января 1938.
98. Секерж, Н. Илецкая защита. Чкалов, Огиз, 1941 (стр. 45).
99. Документальный фильм "1 сентября в школах СССР", 1952. РГАКФД, YouTube. (Со 2-й мин. 49 сек. по 3-ю минуту – учитель физики в школе № 16 Гомеля – возможно, Цибарт).
100. М.Е. Главацкий «О деятельности Уральской партийной организации по командированию коммунистов во втузы (наборы "парттысячников"). Свердловск, 1964
101. Соф'я Шамардзина. Старонкi з бияграфii Язэпа Адамовiча. // Полымя, 1966, № 4.
102. Бохуров, В. Н. Органы государственного управления Белорусской ССР (1919–1967 гг.) / В. Н. Бохуров, А. И. Ванькевич, Н. Т. Бобков ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск: Наука и техника, 1968. – 327 с. [Краткие сведения о структуре власти, но без указания имен – видимо, практически все тогдашнее руководство было репрессировано.]
103. Аксенов, А.В., Соль Илецкая : Историко-экон. очерк. (1754-1965 гг.). – Оренбург : Б. и., 1969. – 172 с. : ил. – (Министерство просвещения РСФСР. Оренбургский государственный педагогический институт имени В.П. Чкалова. Ученые записки ; Вып. 31). (С. 143-145)
104. История города Соль-Илецка. На сайте "история Оренбуржья".
105. Прокофьев, В.И. Московское высшее техническое училище. 125 лет. – Москва : Машгиз, 1955. (Фрагменты о МММИ)
106. Звездин, З.К. Советские синдикаты и их роль в народном хозяйстве СССР. 1973. / Сайт Либмонстр
107. Кравченко, П.К. Внешняя торговля БССР в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.). // История СССР и БССР. – Вып. 2. – Минск: Изд. БГУ, 1975. – С. 135–144
108. Якутов, В.Д. А.Г. Червяков. Страницы биографии. – Минск : Беларусь, 1978
109. Поповский, Марк. Управляемая наука. Лондон, 1978
110. Волчкевич Л.И., Замчалов Ю.П. Григор Арутюнович Шаумян (1905 – 1973). – Москва : Наука, 1978
111. Чалмаев, В. Малышев. – Москва : Молодая гвардия, 1981
112. Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана. 150. – Москва : Высшая школа, 1980. – 320 с. (отрывки: Глава "разделение Московского высшего технического училища на ряд отдельных учебных заведений"; из главы "Московский механико-машиностроительный институт им. Н.Э. Баумана. 1930–1941 годы", с. 63–71)
113. Нистратов, А.Ф., Зимина В.А., Зимина Е.К. Анатолий Иванович Зимин. – Москва : Наука, 1985. (С. 31-32)
114. Ефимов, В.В. Летопись жизни и деятельности А.В. Луначарского (1917–1933 гг.) В трех томах. Том 2. Книга 2. Душанбе : Издательство Таджикского университета, 1992
115. Щапов, Н.М. Я верил в Россию... Семейная история и воспоминания. – Москва : изд-во объединения "Мосгорархив", 1998. (Глава и отдельные упоминания об учебе в ИМТУ в 1900-х гг., фото здания химических лабораторий ИМТУ 22 марта 1902 г.)
116. Карпачева, С.М. Записки советского инженера. – М., ПАИМС, 2001 (Реорганизация МВТУ, перевод в "Менделеевку"; Карпачева в МВТУ)
117. Уварова, Л.И. Петр Кондратьевич Худяков. – Москва : Наука, 2001
118. Алешин, Н.П., Павлихин Г.П., Федоров И.Б. Академик Георгий Александрович Николаев. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. (С. 32-38)
119. Шелест, П.А. О моем отце Алексее Шелесте. У истоков отечественного тепловозостроения. М., изд-во МГТУ им. Баумана, 2002
120. Козлов, А.Г. Магадан: предвоенное и военное время. Ч. 2. (1939-1945). Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2002. 477 с.
121. Бацаев, И.Д., Козлов, А.Г. Дальстрой и Севвостлаг НКВД СССР в цифрах и документах: в 2-х ч. Ч. 2 (1941-1945). Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2002. 428 с. Приказ № 0052 по Дальстрою Никишова, Окунева, Драбкина и Липатова; Распоряжение Егорова о переводе 11 инженеров и в т.ч. Цибарта из Колымпроекта в ЦНИЛ ДС; Приказ № 485 нач. Дальстроя Никишова)
122. Сайт Красноярского общества «Мемориал»*. (Приказ 29 апреля 1942 г. о задержке заключенных до конца войны под стражей или в качестве вольнонаемных; приказ об освобождении «пересидчиков» от 24 июня 1946 г. см. также на этом сайте.)
123. Сайт о-ва «Мемориал»*. Сталинские расстрельные списки. Список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 19 апреля 1938 года. Страница списка с Цибартом: АП РФ, оп. 24, дело 416, лист 39. См. также листы 28, 29, 32.
124. Глущенко, А.Г. Колымский хронограф. Часть 1; Колымский хронограф. Часть 2.
125. Анцупова Г.Н., Павлихин Г.П. Ректоры МГТУ имени Н.Э. Баумана, 1830-2003. – 3-е изд., перераб. и доп. – М : Воен. парад, 2003. – 285 с. : ил., портр. ; 22 см. Библиография, именной указатель.
126. Федоров, И.Б., Павлихин, Г.П. Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 175 лет (1830-2005). – Москва : Изд-во МГТУ, 2005
127. Волчкевич Л.И., Волчкевич И.Л. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. 1830-2005. 175 лет. История и современность. – Москва : Издательство МГТУ им. Баумана, 2005
128. Анцупова, Г.Н. МГТУ глазами историка. Издание второе, исправленное и дополненное. – Москва : Изд-во МГТУ, 2005
129. Основатели научных школ Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана : краткие очерки / ред. Юдин Е. Г., Демихов К. Е. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. – 630 с. : ил. – Библиогр.: с. 627–628.
130. Павел Литвинов. Поляки Речицкого региона в 20-е гг. XX века. (2005)
131. Владимир Гершанок, Владимир Райский. Евреи Гомеля в годы Гражданской войны
132. Абелев, Г.И. Непредсказуемость путей фундаментальной науки. / Здравый смысл, 2005, №2; О логике развития и реформировании науки: подход ученых и чиновников. / Здравый смысл, 2005, №3. Также в книге: Г.И. Абелев. Очерки научной жизни. М.: Научный мир, 2006; Дух науки и ее реформирование. / Здравый смысл, 2006, №4.
133. Олесеюк Е.В., Борисов В.М., Динес В.А. Отечественные университеты в динамике золотого века русской культуры. 5.3: Переход на предметный метод организации учебного процесса. 2006
134. Уварова, Л.И. Александр Павлович Гавриленко. – Москва : Наука, 2006
135. Гриневецкий Василий Игнатьевич. К 100-летию специальности «двигатели внутреннего сгорания». / Наука и образование, №1 2007
136. Сайт МГТУ им. Баумана. К 150-летию Василия Игнатьевича Гриневецкого. У нас в гостях Галина Алексеевна Базанчук, директор Музея МГТУ. (Групповое фото членов Правления теплотехнического кружка, в т.ч. А.А. Цибарт)
137. Иоффе, Э.Г. От Мясникова до Малофеева: кто руководил БССР / Э. Г. Иоффе. – Минск : Беларусь, 2008.
138. Мигун, Д. А. Германо-белорусские экономические контакты в межвоенный период. / Весник МДПУ імя І. П. Шамякiна, 2009
139. Клепиков, Н. Деятельность Наркомата внешней торговли СССР по продаже памятников истории и культуры Беларуси (20–30–е гг. XX в.) // Журнал международного права и международных отношений : научное издание – 2009. – № 1. – С. 40–44
140. Арманд, Д. Путь теософа в стране Советов: воспоминания. 2009 (о Я.Ф. Каган-Шабшае)
141. Волчкевич И.Л. Сословие вольных людей. Книга о Бауманском и бауманцах. В 2-х тт. – Москва : Рубежи, 2009
142. Фалько, С.Г. Экономика и организация производства: Научные школы ИМТУ – МММИ – МВТУ – МГТУ им. Н.Э. Баумана. – Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009 (сс. 122-125)
143. Панов, Ф.П. Фрагменты из дневника Ф.П. Панова, посвященные творчеству солистки Большого театра Елизаветы Антоновой (дата торжественного собрания, посв. 100-летию МММИ, в филиале Большого театра)
144. Корсаков, С. Н., Корсакова, И. А. О роли архивных материалов в сохранении культурной преемственности (на материалах биографий ректоров МВТУ им. Баумана <А.А. Цибарта и А.Т. Дыкова>). // Казанская наука. 2010. № 6. С. 95–99. Сайт журнала
145. Сайт ЦентрАзия. Казахстан. Цибарт Адольф Августович.
146. Пустовойт, Г. А. Организация и функционирование Центральной научно-исследовательской лаборатории Главного управления строительства Дальнего Севера НКВД СССР в 1940-1948 гг. // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. 2010. № 2. С. 94-102.
147. Петров, Н.В. Кто руководил органами госбезопасности: 1941-1954. Москва : Междунар. о-во «Мемориал»*: Звенья, 2010
148. Павлихин, Г.П., Базанчук, Г.А. Выдающиеся воспитанники МГТУ им. Н.Э. Баумана : 1868-1930 / Москва : Изд-во МГТУ, 2010
149. Руслан Горбачев. «Деда довели до самоубийства, хотя Сталин отдыхал с ним в Крыму и держал на руках мою маму». «Салідарнасць» разыскала внука Александра Червякова – одного из создателей БССР и авторов белорусизации, застрелившегося в разгар репрессий в 1937 году. 11.04.2011.
150. Художник М.В. Доброковский. // Краеведческий альманах Приокская глубинка № 2 (11) 2011. Сс. 29-38.
151. Балабина, Г. В. История кафедры физики МГТУ им. Н. Э. Баумана / Г. В. Балабина ; под ред. К. Б. Павлова, А. Н. Морозова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2012. – 151, [1] с. : ил. (С. 71, 75)
152. Такоева, И. Т. Гомельская губерния: как все начиналось. Неизвестные страницы. Гомель, 2014
153. Елизаров, С. А. Система организации власти и управления Гомельской губернии в 1919-1921 гг. // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, № 4 (91), 2015.
154. Волчкевич, И. Л. Николай Эрнестович Бауман (Приказ ВСНХ о разделении МВТУ и назначении Цибарта директором ВММУ, и пр. Ссылка на персональную страницу И.Л. Волчкевича на сайте МГТУ им. Баумана)
155. Волчкевич, И. Л. Очерки истории Московского высшего технического училища / И. Л. Волчкевич. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016. – 326, [2] с. Библиография (включающая собственные издания МММИ), именной указатель.
Очерк 25 (период директорства А. А. Цибарта, некоторые сведения о нем): «Соцсоревнование»
156. Волчкевич, И. Первые деканы Механического факультета ИМТУ-МВТУ. – На сайте «МГТУ им. Баумана. Научно-учебный комплекс Энергомашиностроение»
157. Становление научной школы математики МГТУ им. Н.Э. Баумана. На сайте «МГТУ им. Баумана. Научно-учебный комплекс Фундаментальные науки»
158. Łódź, ul. Żeromskiego Stefana 115. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły (фотографии 1900-х гг. на сайте fotopolska.eu); сайт Baedeker Łódźki (современные фотографии, сведения по истории училища)
159. Сайт школы им. Кароля Войтылы. История школы (о Лодзинском мануфактурно-промышленном училище)
160. Евгений Жирнов. «Недалекий, слабохарактерный и неразвитой». Что докладывали Сталину о руководителях Белоруссии // Коммерсант.ru 13.07.2015
161. Будникова С.В. Первый музей Колымы. // Краеведческие записки, выпуск ХХ. Магаданский областной краеведческий музей. – Магадан : Кордис, 2015.
162. Пролетаризация МВТУ им. Н. Э. Баумана. Документальный фильм. Дамир Губайдулин, 2016 (видео 18 мин.)
163. Коршунов, С.В. Российские купцы и Императорское Московское техническое училище : в 2-х ч. Часть 1: "Бауманские" купцы. – Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2016. [В т.ч. сведения о В.А. Ушкове]
164. Музей истории Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Составители: Базанчук Г.А., Волохова Г.Л., Полежай В.Г. / МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017
165. Андрей Лукашевич. Глава еврейского пролетариата [об А.И. Вайнштейне] // Минский курьер, 7.07.2017
166. Страница VK "Мы патриоты Белой Руси!"
167. Сайт "Топография террора"
168. Анастасия Курилова. Террор снимают с учета. Музей истории ГУЛАГа узнал об уничтожении информации о репрессированных по секретному приказу. // Коммерсантъ, 08.06.2018.
169. Колесников Г.А. Технологии прокатки и прокатное машиностроение в МГТУ им. Н.Э. Баумана. К 70-летию кафедры «Оборудование и технологии прокатки». – Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2019.
170. Князев Е.А. Лев Петражицкий и аутодидактика в высшей школе. // Психолого-педагогический журнал «Гаудеамус». 2020. Т. 19. № 3 (45). С. 84-90 (о предметной системе).
* * *
171. Публичный акт Ремесленного Учебного Заведения 10-го сентября 1860 года. (...) – Москва. В типографии Каткова и комп. 1860. Приложения: План механической и модельной мастерских и технологической лаборатории Р. У. Заведения; Московское Ремесленное Учебное Заведение (совмещенный план части 1-го и части 2-го этажа и фасад). (Сканы предоставлены И. Ивановым)
172. Архив Музея истории МГТУ им. Н.Э. Баумана (фотокопии поэтажных планов ИМТУ с экспликациями. 1895 г.).
173. Музей архитектуры им. А.В. Щусева. Фототека. Коллекция II, негатив 740 (фрагмент стены без штукатурки; источник ГТГ № 5655/5571); коллекция V, негатив 38185 (парковый фасад, центральная часть; автор съемки М.М. Чураков, 1968); коллекция V, негатив 38191 (пилон въездных ворот; автор съемки М.М. Чураков, 1968).
174. Найденов, Н.А. Москва. Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений : [C 2-мя прил.]. – 1884–1891. Приложение 2-е. – 1891. Год изд. 1907.
175. Архитектурные мотивы. Еженедельный журнал архитектуры, техники и художественной промышленности. Выпуск 4. Москва, 1900.
176. Фомин И.А. Московский классицизм. – «Мир искусства», 1904, т. 12, № 7, с. 197.
177. Иллюстрированный художественно-литературный журнал «Искры», № 19 за 18 мая 1914 года. (Фото центр. части паркового фасада – сцена панихиды по А.П. Гавриленко. – Статья обнаружена И. Ивановым)
178. Зайцев, Б.К. Юность (1950).
179. Щапов, Н.М. Я верил в Россию... Семейная история и воспоминания. – Москва : изд-во объединения "Мосгорархив", 1998.
180. Якирина, Т.В., Одноралов, Н.В. Витали. 1794-1655. – Ленинград – Москва : Государственное издательство "Искусство", 1960. – С. 10–13.
181. Евангулова О.С. К истории Ремесленного заведения Воспитательного дома. – Памятники культуры, № 2. М., 1960. – С. 110–138.
182. Белецкая, Е.А., Покровская, З.К. Д.И. Жилярди. – М., 1980. – С. 98–117.
183. Министерство культуры СССР. Памятники истории и культуры СССР (паспорта, учетные карточки Дворца и ограды 1980-х гг.):
Паспорт, учетная карточка – 1
Паспорт, учетная карточка – 2
Паспорт, учетная карточка – 3
(предоставлено И. Ивановым)
184. Памятники архитектуры Москвы. Территория между Садовым кольцом и границами города XVIII века (от Земляного до Камер-Коллежского вала). М. : Искусство, 1998. – С. 333–335
185. Сайт Общества изучения русской усадьбы. Графика Доменико Жилярди: общественные здания, жилые дома, малые формы. (В т.ч. фасады центр. части Слободского дворца)
186. Чекмарёв, А.В. Новые атрибуции церковных построек А.Г. Григорьева. / Сборник Общества изучения русской усадьбы. Вып. 19 (35). М-Спб., 2014. С. 374–409.
187. Памятники архитектуры Москвы и области. Ограда бывшего Слободского дворца, XVIII-XIX вв. Учетная карточка
188. Анцупова, Г.Н. МГТУ глазами историка. - Изд. 2–е, испр. и доп. – М. : изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. – С. 45-53; 66–70.
189. Нащокина, М.В. Московский архитектор Лев Кекушев. – СПб. : Издательский дом "Коло", 2012. – С. 175–182
190. Нащокина, М.В. Работы Льва Кекушева для Императорского Московского технического училища: новые материалы. / Архитектурное наследство, № 68. СПб. : Издательский дом "Коло", 2018. – С. 239-251.
191. Страница этого сайта «Слободской дворец в Лефортово. Как складывался современный архитектурный облик старого здания МГТУ им. Н.Э. Баумана».
192. Страница этого сайта «Что, где, когда в МРУЗ / ИМТУ (1860, 1895, 1910)».
• Все печатные тексты А.А. Цибарта из списка в формате pdf/текст (пополняется!)
(последующие ссылки на отдельные статьи – в формате pdf/изображение)
1. Известия Революционного комитета гор. Гомеля и уезда. № 73. – Воскресенье, 23 марта 1919 г. – С. 4. Обязательное постановление Гомельского Отдела Труда № 11 [о предоставлении предприятиями сведений о служащих и рабочих] (Председатель Ревкома Комиссаров. Заведующий Отделом Труда Цибарт).
Известия Гомельского Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов. №84. – Четверг, 10 апреля 1919 г. – С. 4. Обязательное постановление Гомельского Отдела Труда № 1 [о выборе представителей расценочных комиссий] (Комиссар Труда Цибарт. Завед. Тарифным Под'отд. Погуляев).
Известия Гомельского Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов. № 87. – Воскресенье, 13 апреля 1919 г. – С. 4. Оффициальный отдел. Обязательное постановление № 14 [о праздновании Пасхи еврейским и русским населением] (Председатель исполкома Гуло. Заведующий отделом труда Цибарт).
Известия Гомельского Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов. № 95. – 25 апреля 1919 г. – С. 4. Постановления ["Наниматели домашней прислуги временно никаких отчислений в подотдел социального обеспечения и охраны труда не делают" и "последний срок предоставления сведений и страховых взносов 30 апреля"] (Комиссар Труда Цибарт. Завед. Отд. Соц. Обезп. и Охр. Труда Шагас. Управляющий делами Юдицкий).
2. Приветственное обращение к 2-му Гомельскому губернскому съезду Советов, 21 января 1920 г. Государственный архив Гомельской области, ф. 24, оп. 1, д. 1, л. 53-60. С сайта "Архивы Беларуси". Страницы и фрагменты страниц 53, 53ob, 59ob, 60.
3. Дядя Адя [А. Цибарт?]. Пора оформлять. // Смычка. Орган Оренбургского Губкома Р.К.П. (б), Губисполкома и Губпрофсовета. – Вторник 14 июля 1925 г. – № 59. С. 2. (Рубрика: Уголок МОПР-а)
4. Цибарт, А. А. Ближайшие задачи фабричной швейной промышленности // Швейник. – 1926. – № 14 (15 июля). – С. 227–228.
5. А. Ц. Из жизни бюро постоянного совещания // Швейник. – 1926. – № 14 (15 июля). – С. 230.
6. Цибарт, А. Наши капиталы // Швейник. – 1926 . – № 16 (15 августа). – С. 260–261.
7. Цибарт, А. Вторая смена в швейной промышленности // Швейник. – 1926. – № 22 (15 ноября). – С. 356–357.
8. А. Ц. О единой учетной единице швейной промышленности // Швейник. – 1926. – № 22 (15 ноября). – С. 359.
9. Цибарт, А. Что дает разделение труда и конвейер // Швейник. – 1926. – № 23 (1 декабря). – С. 372–373.
10. А. Ц. Как организовать обмен опытом // Швейник. – 1926. – № 23 (1 декабря). – С. 375.
11. Цибарт, А. Итоги пленума швейной промышленности // Швейник. – 1926. – № 24 (15 декабря). – С. 388–389.
12. Цибарт А. К началу работ по стандартизации // Швейник. – 1927. – № 2 (16 января). – С. 28.
13. Цибарт А. План и методы работы комиссий по стандартизации проз' и спец' одежды // Швейник. – 1927. – № 10 (16 мая). – С. 156.
14. Цибарт А. А. За четкую организацию учебной работы [на примере ВММУ] / А. А. Цибарт // За промышленные кадры. – 1930. – № 1. – С. 62–68
15. Цибарт А. А. Выступление на Всесоюзном совещании втузов ВСНХ СССР 20–22 июля 1931 г. // За промышленные кадры. 1931. № 9–10. – С. 43–44.
16. Лещинер Е., Цибарт А. Овладеть наукой : Доклад т. Лещинера о плане мероприятий комсомола по осуществлению решений правительства и ЦК ВКП(б) о высш. школе и содоклад т. Цибарта о работе Механико-машиностроит. ин-та на 6 пленуме ЦК ВЛКСМ 27 ноября 1932 г. В первой шеренге соревнования. / Е. Лещинер, А. Цибарт; 6 пленум ЦК ВЛКСМ. – [Москва] : Мол. гвардия, 1932 (18 тип. треста "Полиграфкнига"). – Обл., 65, [2] с. ; 17х12 см
17. А. Цибарт. 100 лет МВТУ – МММИ. В сб.: Сто лет Московского механико-машиностроительного института им. Баумана. 1832–1932 : [Юбилейный сборник] / Ред. совет: А. А. Цибарт, П. В. Журавлев, А. М. Аравин, А. И. Фоминых. – Москва : Госмашиздат, 1933 ("Образцовая" тип. и др.). – Переплет, XII, 406, [2] с., 19 вкл. л. ил., портр. : ил. ; 25х17 см. (с. 21–40)
18. Ljubimova E., ... An English reader on refrigerating machinery = Английская хрестоматия по холодильным машинам / E. Lubimova and E. Ashworth Е. Любимова и Е. Ашворт; [Ред. Е. Б. Иоэльсон Предисл.: А. А. Цибарт]. – Москва ; Ленинград : Гос. техн.-теорет. изд-во, 1933 ([Москва] : 17 тип. Огиз'а). – Обл., 143 с. : ил. ; 21×15 см
19. 30 лет научно-технической и педагогической деятельности проф. И. И. Куколевского. [От дирекции /+ обложка, фото Куколевского и оглавление/: директор Цибарт, секретарь ПК ВКП(б) Матисен, предс. Профкома Шевцов.] М.: Машметиздат, 1933. – 175 с.
20. Труды Краснознаменного московского механико-машиностроительного института им. Н. Э. Баумана [редкол.: А. А. Цибарт (отв. ред.), П. М. Зернов (зам. отв. ред.), В. И. Раскин (зав. редакцией)]. Предисловие: От Редколлегии. – 1934 – Вып. 1 / исслед.: доц. Г. И. Грановского, доц. Е. Б. Иоэльсона, проф. В. П. Никитина, Д. Панова. – М. ; Сектор учебных пособий КрМММИ, 1934. – 125 с.
21. Цибарт А. Сейчас же начать подготовку к будущей сессии. [МММИ им. Баумана] // За промышленные кадры. 1934. №4. С 26-28.
22. Цибарт А. Проверка качества [подготовки выпускников ВТУЗов] // За промышленные кадры . – 1935. – № 24 (98). – С. 18–23.
23. Цибарт, А. Заметки о высшей школе [перестройка программы ВТУЗов на 1935–1936 гг. в связи с изменениями возрастного состава студентов] // Известия ЦИК. – 1935. – № 250. – С. 3.
24. Цибарт А. Московский механико-машиностроительный институт им. Баумана перестраивается [в связи со стахановским движением] // Фронт науки и техники. 1936. № 1. С. 59–61.
25. Цибарт А. А. Несколько замечаний о номенклатуре специальностей. [По поводу статьи А. Н. Пронина «Укрупнение номенклатуры и инженерных специальностей» в журнале «За промышленные кадры» 1935 №№18 и 21] // За промышленные кадры. – 1936. – № 3. – С. 41–42.
26. Цибарт А. А. Заметки директора [Краснознаменного Моск. Механико-машиностроит. ин-та Об организации учебного процесса и пед. кадрах в связи с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г. "О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой"] // За промышленные кадры. 1936. № 11–12. С. 30–32.
27. Цибарт А. Замечательный руководитель [О встречах с т. Орджоникидзе. Воспоминания дир. Моск. Краснознаменного механико-машиностроит. ин-та им. Баумана] // Советское студенчество. 1936. № 8. С. 17.
28. Цибарт, А. А. Он учил нас работать [воспоминания директора КМММИ им. Баумана о наркоме тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе] // Советское студенчество. – 1937. – № 3. – С. 36–37.
29. Труды Краснознаменного московского механико-машиностроительного института им. Н. Э. Баумана [Text] / КМММИ, Каф. теорет. механики ; [редкол.: А. А. Цибарт (отв. ред.), проф. И. И. Николаев и др.]. – 1937 – . Вып. 29-30 / исслед.: проф. А. П. Котельникова, доц. В. В. Алферова, доц. М. И. Наймана, А. Н. Обморшева. – М. ; Л. : ОНТИ, Гл. ред. лит. по машиностроению и металлообраб., 1937. – 92 с., 2 вкл. л. ил.
30. Дневник А.А. Цибарта 1935–1937 гг.. Центральный архив ФСБ России (копия – в семейном архиве).
31. Письма А.А. Цибарта из ИТЛ в Магадане (семейный архив).
• Кто есть кто в Императорском Московском Техническом училище (плюс краткая информация о нем) в 1910 году:
страницы из адресной книги «Вся Москва»
• Кто есть кто в ВСНХ РСФСР в 1927 году: страницы из адресной книги «Вся Москва»
• Кто есть кто в МММИ им. Баумана в 1931 и 1936 году: страницы из адресной книги «Вся Москва»
• Памятники архитектуры Москвы. Слободской Дворец; Д. Жилярди, проекты фасадов Воспитательного дома 1827 г.
• ИМТУ в 1985 году: Поэтажные планы
* Международное общество "Мемориал" включено в список иностранных агентов в РФ
Ниже цитаты: 1) Кржижановский 2) колл. труд "МВТУ им. Н.Э. Баумана" 3) Нистратов, Зимина и Зимина; 4) Анцупова, Павлихин; 5) Волчкевич.
«Бауманский втуз, все те 16 втузов, которые мы считаем опорными... это единственная опора для нашего движения вперед»
«МММИ в это время от других вузов отличался высококвалифицированными кадрами, хорошей постановкой педагогического процесса, широтой и глубиной проводимой научно-исследовательской работы. Здесь было удобно централизовывать методическую документацию, использовать лучшие силы педагогического состава для обобщения передового опыта и распространения его на другие учебные заведения»
«В 1930 году в МВТУ осталось менее половины работавших до этого профессоров и преподавателей. Возникла опасность, что, потеряв значительную часть ученых, МММИ надолго остановится в своем развитии. Но этого не случилось. МММИ, призванный готовить инженерно-технические кадры для советского машиностроения, стал одним из крупнейших втузов страны и в короткое время занял ведущее место среди них»
«Не являясь известным ученым, А.А. Цибарт обладал незаурядными организаторскими способностями, хорошо ориентировался в основных проблемах высшей школы и представлял себе ее перспективы»
«...Заведению <МВТУ – МММИ> в очередной раз повезло с директором. Адольф Августович Цибарт отличался незаурядной энергией, прекрасными организаторскими способностями и безусловно был большим патриотом своего вуза, пусть даже изменившего название. За шесть лет его руководства <точнее, почти восемь – А.Г.А.> произошло не только резкое увеличение количества выпускавшихся инженеров, но и постоянно велась борьба за качество образования, что отличает этот период от предыдущего, когда главной целью признавалась пролетаризация»
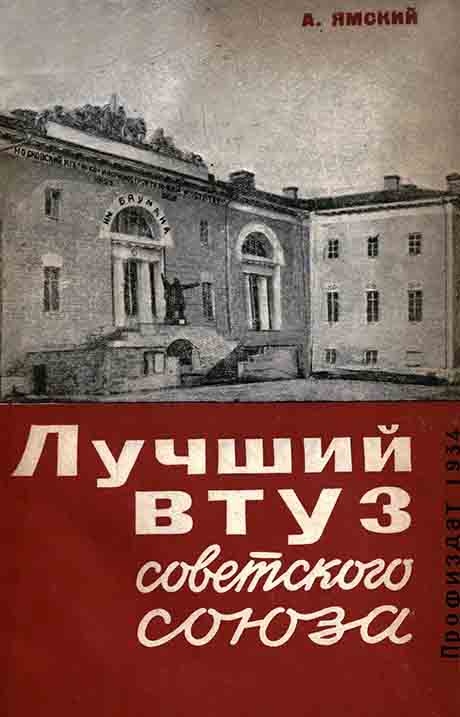
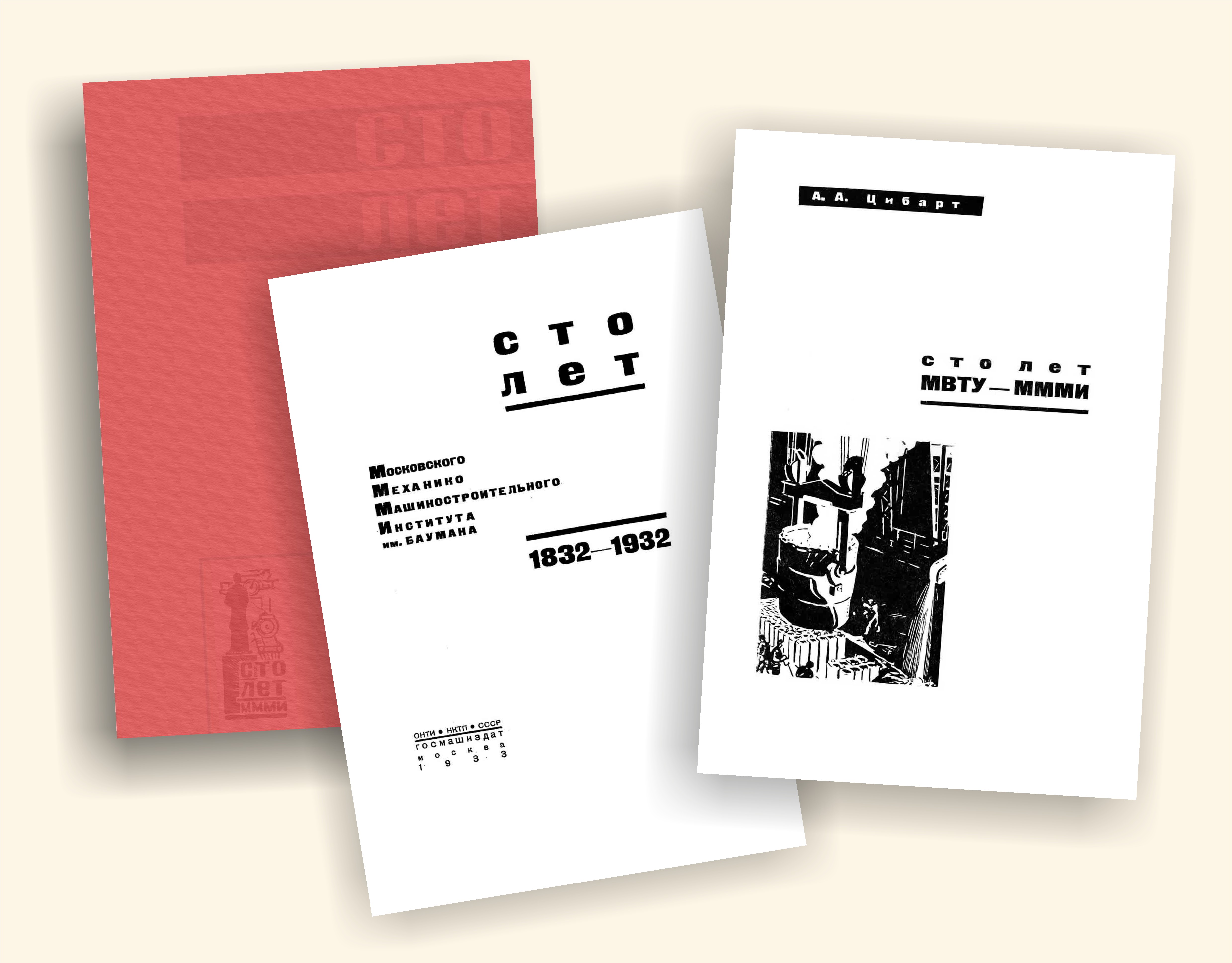
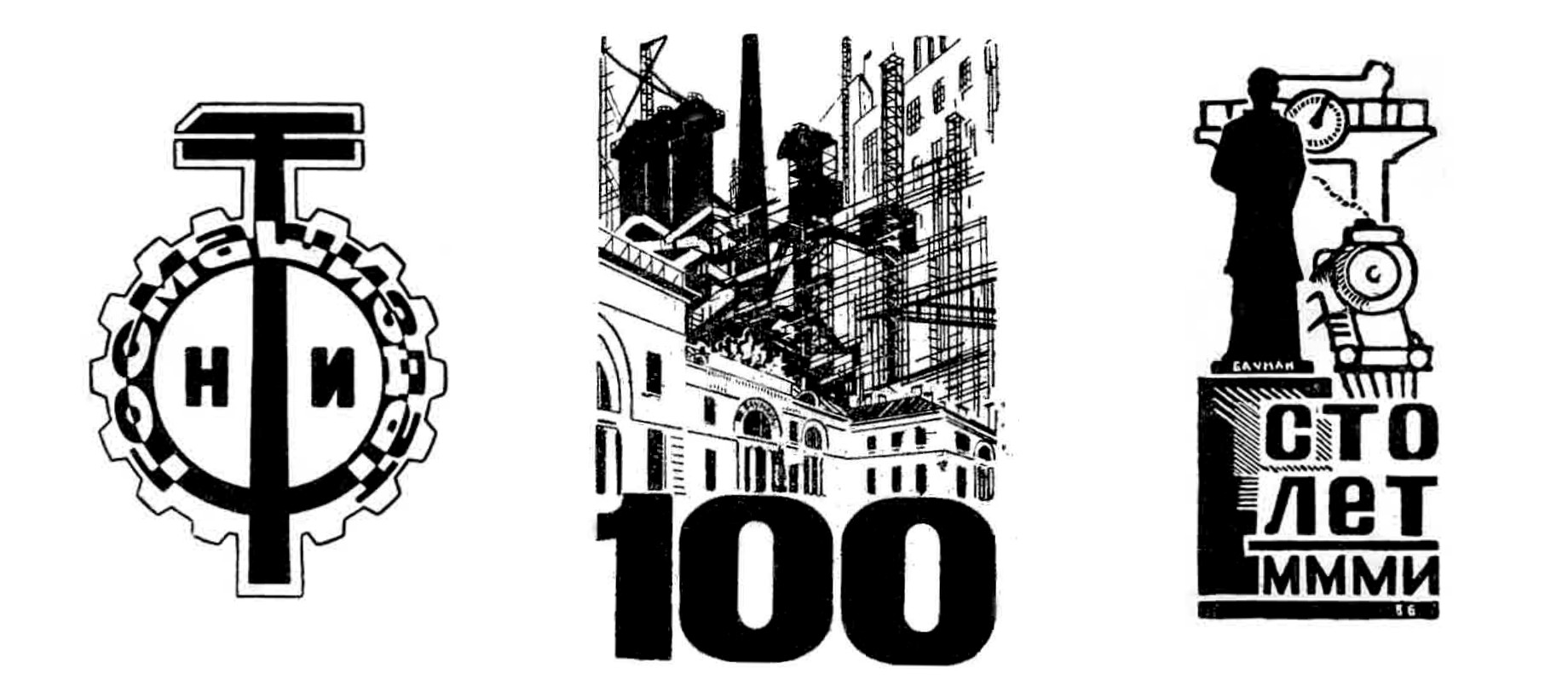

Страница из книги «Сто лет МММИ им. Баумана»
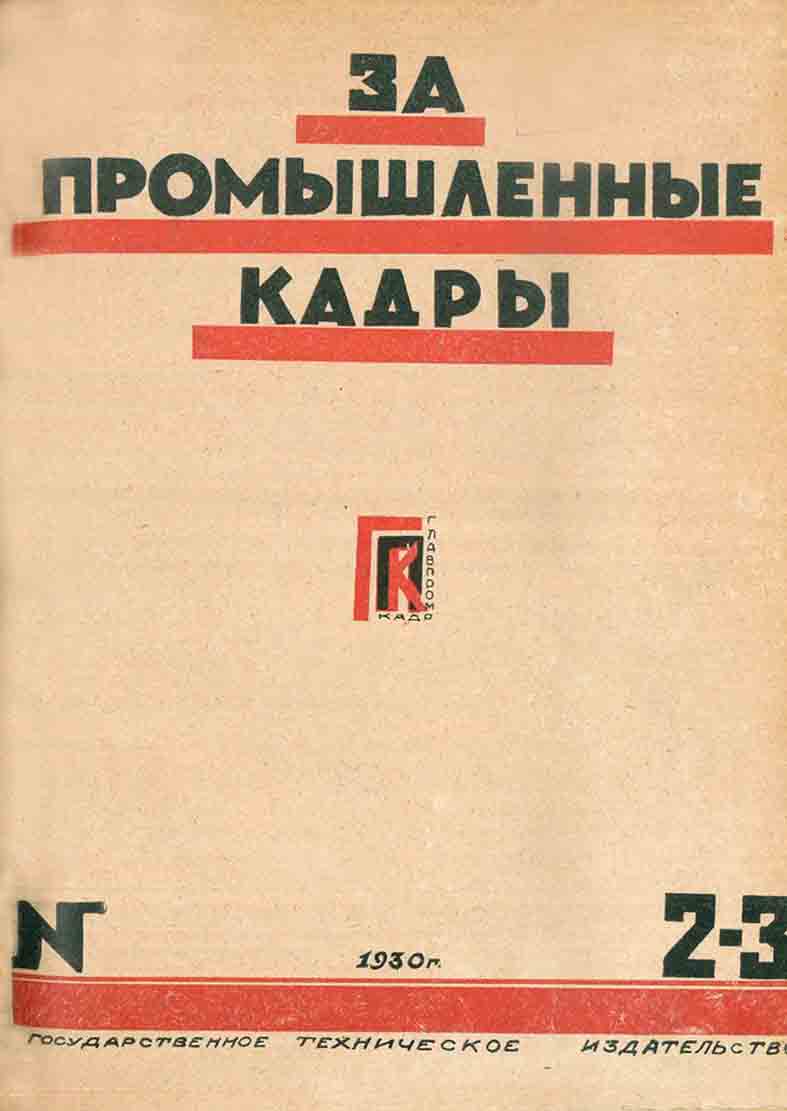
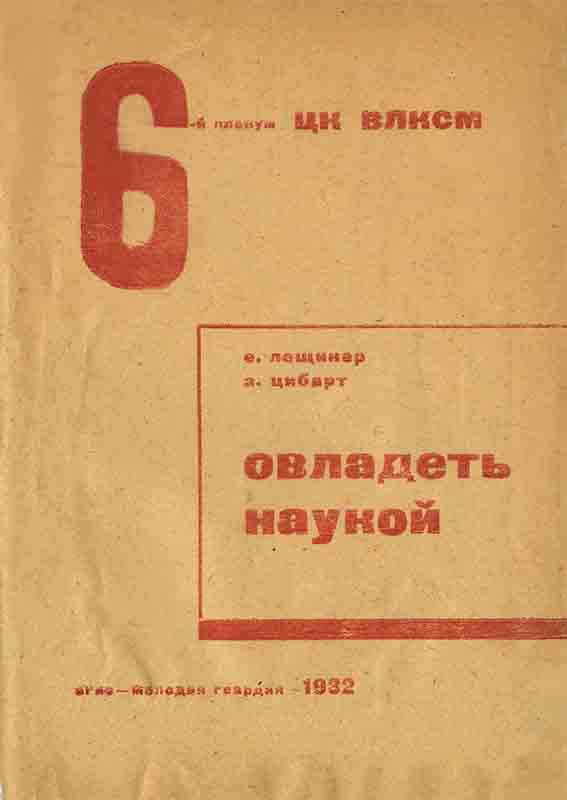
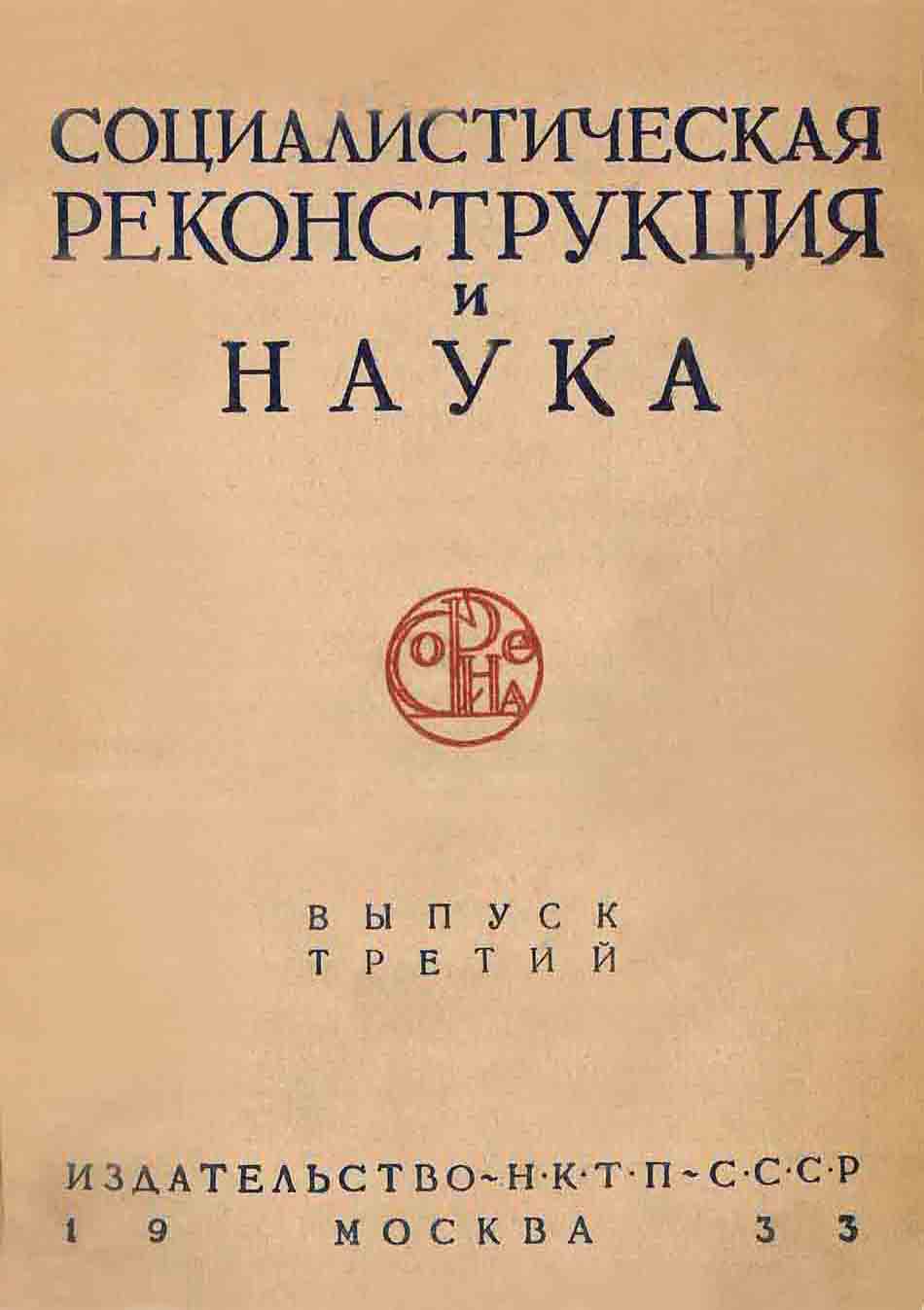
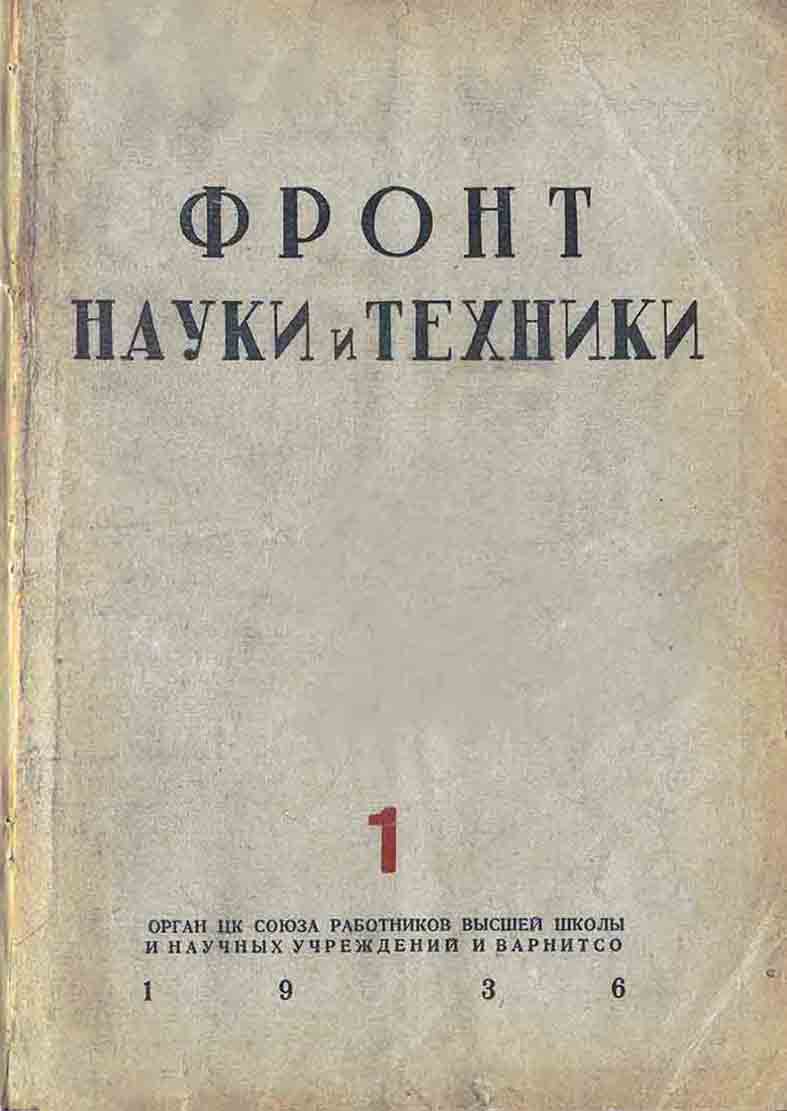
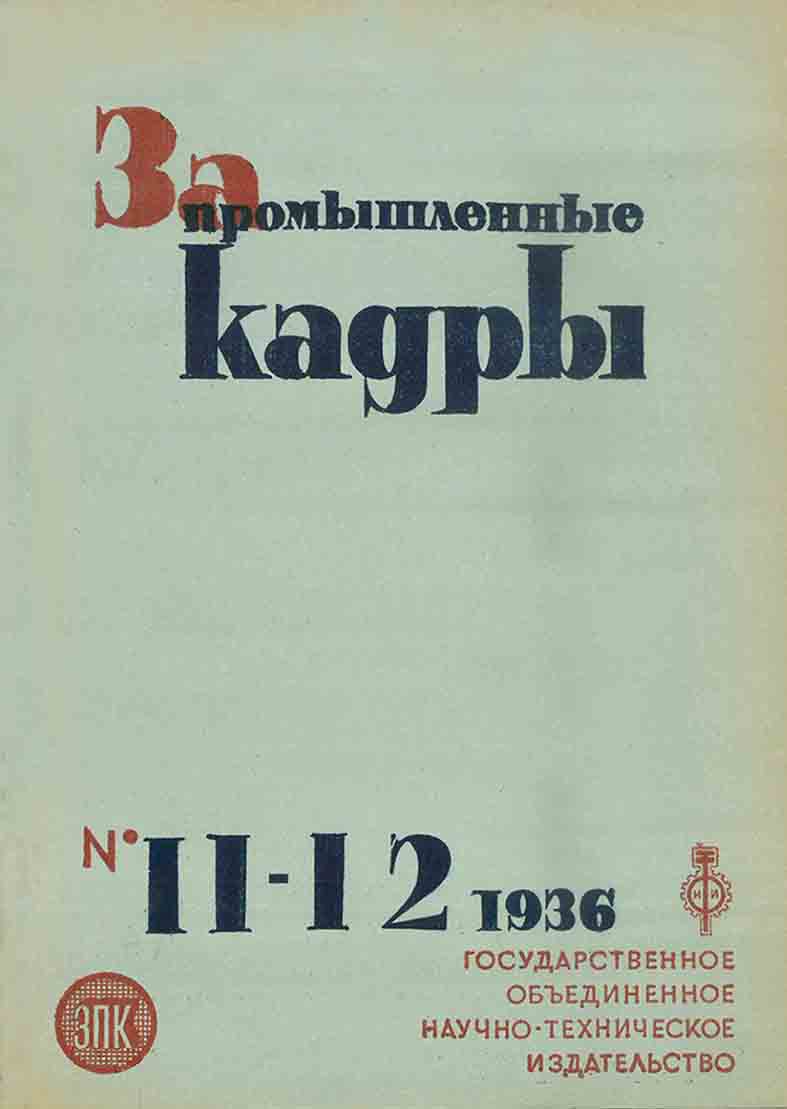
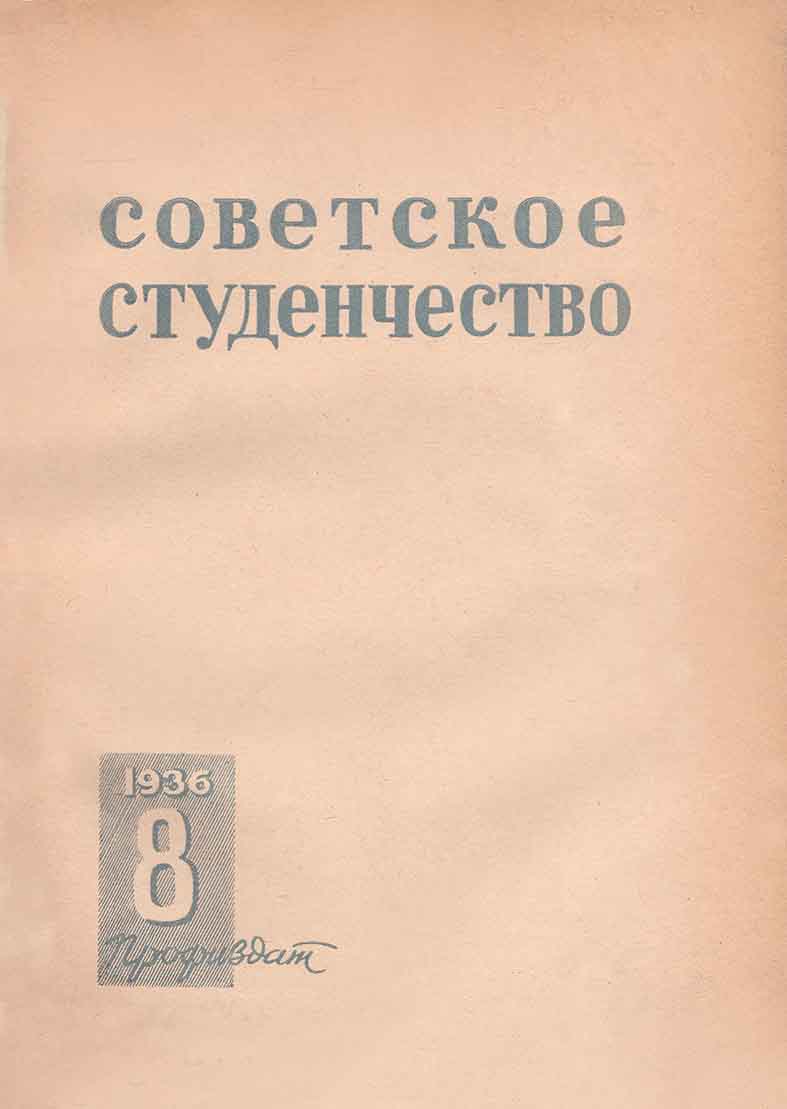
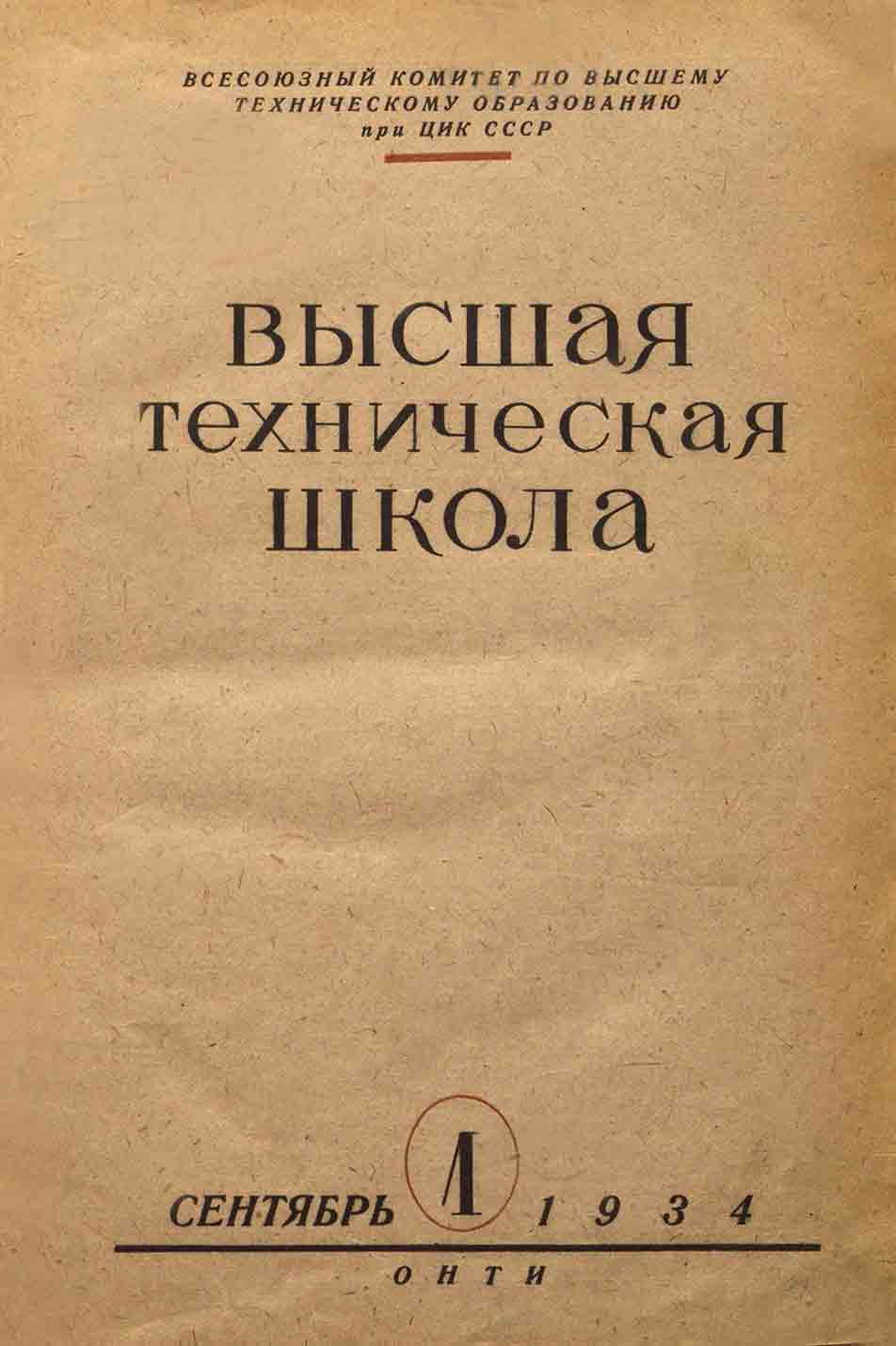
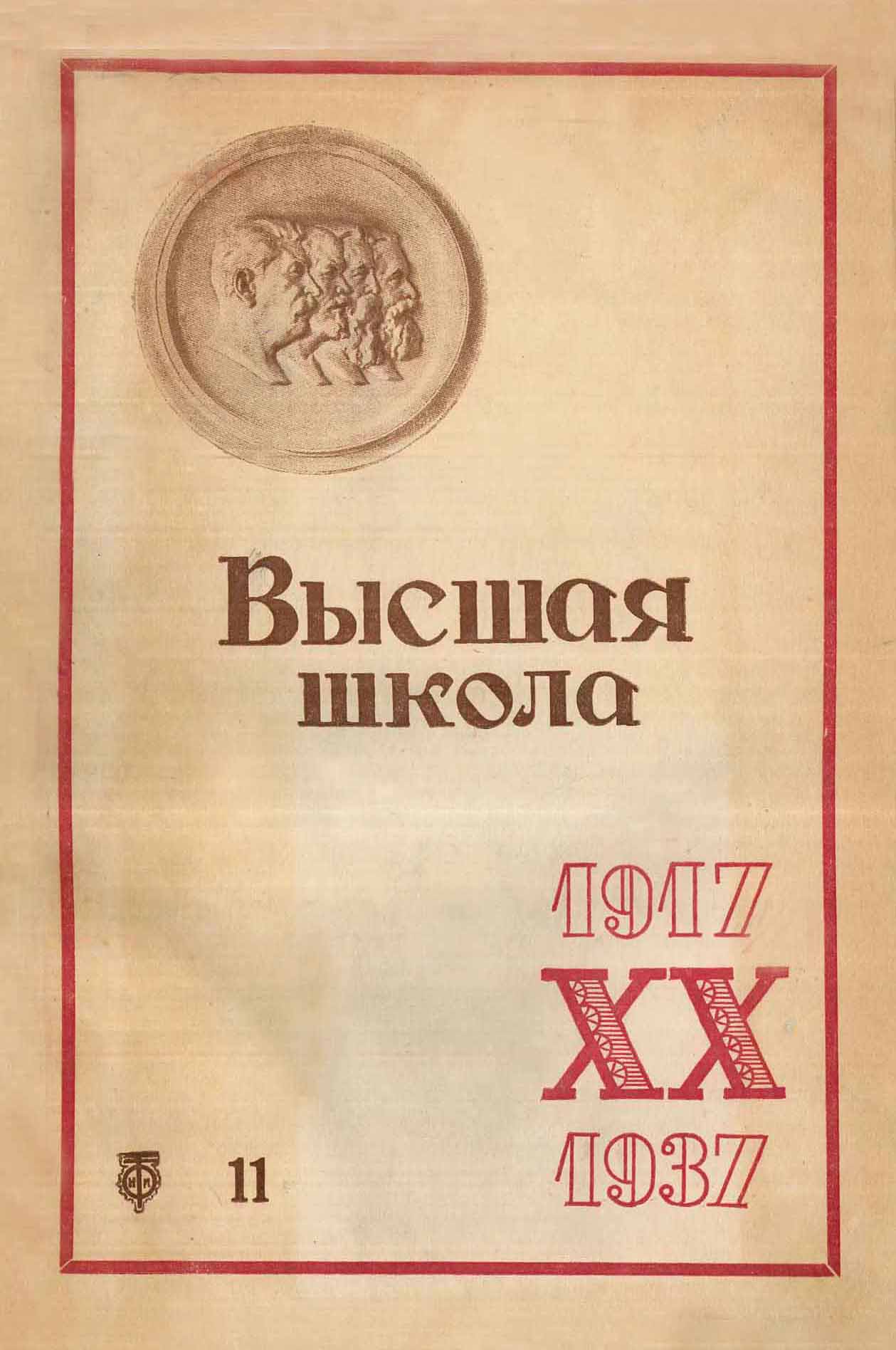

МГТУ им. Баумана. Слободской дворец (правое крыло и проходная). Июнь 2018

МГТУ им. Баумана. Слободской дворец. Июнь 2018

МГТУ им. Баумана. Слободской дворец. Июнь 2018

МГТУ им. Баумана. Слободской дворец. Июнь 2018

МГТУ им. Баумана. Слободской дворец. Июнь 2018

МГТУ им. Баумана. Слободской дворец.
Вид из окна лестничной клетки на центральный вход. Июнь 2018

МГТУ им. Баумана. Слободской дворец. Актовый зал
Июнь 2018

МГТУ им. Баумана. Слободской дворец. В интерьере
Июнь 2018

МГТУ им. Баумана. Слободской дворец. Парковый фасад, полуротонда
Июнь 2018
Больше фото МГТУ им. Баумана (2018)
Ксерокопия дневника получена семьей в 2016 году в ЦА ФСБ России.
Дневник был перепечатан следствием после ареста А.А., подлинник уничтожен. Всего 166 страниц машинописного текста.
Первая запись – 23 сентября 1935 г., последняя – 13 декабря 1937 г. (в ночь с 13 на 14 декабря А.А. был арестован). Более ранние дневники утрачены самим А.А., хотя, вероятнее всего, какие-то тетради уничтожены и следствием (нумерация карандашом листов перепечатки начинается с цифры 111). Отсутствуют также упоминаемые А.А. конспекты научных книг, которые он вел ежедневно, учебные тетради «Вопросов», «Наизусть» и «Для памяти», и – увы – «Тетрадь рассуждений» и «Твоческая тетрадь».
Перепечатка местами довольно небрежна: слишком частые сокращения, не согласованные окончания слов, не передано «немецкое» обыкновение А.А. писать личные местоимения с заглавной, пропуски и перестановки в тексте, иногда явные ошибки и даже бессмыслица. Многие слова заменены отточиями. Делалась разными лицами – это видно не только по разной степени разбитости машинок, но и по более важным для читателя признакам: одни и те же фамилии и аббревиатуры в одних случаях записаны верно, в других нет и пр. Заметна неосведомленность машинисток в персоналиях и названиях организаций. – Фамилии отпечатаны заглавными буквами – так это и делалось во всех официальных документах, от стенограмм партсобраний до докладных Ежова.
Что до содержания дневника, в нем обращает на себя внимание одна особенность А.А., удивительная сама по себе и в убежденном коммунистическом деятеле в частности. Это его мистическое умонастроение – заключенный им «договор с природой», согласно которому он обязуется «ростом», напряженной «работой над собой» и пр., ведет ежедневный самоотчет, подвергает себя взысканиям, повторяет и повторяет сакральные для него формулы... Дневник был в полном смысле слова личным – он велся безо всякой оглядки, даже тайной мысли о постороннем взоре или «потомстве», будь то семья или кто иной. К сожалению для биографа, это в основном не дневник событий и даже не дневник их осмыслений, а своего рода молитвенник – пожалуй, самое точное его определение. Если события и описываются, то наиболее подробно – наиболее личные или бытовые, вообще же текст на большую часть состоит из исповедей и клятв в верности «договору», как реакций на всякое тревожащее изменение в жизни, и связанных с этим вполне «эгоцентрических» просьб к нему (от «крепче нервы» до «здоровья детям, жене и мне» и «чтобы мне не было взысканий»).
Пропала, к самому большому сожалению, «Тетрадь рассуждений», о которой говорится в дневнике. Из-за того, видимо, что для размышлений существовала особая тетрадь, так не хватает разъяснения смысла сообщаемых в дневнике фактов. Кроме мистических записей об отношении к Природе, в нем чаще обнаруживаются сведения узко-интимного характера, чем общие взгляды или вынесенные жизненные уроки.
Ни одного упоминания о днях рождения своем или жены – поэтому точную дату рождения А.А., в которой я не уверен (21 августа 1892 г. – старый стиль или новый?), узнать так и не удалось. Причем дни рождения детей отмечаются и упоминаются, задолго до и после даты.
Нет упоминаний о том, при каких обстоятельствах А.А. вступил в РСДРП, и многого другого, что вообще можно было бы рассчитывать найти в дневнике.
...Вот «11-я молния» (одно из прозрений, пришедших в строго определенные день, час и минуту):
«Я избранник Твой [Природы]. Твой сын и то что мне будет суждено сделать и открыть будет за лучшие идеалы человечества. Никогда для помощи угнетению.
На мне печать Твоя. Я это чувствую и хочу чувствовать все время и особенно в минуты жизни трудные.»
Огромное честолюбие. Среди задач, которые А.А. себе ставит – «стать крупным научным работником известным СССР и заграницей, если это уже невозможно крупным общественным политическим или дипломатическим деятелем»; и все-таки «ведь не карьеры и не славу я хочу, только одно – расти».
Запись 10, от 6 декабря 1937 г. (за неделю до ареста) воспроизводящая разговор Захара Малинковича (по-видимому, агента НКВД) с А.А., в котором тот прямо обвиняет Сталина в убийстве соратников и т.д., продублирована, в ней следовательские подчеркивания. Эту запись, как исключительно показательную для характеристики А.А. и всей ситуации, я помещаю ниже (сканы и текст). Особенное внимание читателя хочу обратить на то, что Малинкович, после попадания дневника А.А. в руки НКВД, арестован не был. (А в 1941 г. убеждал жену А.А. в том, что тот якобы освобожден и имеет другую семью...)
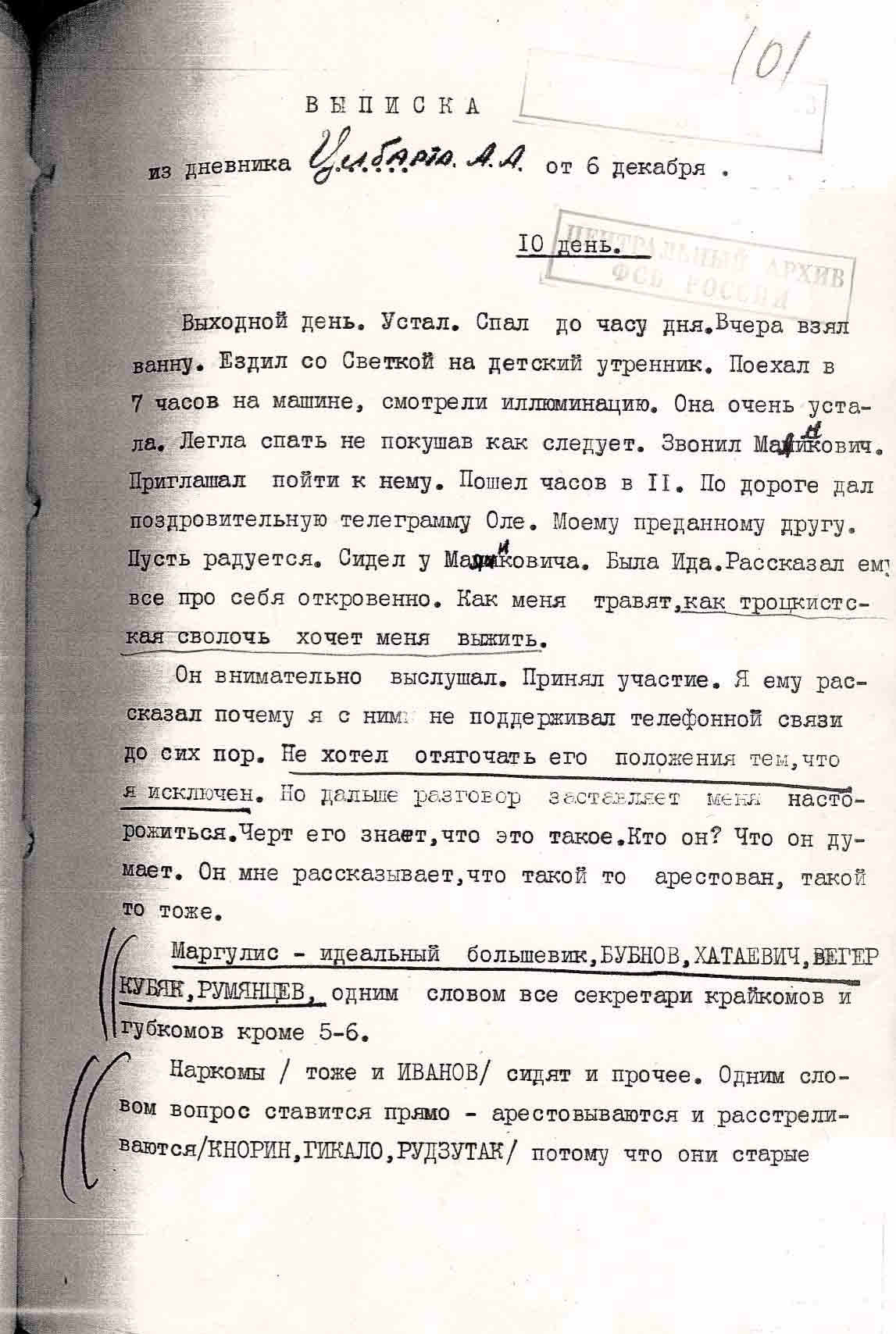
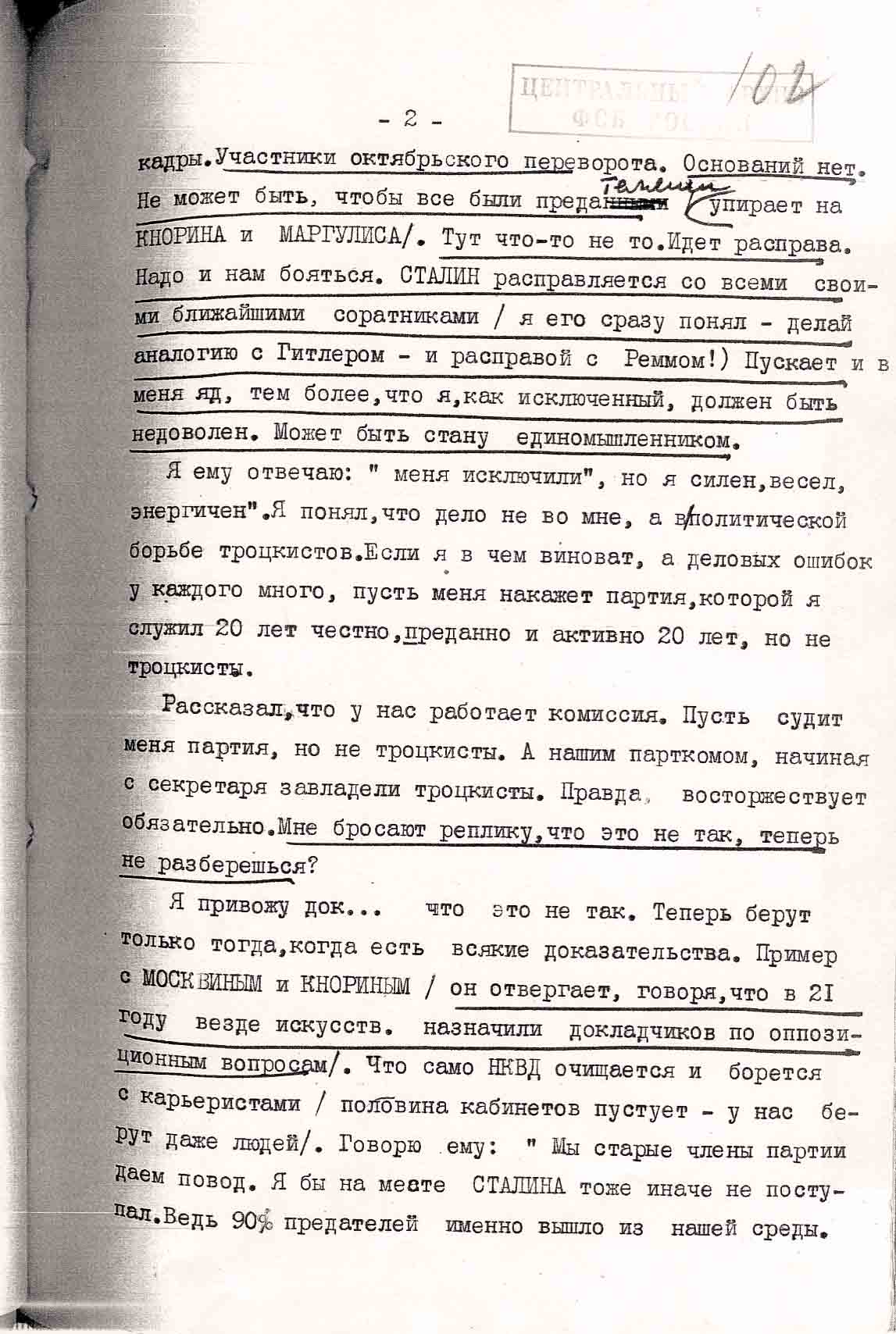
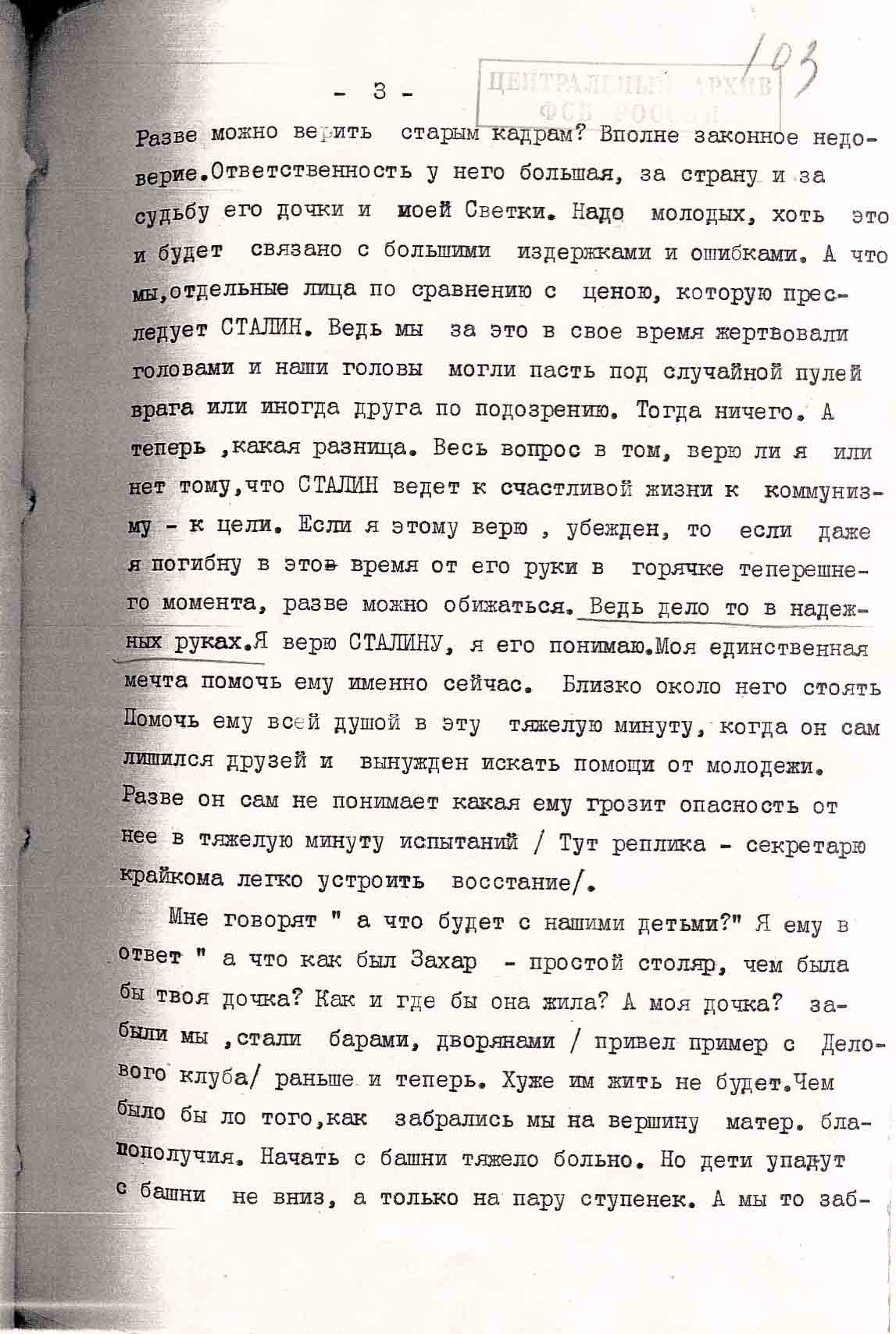
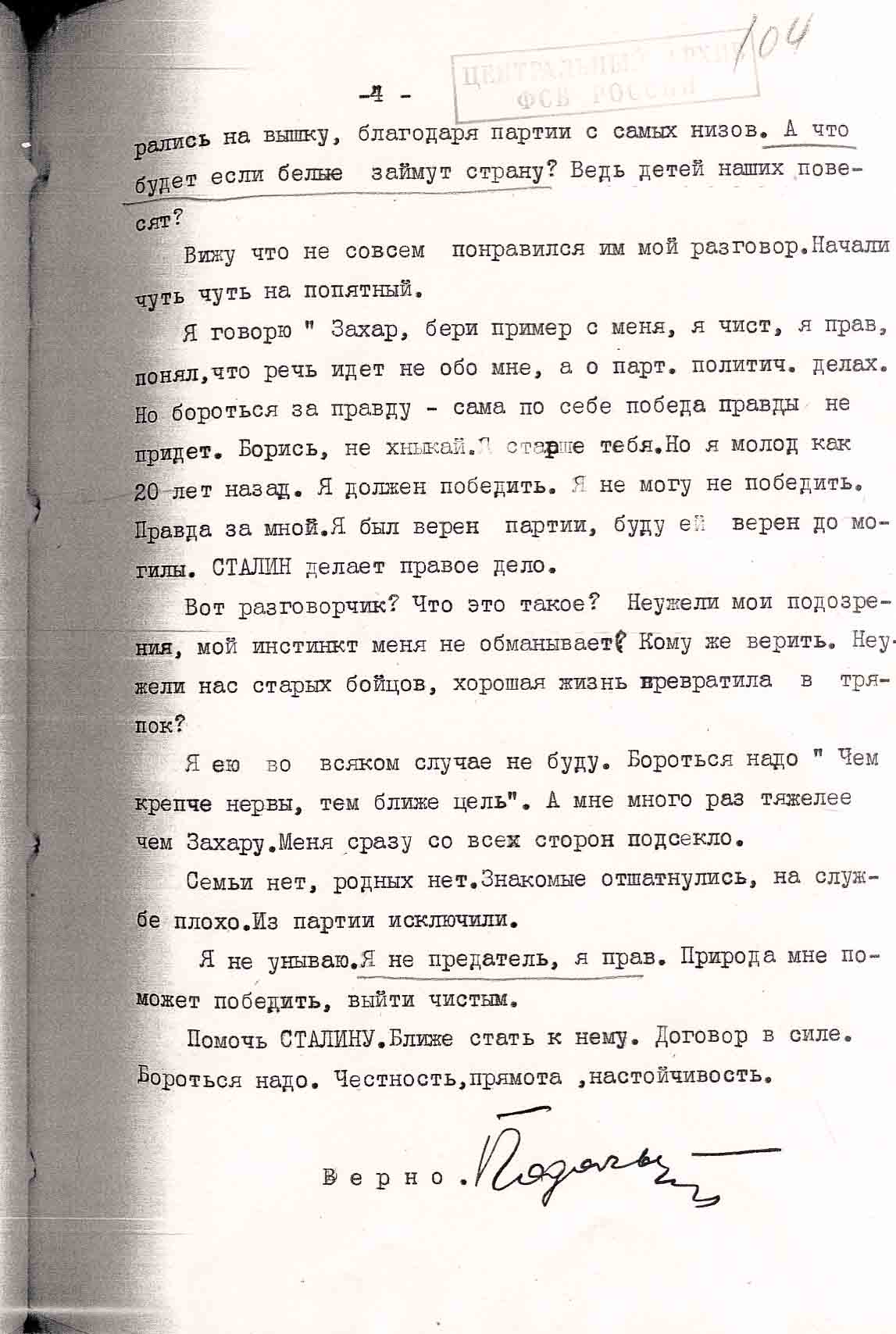
В Ы П И С К А
из дневника Цибарта А.А. от 6 декабря <1937 г.>
10 день.
Выходной день. Устал. Спал до часу дня. Вчера взял ванну. Ездил со Светкой на детский утренник. Поехал в 7 часов на машине, смотрели иллюминацию. Она очень устала. Легла спать не покушав как следует. Звонил Малинкович. Приглашал пойти к нему. Пошел часов в 11. По дороге дал поздравительную телеграмму Оле. Моему преданному другу. Пусть радуется. Сидел у Малинковича. Была Ида. Рассказал ему все про себя откровенно. Как меня травят, как троцкистская сволочь хочет меня выжить.
Он внимательно слушал. Принял участие. Я ему рассказал почему я с ним не поддерживал телефонной связи до сих пор. Не хотел отягощать его положения тем, что я исключен. Но дальше разговор заставляет меня насторожиться. Черт его знает, что это такое.
Кто он? Что он думает. Он мне рассказывает, что такой то арестован, такой то тоже. Маргулис - идеальный большевик, БУБНОВ, ХАТАЕВИЧ, ВЕГЕР, КУБЯК, РУМЯНЦЕВ, одним словом все секретари крайкомов и губкомов кроме 5-6.
Наркомы (тоже и ИВАНОВ) сидят и прочее. Одним словом вопрос ставится прямо - арестовываются и расстреливаются (КНОРИН, ГИКАЛО, РУДЗУТАК) потому что они старые кадры. Участники октябрьского переворота. Оснований нет. Не может быть, чтобы все были преда<телями> (упирает на КНОРИНА И МАРГУЛИСА). Тут что-то не то. Идет расправа. Надо и нам бояться. СТАЛИН расправляется со всеми своими ближайшими соратниками (я его сразу понял - делай аналогию с Гитлером - и расправой с Реммом!) Пускает и в меня яд, тем более, что я, как исключенный, должен быть недоволен. Может быть стану единомышленником.
Я ему отвечаю: "меня исключили", но я силен, весел, энергичен". Я понял, что дело не во мне, а в политической борьбе троцкистов. Если я в чем виноват, а деловых ошибок у каждого много, пусть меня накажет партия, которой я служил 20 лет честно, преданно и активно 20 лет, но не троцкисты.
Рассказал, что у нас работает комиссия. Пусть судит меня партия, но не троцкисты. А нашим парткомом, начиная с секретаря завладели троцкисты. Правда восторжествует обязательно. Мне бросают <Малинкович> реплику, что это не так, теперь не разберешься [в ист.: не разбираются]? Я привожу док<азательства> что это не так. Теперь берут только тогда, когда есть всякие [в ист.: веские] доказательства. Пример с МОСКВИНЫМ и КНОРИНЫМ (он отвергает, говоря, что в 21 году везде искусств. назначили докладчиков по оппозиционным вопросам). Что само НКВД очищается и борется с карьеристами (<Малинкович отвечает:> половина кабинетов пустует - у нас берут даже людей). Говорю ему: "Мы старые члены партии даем повод. Я бы на месте СТАЛИНА тоже иначе не поступал. Ведь 90% предателей именно вышло из нашей среды. разве можно верить старым кадрам? Вполне законное недоверие. Ответственность у него большая, за страну и за судьбу его дочки и моей Светки. Надо молодых, хоть это и будет связано с большими издержками и ошибками. А что мы, отдельные лица по сравнению с ценою, которую преследует СТАЛИН. Ведь мы за это в свое время жертвовали головами и наши головы могли пасть под случайной пулей врага или иногда друга по подозрению. Тогда ничего. А теперь, какая разница. Весь вопрос в том, верю ли я или нет тому, что СТАЛИН ведет к счастливой жизни к коммунизму - к цели. Если я этому верю, убежден, то если даже я погибну в это время от его руки в горячке теперешнего момента, разве можно обижаться. Ведь дело то в надежных руках. Я верю СТАЛИНУ, я его понимаю. Моя единственная мечта помочь ему именно сейчас. Близко около него стоять. Помочь ему всей душой в эту тяжелую минуту, когда он сам лишился друзей и вынужден искать помощи от молодежи. Разве он сам не понимает какая ему грозит опасность от нее в тяжелую минуту испытаний (Тут реплика - секретарю крайкома легко устроить восстание).
Мне говорят <Малинкович с супругой> "а что будет с нашими детьми?" Я ему в ответ "а что как был Захар <Малинкович> - простой столяр, чем была бы твоя дочка? Как и где бы она жила? А моя дочка? забыли мы, стали барами, дворянами (привел пример с Делового клуба) раньше и теперь. Хуже им жить не будет. Чем было бы до того, как забрались мы на вершину матер. благополучия. Начать <падать?> с башни тяжело больно. Но дети упадут с башни не вниз, а только на пару ступенек. А мы то забрались на вышку, благодаря партии с самых низов. А что будет если белые займут страну? Ведь детей наших повесят?
Вижу что не совсем понравился им мой разговор. Начали чуть чуть на попятный.
Я говорю "Захар, бери пример с меня, я чист, я прав, понял, что речь идет не обо мне, а о парт. политич. делах. Но бороться за правду - сама по себе победа правды не придет. Борись, не хныкай. Я старше тебя. Но я молод как 20 лет назад. Я должен победить. Я не могу не победить. Правда за мной. Я был верен партии, буду ей верен до могилы. СТАЛИН делает правое дело. Вот разговорчик? Что это такое? неужели мои подозрения, мой инстинкт меня не обманывает? Кому же верить. Неужели нас старых бойцов, хорошая жизнь превратила в тряпок?
Я ею во всяком случае не буду. Бороться надо. "Чем крепче нервы, тем ближе цель". А мне много раз тяжелее чем Захару. Меня сразу со всех сторон подсекло.
Семьи нет, родных нет. Знакомые отшатнулись, на службе плохо. Из партии исключили.
Я не унываю. Я не предатель, я прав. Природа мне поможет победить, выйти чистым.
Помочь СТАЛИНУ. Ближе стать к нему. Договор в силе. Бороться надо. Честность, прямота, настойчивость.
В е р н о /автограф следователя – Подольского/
По следующей ссылке – текст Дневника. Сокращения, касающиеся личных обстоятельств, составляют менее десятой части объема дневника.
А.А. Цибарт. Дневник 23.IX.1935 – 13.XII.1937
В ноябре 2014 г. в бумагах дочери Адольфа Августовича Эльфриды Адольфовны Абелевой найдено 17 его писем из лагеря в Магадане: к Марии Иосифовне (его жене) и детям Эльфриде и Светлане (Эле и Свете), письмо к его знакомой по институту Клавдии Дмитриевне Буренковой (Клаве) и не дошедшую до адресата записку к Анатолию Николаевичу Зайцеву (в 1937 г. зав. издат. комбинатом МММИ, пом. прокурора Первомайского р-на Москвы), вложенную в письмо к Эльфриде. Писем всего периода 1938–1942 гг., то есть назначенного срока заключения, среди них нет. (Эти письма, вместе с «главной» фотографией А.А. времени его директорства, были затеряны в конце 1980-х при непонятных обстоятельствах, причем именно при попытке их сохранить для истории этого периода страны, сталинизма и ГУЛАГа.) Поэтому никаких подробностей о жизни А.А. в лагере периода до окончания срока его заключения согласно приговору, у меня (А.Г.А.) нет. Первые сохранившиеся письма из лагеря, видимо в одном конверте, к старшей дочери Эле и младшей Свете, датированы 8 июля 1943; последнее, к дочери Эльфриде – 23 марта 1946 года. Кроме писем, в этих бумагах имеются постановление Верховного суда о реабилитации А.А. от 19 сентября 1957 года и странное свидетельство о смерти (полученное, очевидно, в силу какой-то формальной необходимости уже после потери всякой информации об А.А.), в котором в графе «причина смерти» указано, что Цибарт Адольф Августович «признан умершим» (то есть не определенно «умер») 17 декабря 1963 года и место его смерти «неизвестно».
Из писем выясняется, что по окончании срока заключения, которое должно было наступить 14 декабря 1942 года (5 лет со дня ареста в 1937 году), Адольфа Августовича не освободили, а «дали расписаться», что он не будет выпущен из лагеря «до конца войны». Причины этого не пояснили (с 23 июня 1942 года действовала секретная инструкция НКВД, согласно которой некоторые категории политзаключенных не освобождались «до особого распоряжения»). А.А. было ясно, что это связано с его национальностью, а также с потребностью Дальстроя, где работали заключенные-инженеры, в специалистах. Но и после окончания войны А.А. освобожден не был. Работал он все это время, как он пишет, «по специальности на исследовательской и расчетной работе по теплотехнике, холодильному делу и вечной мерзлоте» – инженером в Конструкторском бюро (адрес: г. Магадан Хабаровского края, конструкторское бюро Дальстроя, Сталинская 5). «По специальности я инженер механик по теплотехнике (котлы, двигатели, станции)». «Работаю главным образом по теоретическим и рассчетным вопросам. Даю техническую экспертизу по разным вопросам, консультации другим инженерам и проч. По роду службы приходится много читать, хотя выбор книг здесь очень ограничен»... Был на хорошем счету, «все время я двухсотник» (т.е. выполнял двойной план). Жить он продолжал в холодном продуваемом бараке на 40 человек «на верхней наре», на работу и с работы ходил под конвоем, питался «за общим столом» (жидкая баланда и 600 граммов хлеба), имелся оклад (90 руб. в месяц против 1650–2200 вольнонаемного) и «отпуск» – 14 дней без работы в том же бараке. В город не выпускали, ничего для себя купить в городе было нельзя. За годы заключения (на дату последнего из найденных писем – почти 9 лет вместо определенных пяти) А.А. стал инвалидом («сильный порок сердца и цинга», здоровье его было «сведено почти к нулю», не раз болел воспалением легких, в марте 1945 года так тяжело, что «уже приготовился к смерти» и сообщил товарищу адрес семьи...). В редких случаях «пересидчиков», осужденных за «КРД» (контрреволюционную деятельность), за хорошие «производственные показатели» освобождали даже еще до конца войны с высокими назначениями – как напр. в случае крупного энергетика Флаксермана, – либо переводили на «материк» с условием продолжения работы в Дальстрое в качестве инженеров-вольнонаемных; кандидатом на такое освобождение был и Цибарт, но, как он и предполагал, свершиться этому было не суждено. (В письме от 23.03.1946: «тут у нас уже уже 2 месяца как была поднята кампания со стороны начальства об освобождении тех пересидчиков за которых будет ходатайство производства как о лучших работниках. И я попал в этот список. Готовился со дня на день к освобождению. Говорили что вот-вот свершится. И так в этом громадном нервном возбуждении прошло два месяца, а воз и ныне там. Ох как изматывает это ожидание, этот переход от надежды к отчаянию!! Главное, что и до сих пор об этом говорят, что это должно совершиться, так что искорка надежды теплится где то под спудом. Такие освобождения делались и до сих пор и год и 2 и 3 тому назад. Начальнику Дальстроя дано право и своей властью освобождать пересидчиков за хорошие производ. показатели с условием закрепления их за Дальстроем. Но это право почти не использовалось и если иногда освобождали то это были единицы, вокруг которых поднимали большой шум и вся эта мера имела лишь символическое значение. Из многих сотен представленных освобождали лишь 2-3 человек и почти никто из нас не замечал этого. Могу ли я после этого надеяться, что попаду в число счастливцев?!».) Сразу после войны А.А. оценивал возможность освобождения более оптимистично (письмо к семье от 27.07.1945): «на моих глазах все время происходят случаи когда НКВД вызывает поодиночке, а то и пачками специалистов в Москву, там их освобождает и дает назначения. Такие вызовы (телеграфные) адресованные в Дальстрой обычно подписывает Зам. Наркома НКВД – Завенягин. Теперь специалисты очень нужны»... Так или иначе, в число «счастливцев» А.А. не попадает, меж тем, пишет он, «если бы не дети и не мои обязанности к ним я бы давно покончил счеты с жизнью»... Перевести для работы на «материке», хоть и без освобождения и на любую лагерную работу, могли также еще и больных. Но до А.А. и эта очередь очередь не доходила. «Климат здешний настолько вреден для меня, что и сами врачи меня признали подлежащим отправке на "материк", но в отношении специалистов существуют особые положения. Одна партия больных уже уехала, но меня в первую партию не взяли. Может быть увезут во вторую или в третью партию, а может быть совсем не возьмут! На это я мало надеюсь.» «Больше 2-3 лет я здесь не выживу», «ты <М.И.> не знаешь, как здесь жутко»... Когда же наконец А.А. было предложено, в декабре 1945 года, переправиться для продолжения отбывания заключения на «материк», он вынужден был отказаться, поскольку не вынес бы зимней переправки по морю, последующих этапов и пересылок, а также общих работ вместо работы инженера. При этом он мог только надеяться, что его в результате вовсе не исключили бы из списков переводимых из Магадана.
Замечу, что у А.А. были особые основания не скрывать от семьи эту правду. Если в июле 1944-го А.А., не желая беспокоить жену, пишет о себе «по военным временам живу неплохо», «здоров», «неважно только с сердцем», то после конца войны говорит о своем реальном физическом состоянии и условиях лагерного существования прямо. И дело не только в том, что А.А. таким образом побуждал семью обратиться в разные инстанции за помощью в вызове. Было жизненно необходимо развеять одну большую и губительную для семьи ложь, запущенную самое позднее до апреля 1942 года, несомненно, по линии НКВД.
А именно, как это окончательно выяснилось для А.А. лишь летом 1945 года, жена Мария Иосифовна еще до окончания назначенного срока была «кем-то введена в заблуждение», что он якобы освобожден, «получил хорошее место и высокое жалованье», видимо и жилье, а также имеет «связь», т.е. другую семью. Уверенность жены и старшей дочери в этом была такова, что, когда их сосед по квартире, подселенный к ним некий инженер М., мошенническим путем выселил семью из квартиры (зима 1943–1944 г.), они обратились телеграфом к А.А. с просьбой о помощи и даже предложением взять к себе младшую дочь Свету. Подоплека столь странного предложения оставалась для А.А. совершенно непонятной... Что до «связи», то о ней я (А.Г.А.) в самой определенной форме однажды услышал от бабушки (Марии Иосифовны), – так ей категорически, если не сказать грубо, заявил друг А.А. еще с гомельского периода Малинкович (крупный промышленный чиновник, начальник Главзапбумпрома (Главного управления целлюлозно-бумажной промышленности западных районов) Наркомлеспрома СССР, имевший, как явствует из писем А.А., прямое отношение к НКВД). Видимо, разрушая семью и пытаясь таким образом отрезать пути к возврату домой, в НКВД рассчитывали побудить А.А., квалифицированного инженера, остаться работать в Дальстрое. Эта ложь в значительной мере своей цели достигла. Мария Иосифовна даже прерывала переписку, видимо, в силу своего характера безо всяких объяснений. В этот период писали больше дочери, в особенности 10-12-летняя Света (за что А.А. был ей бесконечно благодарен). Старшая писала скупо, и в особенности мало, как кажется, она сообщала что-либо о матери (видимо такой была воля М.И.)... Адольф Августович, в недоумении и худших подозрениях, вынужден был узнавать подробности о жизни семьи от других людей. В частности, это была коллега А.А. по институту Клавдия Дмитриевна Буренкова (в письме «Клава»), горькое письмо к которой оказалось среди найденных семейных писем, от 19 октября 1944 г. К этой дате жена не писала (или почти не писала) уже полтора года. В конце концов Буренкова узнала от самой М.И. о навете Малинковича и сообщила об этом А.А. (письмо с этой информацией пришло А.А. лишь в июне 1945 г.). Незадолго до этого и старшая дочь А.А. высказала в письме предположение о его возможной «более поздней привязанности» и даже о том, что он, вероятно, сам «не захочет вернуться» – и А.А., несмотря на потрясение (предположение это он назвал диким и чудовищным), был благодарен ей за откровенность, за то, что получил наконец возможность объясниться с женой и выросшей дочерью... Понятно, что все это приводило А.А. в настоящее отчаяние. Сначала он видел непостижимое охлаждение к себе родных, затем ему приходилось доказывать, что ничего похожего на «освобождение», «хорошее жалование» и «связь» нет и не может быть, приходилось напоминать о своих естественных чувствах к родным и ответственности перед ними, прямо характеризовать те лагерные условия, в которых он продолжал существовать... Итак автором или проводником этой клеветы был давний друг Адольфа Августовича и вхожий в семью Захар Малинкович. Уже после того, как обман вскрылся, А.А. снова просил жену обратиться к нему за помощью в освобождении (вызове для работы на материк), уверял ее, что «человек он отзывчивый и добрый», «он был моим другом». Малинкович был в силах помочь («замолвить словечко»), поскольку, как предполагал А.А., должен был хорошо знать А.П. Завенягина и работал «там же, где Егоров Сергей Егорович». (Завенягин – с 1941 г. зам. наркома внутренних дел, руководивший промышленно-строительными структурами НКВД; Егоров – с 1939 г. зам. начальника Дальстроя НКВД). Видимо, А.А. верил или надеялся, что Малинкович сам был кем-то обманут, либо говорит то, что его вынуждают говорить, но это не помешает ему заступиться за А.А. на личном уровне... Но еще в апреле 1942 года Малинкович, призванный на фронт, пропал без вести. А в августе 1945 года дочь Эльфрида извещает отца срочной телеграммой, что Малинкович «умер».
В этой же телеграмме дочь сообщает, как пишет А.А., что семья обратилась к помощи Анатолия Николаевича (Зайцева – в 1937 г. заведующего издательским комбинатом МММИ). Записка А.А. к нему была вложена в ответное письмо от 31 августа 1945 г. к Эльфриде, т.к. А.А. не имел его адреса и был «не уверен, будет ли полезно и допустимо непосредственное обращение к нему». В этой записке А.А. в т.ч. пишет: «во мне Анатолий ты не ошибся, когда в последние дни перед расставанием на многие годы так горячо и честно совершенно в единственном числе выступал и боролся. Ты шел всегда честно и прямо, шел напролом не боясь опасностей. ... Я остался тем же кем и был и тебе не придется краснеть за оказанную помощь.» Однако эта записка так и находится в письме к Эльфриде – личная встреча с Анатолием Николаевичем, по неизвестным мне причинам, по-видимому не состоялась. Анатолий Николаевич, как упомянуто в предпоследнем письме А.А. к дочери 13.03.1946, ничего для А.А. не сделал.
Между тем жизнь в лагере становилась для А.А. все более невыносимой. Вот отрывок из письма к старшей дочери этого периода – о лагерных выходных:
«...Не знаешь куда деваться, с кем забыться за разговором или партией шахмат. Бродишь, бродишь внутри ограды зоны лагеря взад и вперед один, погруженный в тяжелые думы о доме, о детях, о их жизни и лишениях. Сидишь как зверь в зоологическом саду, без клетки, но за глубоким рвом. Мысленно видишь свой дом, родные места и людей, но выпрыгнуть не можешь. Есть только один человек, с которым часто коротаешь время. Это профессор Ленинградского инст. Путей Сообщения Шк... <О ком речь, выяснить не удалось – А.Г.А.> Он такой же одинокий и замкнутый как и я. Никто и ничто нам здесь не мило. Люди большей частью противны, они настолько портятся, что, как волки, готовы перегрызть друг другу горло и погубить другого, если им хоть малейшая польза. Сама суровая природа располагает к бессердечию, эгоизму, жестокости, да и большинство людей в прошлом не отличались <хорошими> качествами: все-таки уголовные преступники – воры, убийцы, бандиты и проч. Самые счастливые, которым все завидуют, это инвалиды и серьезно больные, так как они имеют хоть маленький шанс на то, что их повезут на материк. ...» (13 июля 1945 г.)
(Кроме упомянутого в этом письме профессора Шк., А.А. познакомился в лагере также с известным энергетиком и администратором Ю.Н. Флаксерманом, освобожденным по вызову Завенягина в 1945-м году для строительства «крупной станции в Эстонии».)
Однако Адольф Августович и в этих условиях думает не только о выживании: «много работаю над собою в области науки, чтобы хоть частично восполнить пробел за время моего администрирования» (эту работу он начал еще в 1936 году, в бытность директором). А.А. почти не сомневался, что после освобождения ему не разрешат «сразу» вернуться в Москву. Надеялся найти работу «где-нибудь на материке», «в любом месте СССР», и получить возможность поддерживать семью материально. Писал, для передачи тем, кто мог бы похлопотать за него, что мог бы работать на «преподавательской или учебной работе», или «в каком-нибудь исследовательском институте», «в лаборатории на заводе или институте», на производстве «по специальности, т.е. теплотехнике (на паровозный, котельный, локомобильный или турбинный завод, на электростанцию или заводским механиком, на железн. дорогу, по холодильному делу и проч.)». – Несмотря на посеянный, вернее усугубленный Малинковичем разлад в отношениях, он постоянно беспокоился о жене и детях, обо всей родне (и тех, кто остался в Польше, и о матери жены и ее братьях Петре и Александре, о ее племяннике Косте, которого М.И. вынуждена была воспитывать на время заключения брата и потери его матери, о ее племяннице Тане и другой племяннице «любимице Наташе» и других). При каждом добром знаке, в переписке, со стороны жены или дочерей готов был забыть все недоразумения и обиды. Был счастлив, когда старшая дочь поступила на биофак МГУ. Послал семье скопленные себе на гражданскую одежду на случай освобождения 340 рублей (и они были почтой затеряны)…
Интересный отрывок из письма к дочери Эльфриде (Магадан 12 июня 1945 г.), где он говорит, в частности, о своих научных интересах и настоящем призвании:
«...Пускай ничто больше не разделяет нас в жизни. Будем дальше не только как отец и дочь, но как близкие друзья. И почва общая у нас есть. Это любовь к науке. Я очень доволен что ты избрала своим будущим поприщем в жизни – биологию. Если бы я был дома в то время, когда ты еще выбирала, я посоветовал бы тебе физику или биологию, но никак не технический ВУЗ. И вот случайно ты выбрала именно то, о чем я думал и чего тебе желал. И на самом факультете избрала наиболее интересную и богатую в смысле научных перспектив специальность <генетику – А.Г.А.>. Лучшей специализации для родной дочери и во сне пожелать не могу. Судя по тому упорству и настойчивости, как ты взялась в тяжелых условиях жизни за работу – из тебя выйдет крупный научный работник. (Кстати напиши как построен ваш факультет, какие в нем специализации, уклоны и кафедры. Интересно бы знать и фамилии вашей профессуры, ведь я со многими встречался в Доме ученых и Ученом совете Наркомпроса). С биологией я мало знаком, в моем представлении это таинственная и очень увлекательная наука о жизни и ее развитии. У меня биология ассоциируется с именами Бельше <Вильгельм Бельше, автор книги "Происхождение человека. Будущность человечества" – А.Г.А.>, Мечникова, Дарвина, Павлова. Все что есть популярное я всегда глотал, как интересную художественную литературу и получал обильную пищу для ума, воображения и фантазии. Часто жалел о том, что в молодости не пошел по биологии. Я пошел по технической специальности – по теплотехнике, но и здесь по свойственной мне особенности я уходил все глубже в область теории (а на практике на сегодня любимыми моими науками являются: математика, физика /и особенно ее область термодинамика, гравитация электричество/ и физическая химия). И вот в тебе я уже с молодых лет вижу эту же самую тягу к науке, какая меня в молодые годы погнала из далекой Польши в Москву, чтобы учиться в самом лучшем учебном заведении. Мне не удалось остаться во ВТУЗе после окончания его для научной работы. Меня захлестнула война и революция. Я ушел от своего призвания далеко в сторону, но никогда не теряю надежды на то, что еще вернусь на свой путь, куда меня всё влечет какая-то неведомая сила. У тебя положение пока лучше, хотя материально оно так же плохо как было у меня (я зарабатывал на питание уроками). ...»
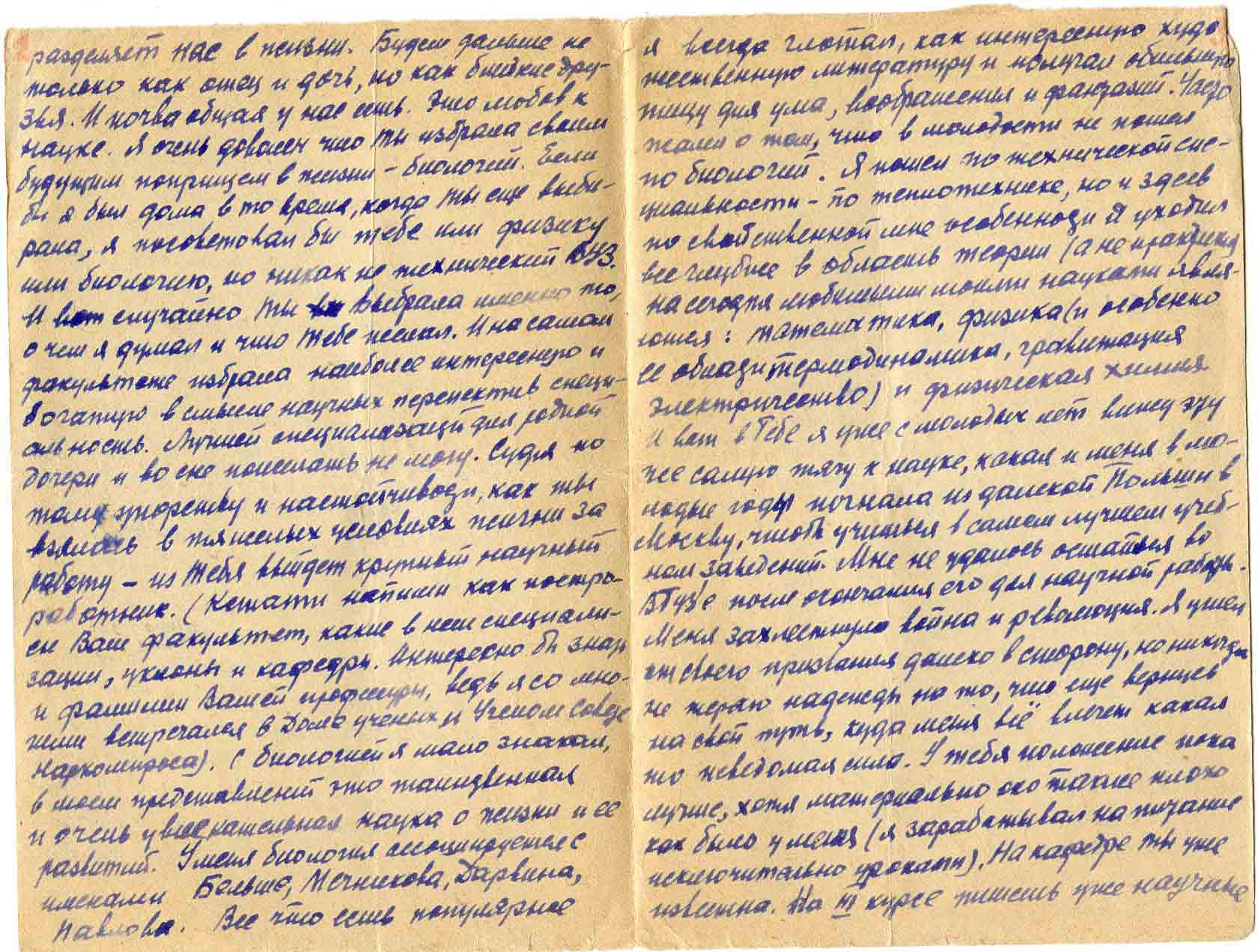
Еще отрывок из этого письма – то же обращение к дочери:
«...Биология как и медицина построены на богатом экспериментальном материале, имеются и некоторые научные обобщения и законы, но прочной математической и физико-химической основы еще нет, особенно в свете новейших теорий. Если хочешь быть в своей области ученым и внести в науку новое, капитальное нужно теперь же подготовиться в части точных и физических наук. Рекомендовал бы на первых порах начать со следующего:
1. Грэнвиль и Лузин. Курс диффер. и интегр. исчисления. 2 тома. Написан очень понятно, но не снижается до популяризации.
2. Раковский. Физическая химия. Очень хорошая книга для университетов. Есть на эту тему книга еще лучше: Эйкен. Физическая химия и химическая физика. Но она очень объемна и трудно переваривается.
3. Роберт Поль. Введение в электричество. Популярная книга. Оригинально и интересно написана.
Как хорошо Элечка было бы, если бы я скоро вернулся к Вам и мы опять зажили одной дружной семьей. Я помог бы обрабатывать твои материалы с точки зрения математики, физики и языков. А тут глядишь и я заразился бы от дочки и сам занялся наукой. Тут я нашел бы свою настоящую полочку в жизни. Все еще надеюсь что мечты моей жизни осуществятся и свою жар-птицу еще поймаю. ...»
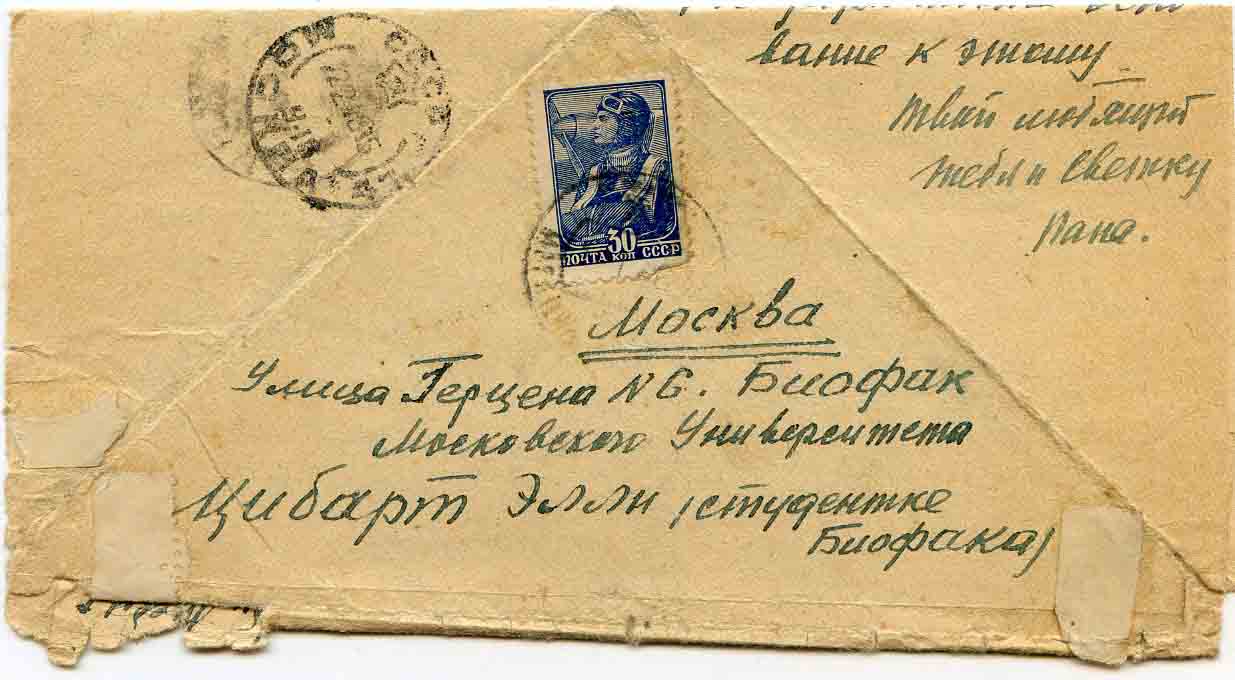
Итак, последнее известие от А.А., которым наша семья располагает – письмо из лагеря в Магадане от 23 марта 1946 года, когда он еще надеялся на освобождение. Впрочем, и это и предыдущее, написанное за неделю, письма уже свидетельствуют о сознании А.А. своей обреченности, о чем он говорит и прямо: «пока твой отец – обречен». «Может быть придется еще долго ждать; может быть мне еще придется умереть, что и могилы моей не сыщешь». «Надеждами я себя уже никакими не утешаю. Мне видно здесь могила и Вас родных любимых дорогих детей и жены мне больше не видать. Но пока я жив, пока еще хоть немного бьется сердце я буду жить только мыслью о Вас, сознанием, что меня все-таки любят двое невинных чистых существ вопреки всему миру. Не забывайте меня – ваши письма единственное для меня утешение в оставшейся мне жизни. Но если связь с отцом может причинить Тебе неприятности или компрометировать, брось меня, думай о себе, только о себе, Твоя жизнь вся впереди, а я мертвец. Я то теперь все равно знаю, что вы меня любите.» «Родная Элечка, маленькая дорогая Светка! Шлю Вам свое благословение. Желаю Вам счастья в жизни. Берегите маму и бабушку. Они одни Вам остались в этом мире. Я вас крепко, крепко люблю. Вами только живу. Не питайте ко мне обиды, что так много горя из-за меня пришлось Вам перенести»... О физическом и моральном состоянии А.А. к этому времени можно судить уже только по одному факту (упомянутому выше), сообщаемому в последнем полученном письме. – А.А., за хорошие производственные показатели, по возрасту и нездоровью, был в конце концов включен в списки отправляемых работать на «материк», где климат и питание были для него не столь убийственными; но когда в декабре 1945 года очередь на отбытие из Магадана дошла до него, он был вынужден отказаться от этого шага к спасению. 12-14-дневная переправка замерзающим морем, затем этапы и пересылки, а также предстоящие общие работы вместо работы по специальности были ему уже не по силам. При этом на то, что его вовсе не исключат из списков переправляемых на «материк», ему оставалось только надеяться...
Что случилось после 23.03.1946 (в обращении Э.А. Абелевой в Верховный суд по поводу реабилитации, впрочем, сказано, что последнее письмо от А.А. пришло весной 1947 года, но такого письма не найдено) – нам не известно. На запрос в Информационный центр УМВД России по Магаданской области пришел ответ, что в 1955 году архивное личное дело А.А. Цибарта было уничтожено «в соответствии с нормативными документами тех лет» и никакими сведениями в ИЦ УМВД не располагают. Действительно, когда жена и дочери обращались за реабилитацией, то, по рассказу Светланы Адольфовны, какой-то чин вытащил при них папку с делом А.А. и тут же, ничего не пояснив, закрыл, т.к. она по видимости была пустая, и на вопрос, имеется ли какое-то свидетельство о его смерти в лагере, он определенно ответил «нет».
Ниже помещаю сканы: справка из Центрального архива ФСБ России; ответ из ИЦ УМВД России по Магаданской области; скан распоряжения Егорова о переводе 11 инженеров и в т.ч. Цибарта из упр. Колымпроект в ЦНИЛ ДС; материалы ГАРФ (процесс реабилитации – показания Петровского, обвинение и прочее); постановление Верховного суда 1957 года о реабилитации; «условное» свидетельство о смерти 1963 года (причина и место смерти, видимо и настоящая дата смерти неизвестны); два письма к жене плюс отрывки из письма к жене и письма к дочери Эльфриде; не дошедшая до адресата или не оставшаяся у него записка к Анатолию Николаевичу (Зайцеву); последние письма А.А., сохранившиеся в семейном архиве – к Эльфриде, от 16 и 23 марта 1946 года. Далее сведения о семье А.А. и два с лишним десятка семейных фотокарточек (все какие оказались пригодными для сканирования), в т.ч. с супругой Марией Иосифовной и дочерьми Элей и Светой. Материалы будут пополняться.
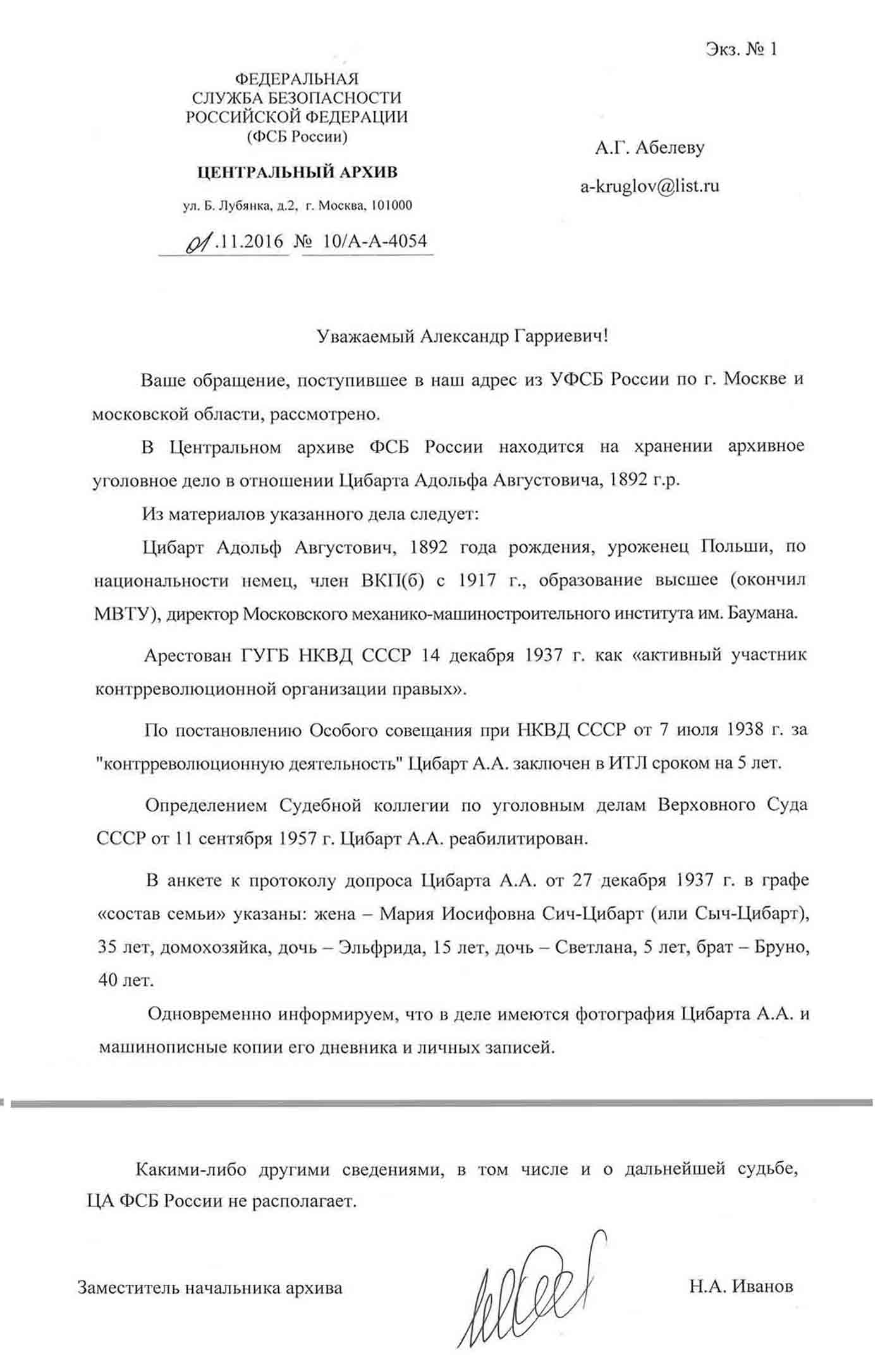
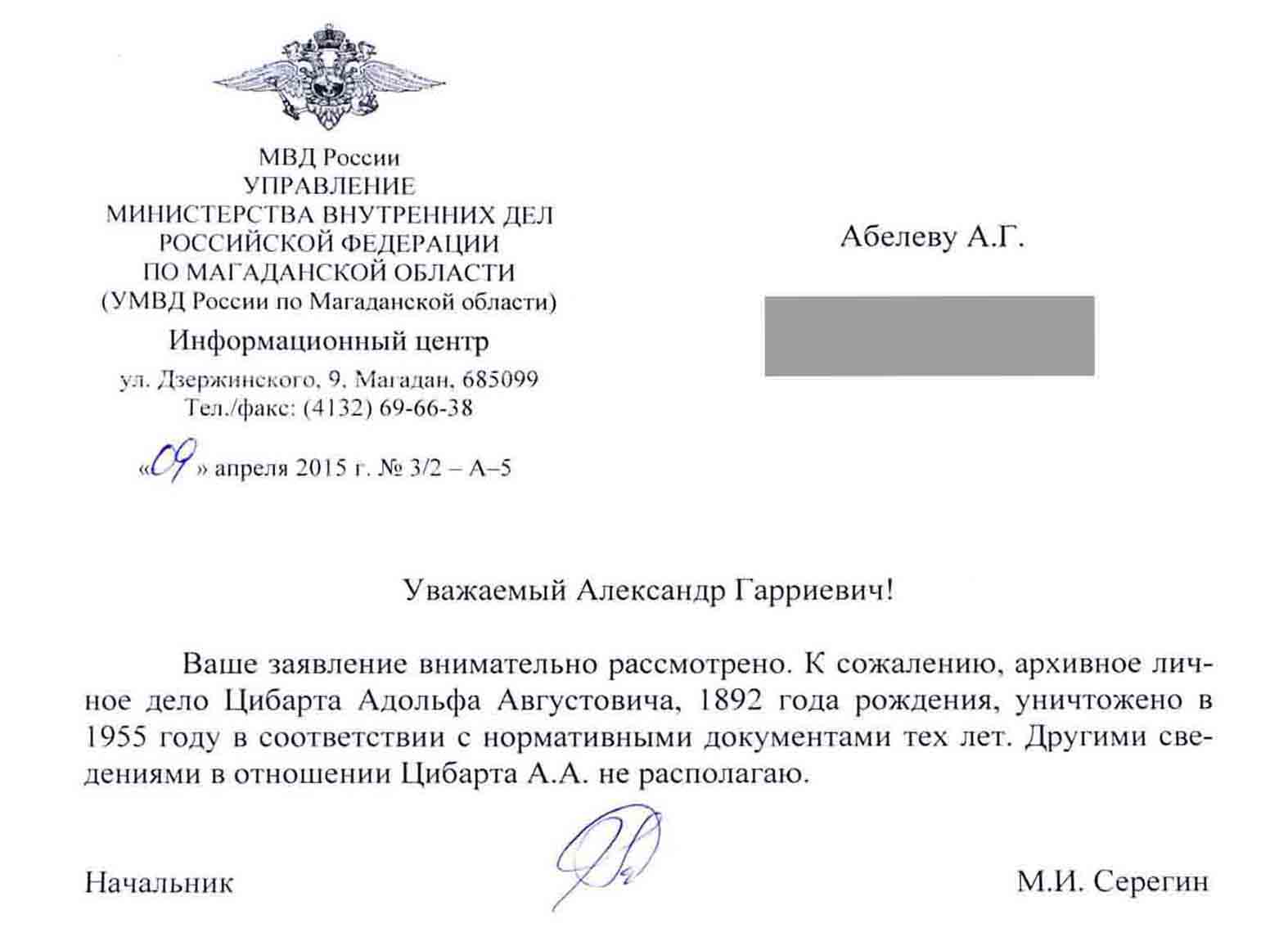
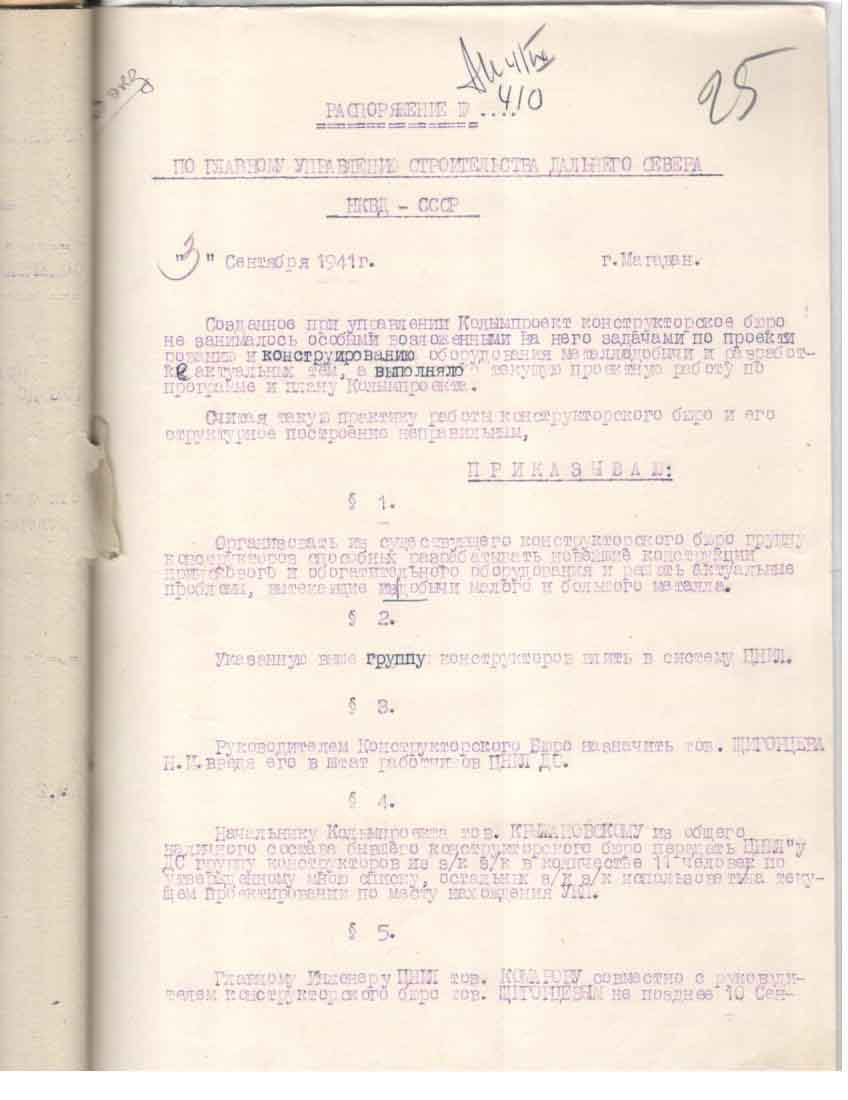
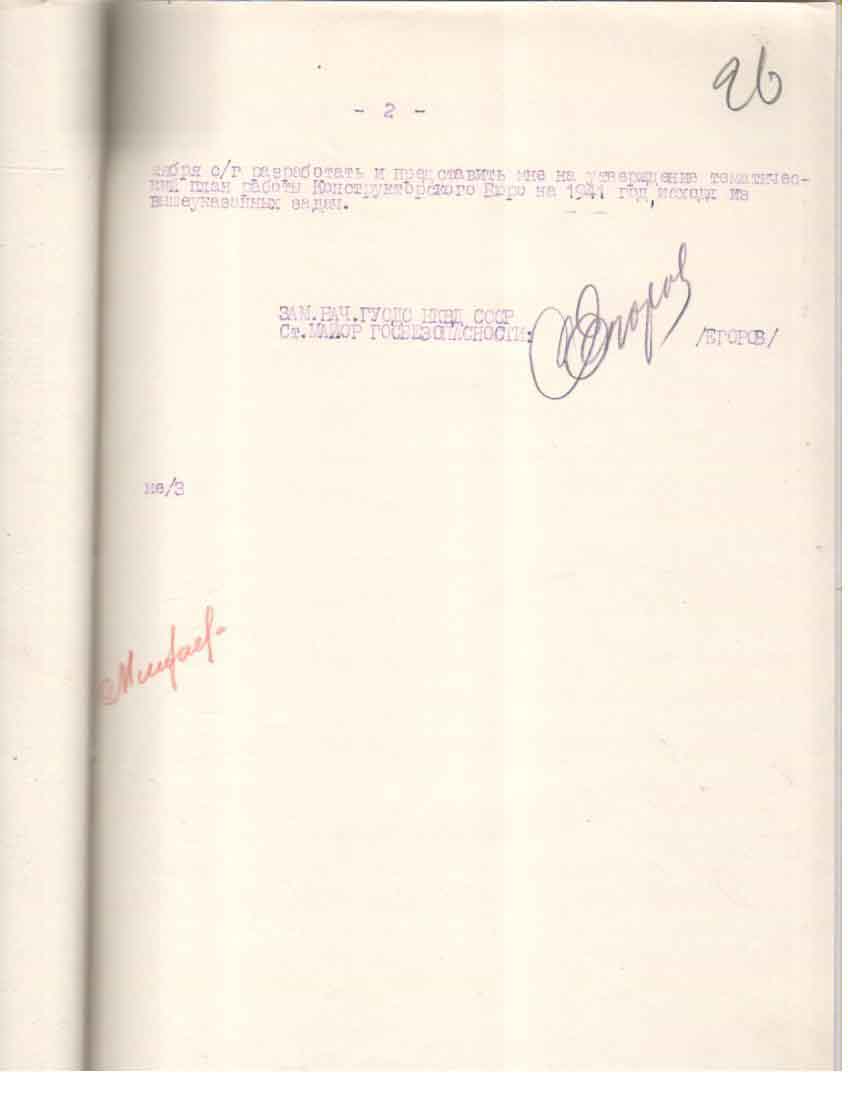
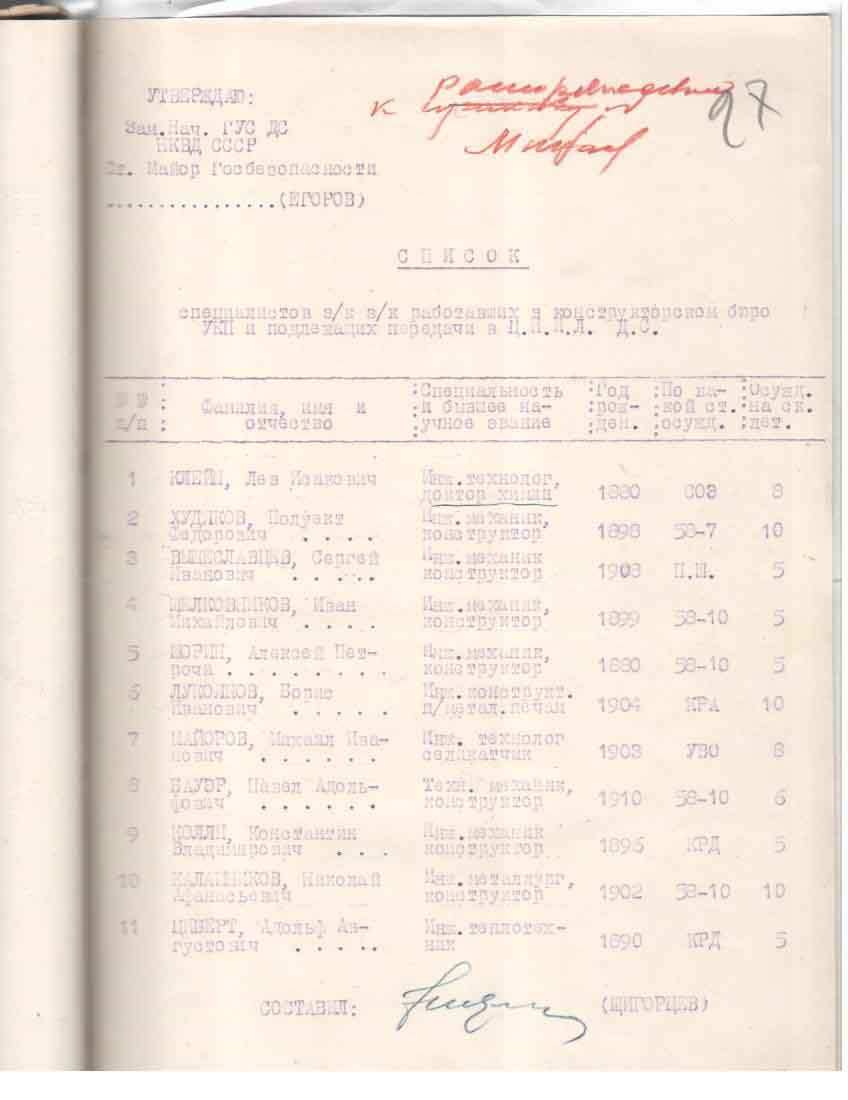
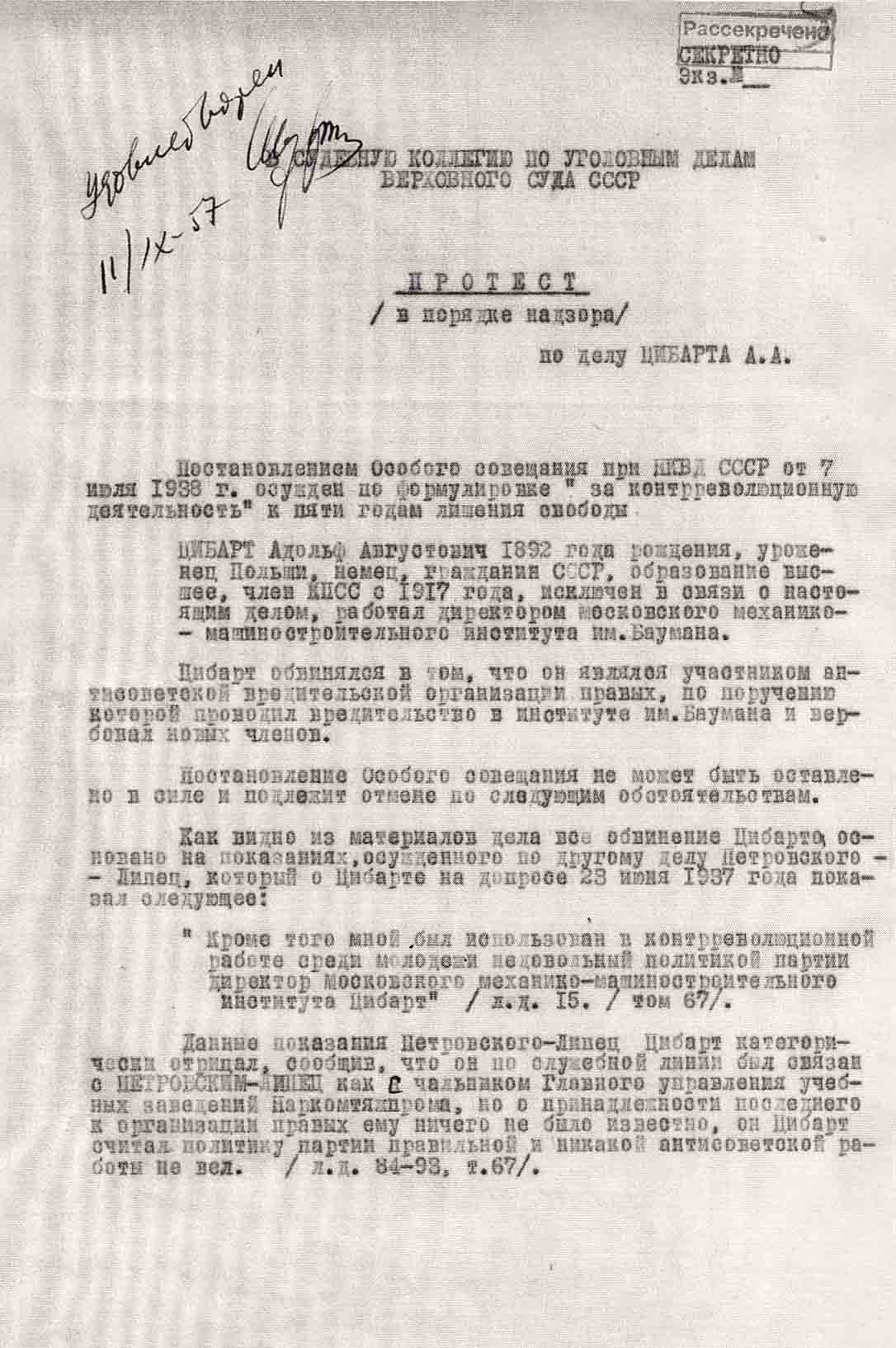
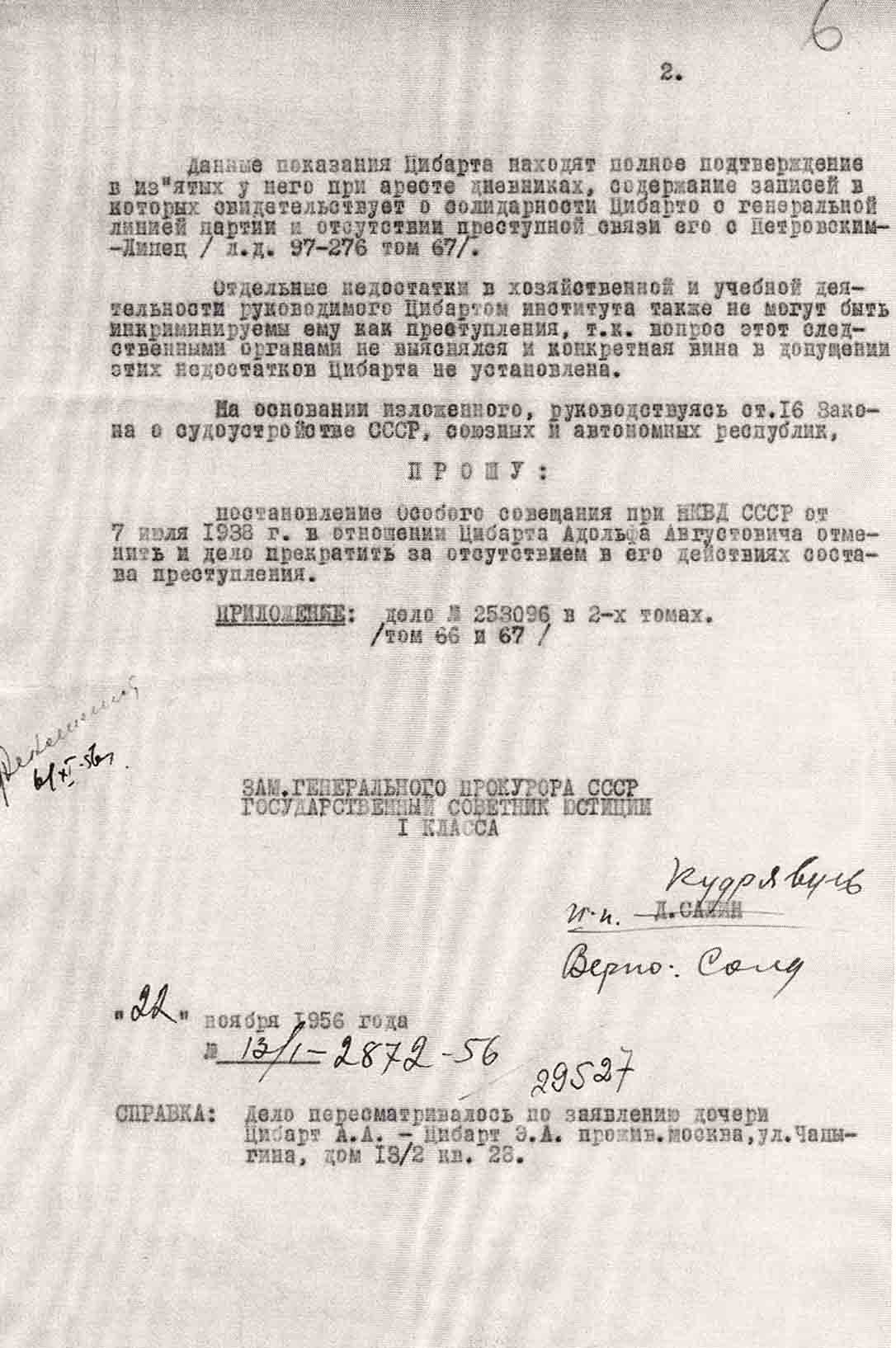
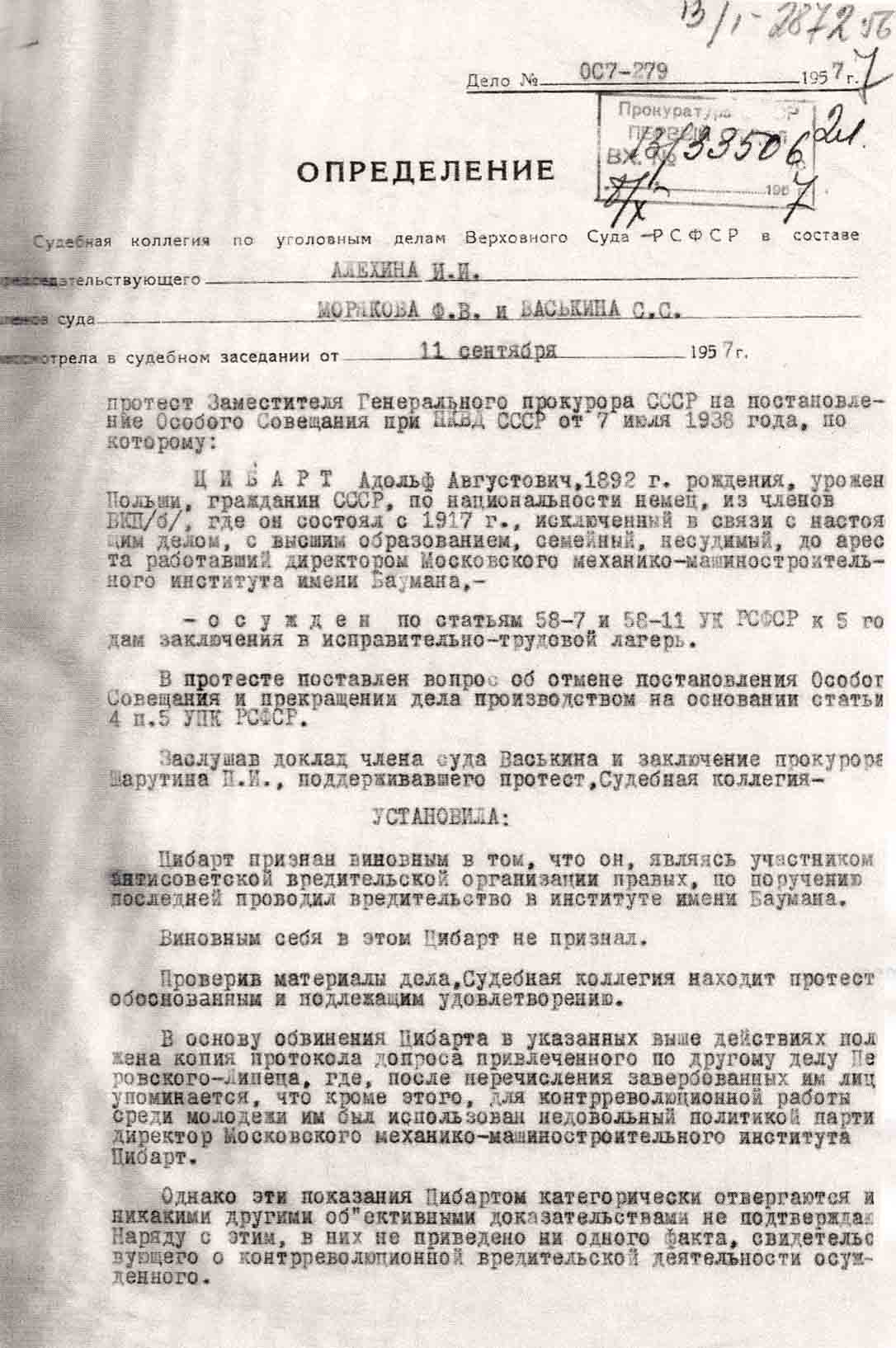
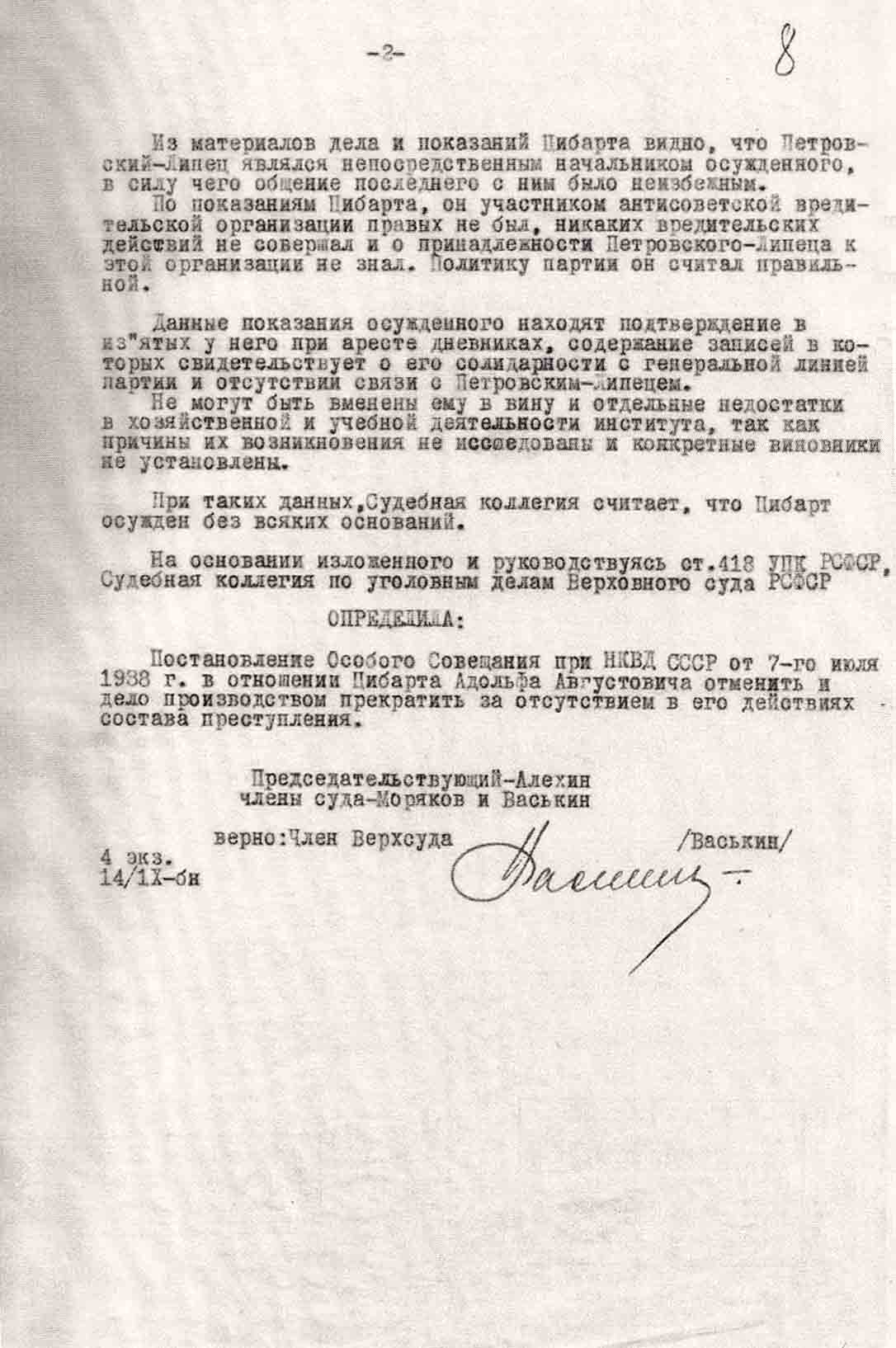
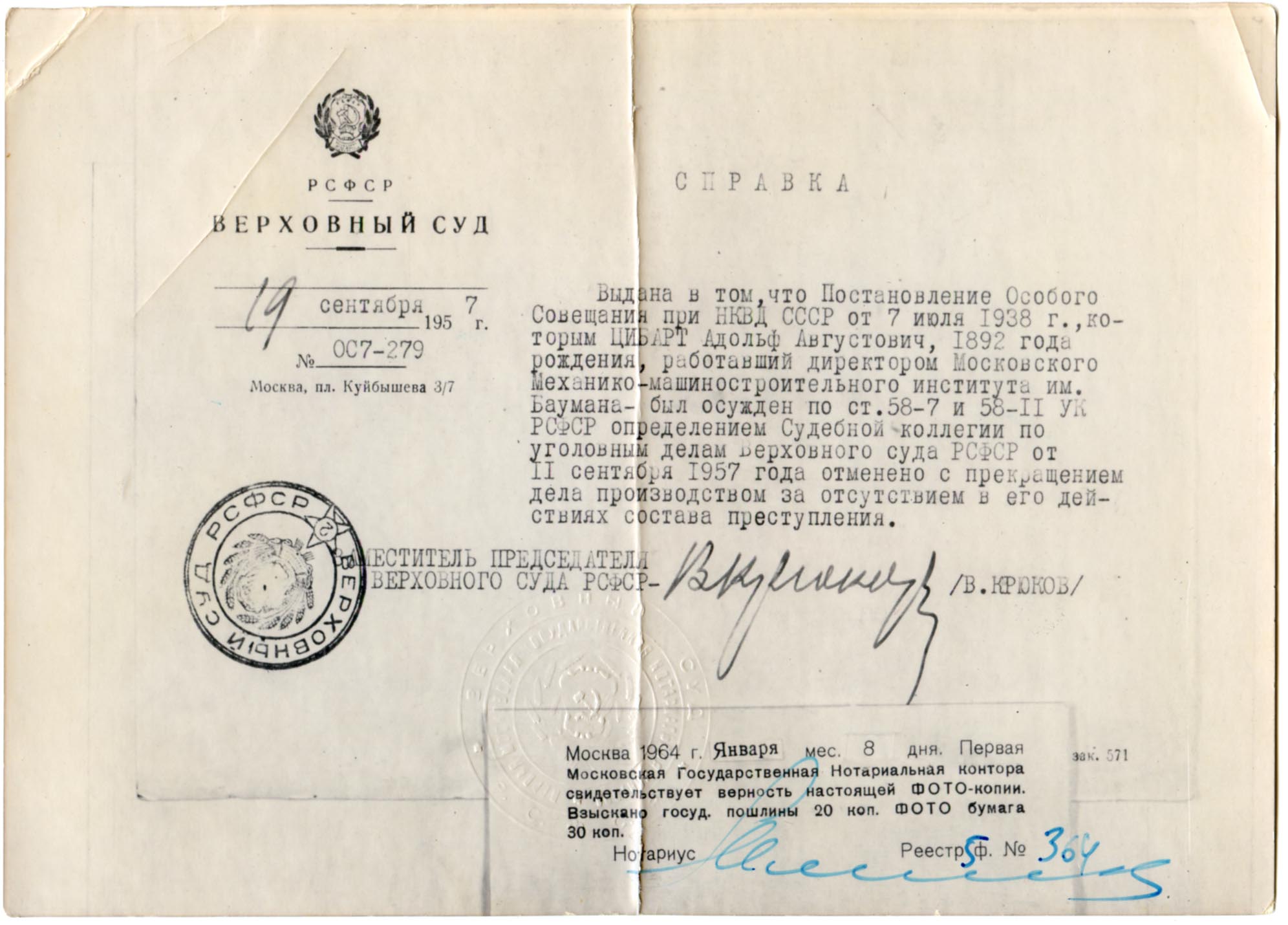
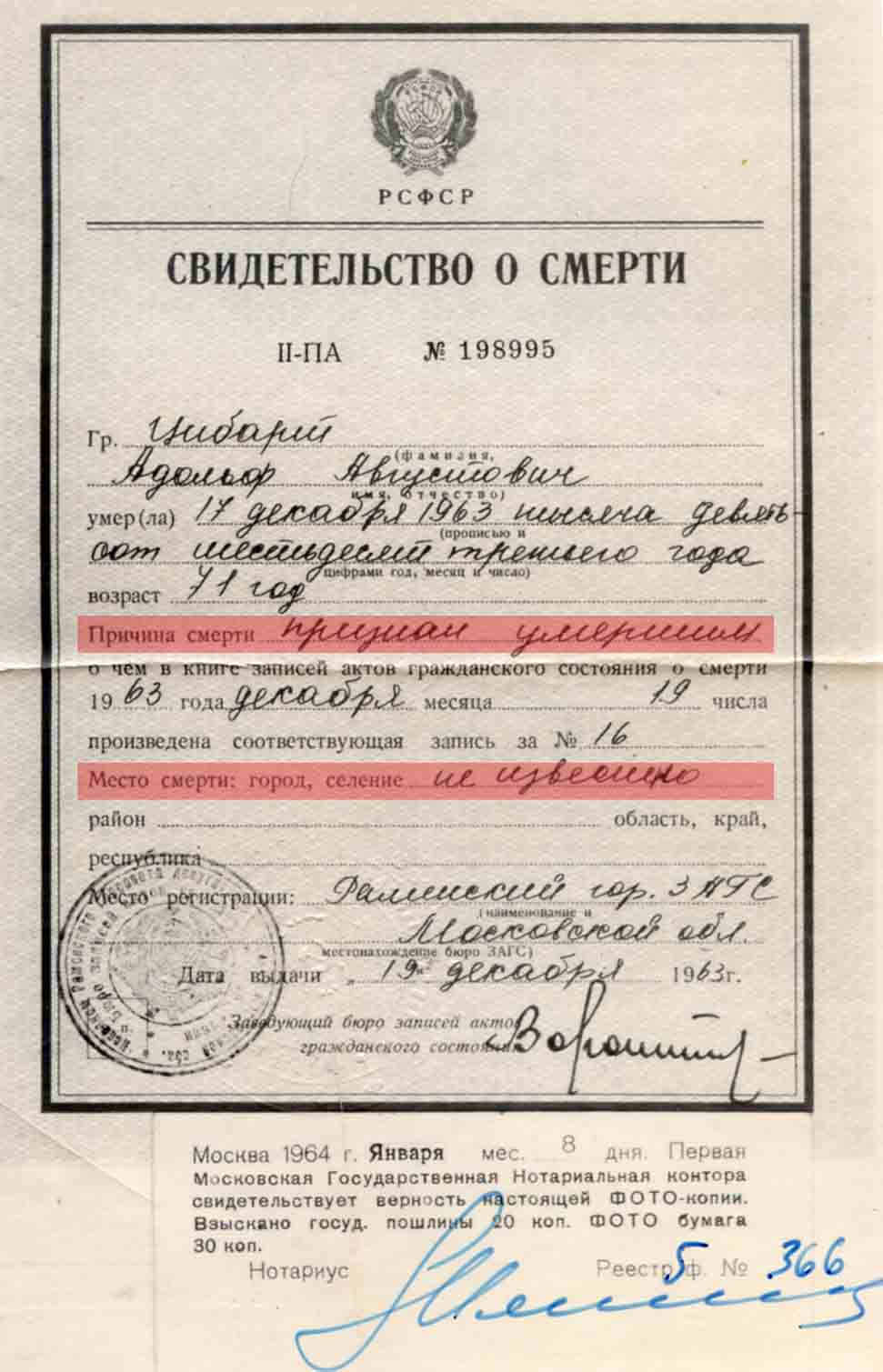
Обзор всех писем А.А. Цибарта к семье из лагеря. Дата, адресат, цитаты, комментарии
Гор. Магадан 6/II 44 г.
Дорогая родная моя Мурочка!
Вчера получил сразу 4 письма. А маленькая моя Светуня перехитрила Вас, взрослых и написала своему папочке не одно, а целых 2 письма и целиком своей рукой, включая и адрес на конверте. Вот молодец. Она хотела доказать, что любит меня больше, чем Элечка. Это так трогательно с ее стороны и я верю, что она действительно сохранила ко мне всю ту любовь, которую я наблюдал 6 лет тому назад. Время не ослабило, а вероятно еще усилило ее привязанность ко мне. За это большое спасибо в первую очередь Тебе, дорогая моя Мурочка. В этом сказывается твоя честная и большая душа. Несмотря на то, что я сделал тебе столько зла, был причиной стольких страданий, горя и унижений, вот уже в течение больше 6 лет, Ты не оттолкнула детей от отца, не чернила его памяти в их детских сердцах. Этого я никогда не забуду. Ты мне вернула смысл и цель жизни. У меня было потеряно все. Я действительно много перенес и передумал, переоценил свои прошлые взгляды и отношение к людям и идеалам. Пришел я к выводу, что с прежней жизнью у меня силой обстоятельств и волей судьбы все порвано. Нет у меня детей, нет жены, нет друзей. Часто думалось, когда я постучу, кто мне откроет двери, когда опять вернусь и не находил ответа. Мысли перебрасывались иногда, как это ни странно на сестру свою Иду, но она очень далеко и у нее своего горя и своей нужды достаточно. Выводы получались весьма мрачные. Я падал духом, сомневался хватит ли у меня сил начать совсем новую жизнь, совсем чужим человеком, среди чужих людей, враждебных мне как к человеку "клеймёному".
Теперь я твердо знаю ради кого и для чего я должен (именно должен) жить. Знаю, что есть существа, которые меня любят, которым я дорог. Не только потому что им нужен. Знаю, что ради этой цели стоит жить. Скажу тебе, что отсюда издалека, где можно шире и об'ективнее оценить людей и дела, мне мои дети нравятся. Из них вырабатываются прекрасные люди. Возьму Элечку. Я ее оставил 6 лет тому назад. Она была наивным подростком слабая здоровьем и слабая волей. Правда в ней сильно сказывалось воспитание матери: честность, правдивость, нравственная чуткость и отзывчивость. К самостоятельной жизни, к борьбе за существование она не была приспособлена и я часто со страхом думал, как она будет жить. Ветер жизни будет ее метать из стороны в сторону и она быстро упадет не будучи в силах подняться вновь. И что же я вижу теперь (я сужу только по последнему письму). Прежде всего меня поразило резкое изменение ее почерка. В нем бросается в глаза и характер, внутренняя организованность и твердость. А затем сам стиль письма и форма изложения. Уже по этим 2 чисто внешним показателям я себе представляю свою дочку. Я сравниваю это письмо с тем, которое я получил от нее, когда она училась в школе. Как трезво и правильно она смотрит на людей и создавшееся положение в семье! Ни намека на хныканье или жалобы-стоны. Она вступила в борьбу с жизнью, она буквально собственными руками завоевывает себе право на жизнь, закаляет свой характер и волю. Она выйдет победителем. Только между строк ее письма можно узнать, что вынесла ее молодая еще не окрепшая душа за эти годы, как она возмужала нравственно и физически. С каким эпическим спокойствием и чувством нравственного превосходства она пишет про "издевательства, оскорбления" вашего соседа по квартире этого мерзавца "инженера-изобретателя"! А что значат в устах молодой девушки "дневала и ночевала по знакомым и в университете", так как по милости этого мерзавца Вы оказались выброшенными зимой в помещение без окон, без печи и без дров. А как можно было в этих условиях подготовиться и сдать экстерном экзамен за 10 класс! Я в восторге от нашей Элечки! Она герой. Как жаль, что я в своем положении ничем не могу ей пока помочь. Она избрала правильный путь в жизни. Как радужно она смотрит на будущее! Хватило бы у нее только сил выдержать все трудности на ее пути. Я знаю, что пока родная Мурочка жива, она будет продолжать учебу. Очень прошу и Сашу помочь, если тебе будет по состоянию здоровья очень тяжело. А там Бог даст, что и я в скором времени встану в Ваши ряды.
О Светочке и говорить нечего. Меня радует, что она отличница, что она по выражению Элечки такая же "резвушка", что она меня любит по-прежнему несмотря на свалившееся на вас несчастье, несмотря на постоянные издевательства, оскорбления "инженера-зверя", которые она конечно слышала и которые как-то откладывались в ее детской душе и связывались с ее отцом.
Да Мурочка, полученные от Вас письма были для меня настоящим откровением и величайшей радостью. Многое я узнал из них о Вашей жизни, хотя не все для меня еще понятно. Я их пока перечитываю каждый день и, вникая в них, все больше воображаю себя в Вашей среде и в обстановке, чтобы лучше представить себе положение. особенно меня пугает твое положение здоровья. Ты очень мрачно смотришь на предстоящую зиму. И конечно это понятно, для легочного больного в квартире без стекол, без печи и особенно без дров (кстати не понимаю, что значит "поедем всей семьей в Малаховку за дровами"?) прожить зиму, да к тому же ездить на работу в рваных ботинках. очень тяжело. Меня это крайне беспокоит и как только получу деньги дам телеграмму, чтобы узнать про твое здоровье. Крепись друг, береги себя как только можешь, скоро, очень скоро я надеюсь тебя сменить!! Не сдавай позиций, чтобы наша Элечка могла спокойно учиться в Университете, а Светка в школе. Думаю и надеюсь, что война в этом году кончится и я сумею вернуться домой.
Большое Тебе спасибо дорогая Мурочка за хорошее и доброе письмо, но все-таки много вопросов из Вашего быта для меня еще неясно и поэтому задам тебе еще ряд вопросов: 1) неужели буквально все твои друзья покинули тебя? Неужели нет никакого исключения? Как вел себя Захар Малинкович и Ида? Помнится что еще три года назад он давал мне телеграмму, что Вы все здоровы. Что слышно о Зайцеве <зав. издат. комбинатом МММИ>, не встречала ли его? Как Шевцов <предс. профкома МММИ>? Кого еще встречала из институтских людей?
2) Кто теперь у Вас сосед по даче? Тот же Зыков или другой кто-либо. Если Зыков, то как у Вас отношения с ним?
3) Что за человек кому продали комнату на даче?
4) Где это Метростроевская улица, куда Вас переселили? Я что-то такой улицы не слыхал и никто из здешних москвичей не знает про такую улицу. Какова связь (метро, трамвай) Вашего нового жилья с работой и местом учебы Элечки и Светки?
5) Кстати где (в какой школе) учится Светка, какими болезнями она болела за время моего отсутствия?
6) Где работает Саша <брат Марии Иосифовны Александр Шарий, освободившийся к этому времени из заключения> и сколько получает? Какой ваш месячный бюджет (с твоим заработком)? Кстати о каких огородах ты пишешь? Где у Вас имеется огород?
7) как поживает Петя <брат М.И.> и моя любимица Наташа? <племянница>
О себе мало могу писать. Жаловаться мне не на что. По военным временам живу неплохо, да кроме того работаю по специальности инженером теплотехником. А о жизни и прочих вещах может рассказать Саша, только с той разницей, что в мои годы стало во много раз тяжелее. Здоров, за последние годы ничем не болел. Неважно только с сердцем. Напиши как прошла зима? Привет бабушке <матери М.И.>, Саше и всем нашим "новым" друзьям.
Целую крепко крепко Ацек.
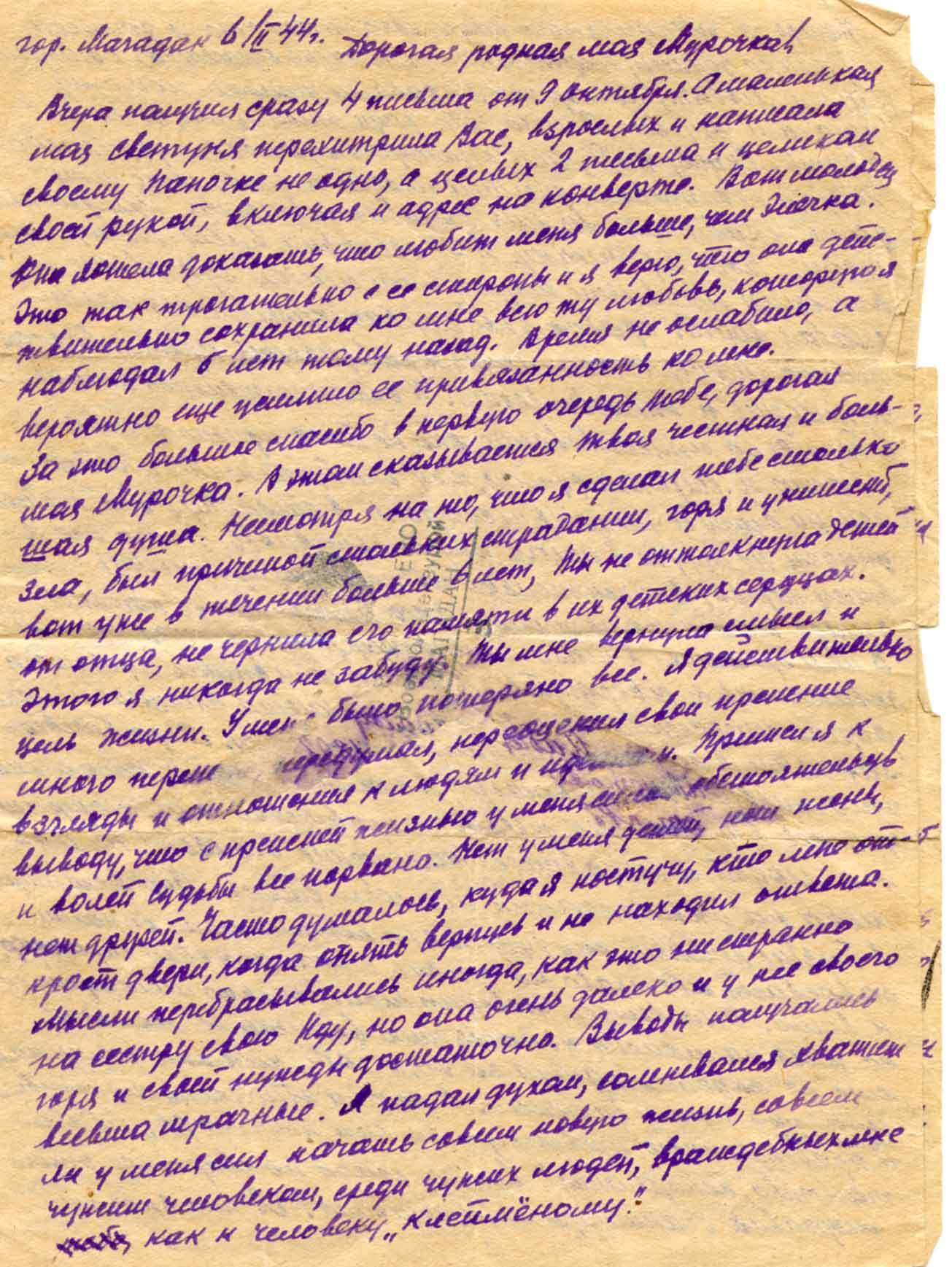
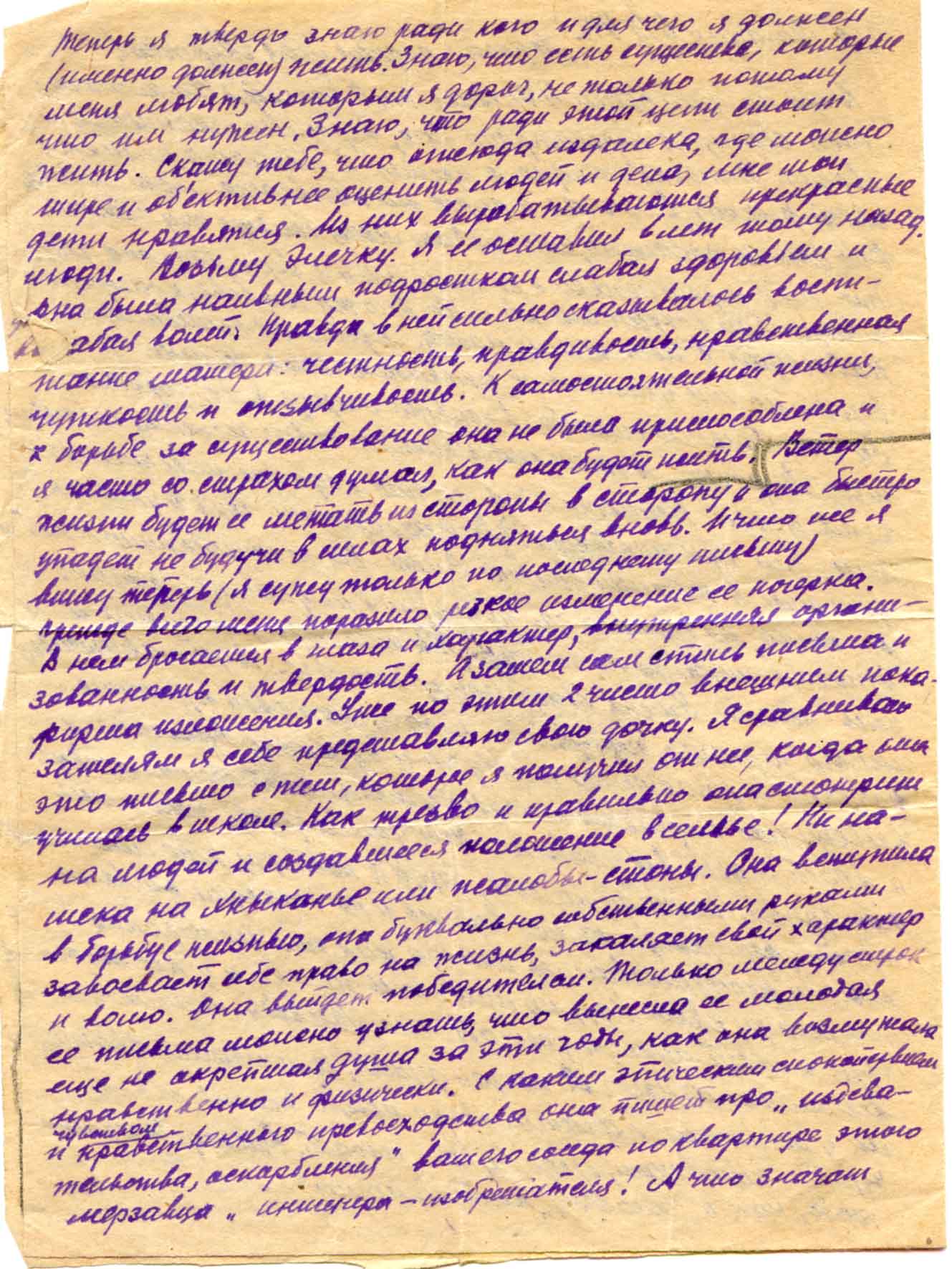
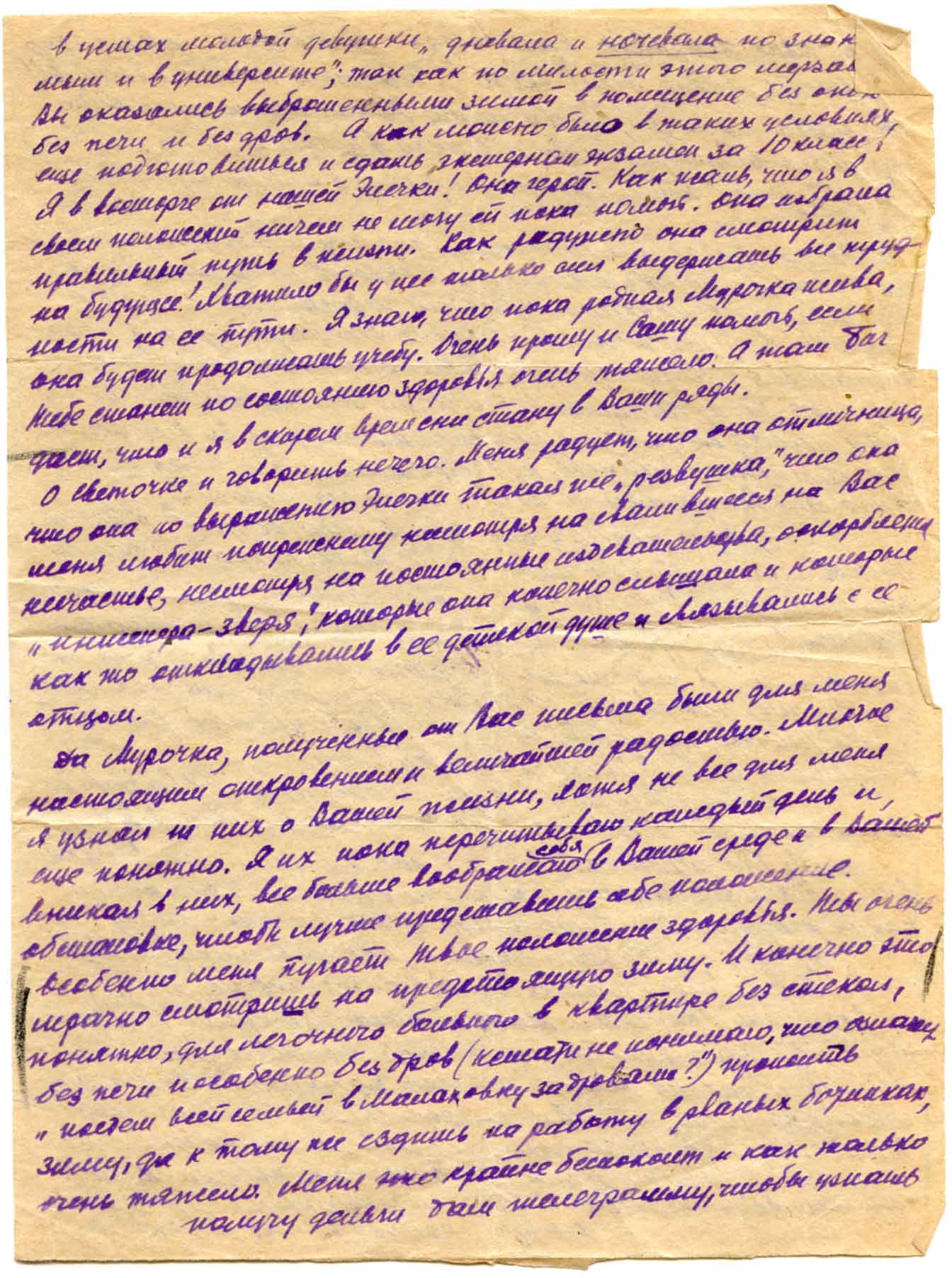
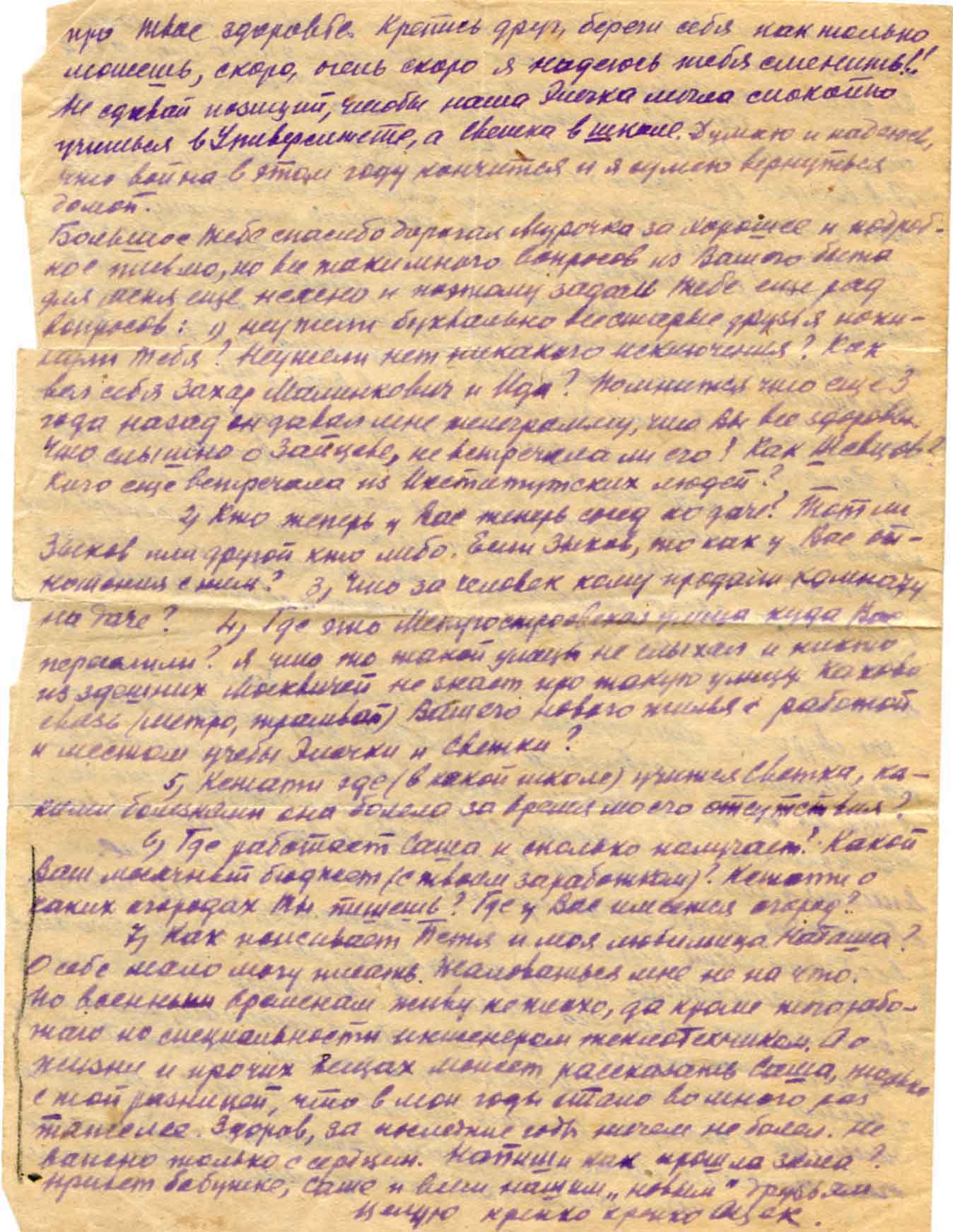
Магадан
13 февр. 1944 г. Дорогая родная моя Элечка!
4 февраля получил сразу 4 письма от Вас. Шли они недолго, всего 2 месяца, но здесь я их получил только через 4 месяца после отправки, так как за это время переменил место жительства и успел снова вернуться на старое место. Таким образом мой адрес (почтовый ящик 26 1/3) не изменился. Большое спасибо Тебе за подробное письмо. Из Твоего письма и из письма мамы я себе довольно ясно представляю Ваше житье. Как я и ожидал, живется Вам очень не важно. Но самое главное – Вы все живы. Меня особенно беспокоит здоровье мамы. Ей ведь приходится тяжелее всех. Она не любит жаловаться и ныть и если уже она сама (в письме ко мне) опасается выдержит ли она эту зиму, то дело вероятно действительно угрожающее. а что Вы бедные будете делать если она сляжет? Что будет тогда с Твоей учебой и с учебой Светуни? Также неясно для меня что происходит со здоровьем Светки? В чем дело? Ведь она, когда я Вас оставил, была как будто совсем здоровой? Напиши чем она болела за время моего отсутствия. Может быть дело тут в недоедании? Да и как моя родная дочка Твое собственное здоровье? Ведь именно Ты из всей нашей семьи отличалась особо слабым здоровьем. именно за тебя мы с мамой больше всего беспокоились. Как обстоит дело сейчас? Как отразились на Тебе все мытарства последних лет? Я удивляюсь как Ты можешь в таких тяжелых внешних условиях быть еще отличницей в учебе. Ведь этого можно достигнуть только крайним напряжением нервов и здоровья, но так ведь не долго выдержишь. Как и где ты питаешься? Вероятно в студенческой столовке? Есть ли что одеть и обуть? Ведь эти вещи очень дороги и должны здорово отразиться на Вашем скудном бюджете. Ты теперь, как рисует Тебя Светуня, совсем большая. Ты не только студентка, но и барышня и одеться нарядиться ведь хочется. Все мы переживали эти годы и знаем что такое молодость! У меня сердце обливается кровью, что я, родной отец, ничем не могу помочь тебе именно теперь, когда моя помощь особенно нужна! Вспоминаются свои собственные студенческие годы. Отец был вагоновожатым на трамвае в Лодзи, получал 60 р. в месяц и основательно к тому же выпивал. Семья состояла из матери и 4 детей. 2 сестры и брат учились в гимназии.
Никаких стипендий в это время не было, матери приходилось очень тяжело, а я поехал в далекую Москву учиться с 5 рублями денег в кармане. Помню, что все таки мама напрягла все финансы и я поехал не как нибудь, а во II классе! В Москве пришлось не только учиться, но и зарабатывать на существование уроками. Из дому конечно ничего не получал, стипендии никакой, хорошо еще если освобождали от платы за учение. Мне тоже трудно доставалась учеба, но Твое положение куда хуже, тяжелее моего. Ты должна заботиться не только о себе, но и о семье. А затем Тебе вероятно все таки приходится считаться с тем, что Ты дочь «такого» отца как я. Кстати состоишь ли ты еще в комсомоле и что там делаешь, не попрекают ли тебя отцом, как это было на старой квартире со стороны «инженера» отважно воюющего с беззащитными женщинами и детьми.
Мне интересно как ты избрала био-фак, ведь выбор специальности в Твои годы, очень тяжелая вещь. Как это получилось? Случайным ли стечением обстоятельств или сознательно после зрелого обдумывания. Модным ведь теперь являются авиация медицина, но отнюдь не биология. Приходилось ли сдавать конкурсный экзамен? Какой был контингент приема? В каком Ты Университете учишься, в I или во втором? Я лично очень одобряю Твой выбор. Если бы мне теперь, после прожитой жизни можно было начинать жить, я выбрал бы Твою специальность. В моем воображении это одна из немногих специальностей, где имеются неограниченные возможности для исследователя и ученого, не говоря уже о том, что наука «о жизни» вообще сама по себе чрезвычайно интересна.
Какую область (специальность) ты думаешь избрать себе в этой огромной науке? Какие дисциплины Тебя особенно увлекают? К какой деятельности стремишься после окончания? К работе ученого, исследователя или практического работника в промышленности и хозяйстве? Много лет прошло с тех пор, как мы последний раз видались. Ты была тогда ребенком, теперь взрослая и вполне самостоятельный человек. Мне трудно судить о Тебе по тем впечатлениям, которые остались у меня, но мне почему то кажется по ряду косвенных данных, что у тебя склад характера ученого, что Ты подходишь к вещам очень глубоко и стараешься проникнуть «в корень», а не только ограничиваться взглядами установившихся авторитетов. Жалко, что у Тебя нет обстановки для самостоятельной работы, что не за что покупать книги.
Как у тебя личная жизнь? Кто Твои товарищи и друзья? Мне очень интересно знать о Тебе все. Ведь я не только отец, но и педагог, недаром я 8 лет стоял во главе крупнейшего ВТУЗ'а.
Если бы мы были вместе, я мог бы во многом помочь Тебе, не считая материальной стороны. Ты начинаешь жизнь, идешь в гору. Я кончаю жизнь и качусь вниз. Тяжело чувствовать это; цепляешься за каждый камешек, стараешься подняться, выпрямиться и опять карабкаться вверх. Но в мои годы и в моем положении это очень тяжело, да к тому же изменяет уже память. Тем не менее я стараюсь не сдаваться, пока держусь. И я в твои годы мечтал, любил свою специальность, стремился стать ученым. Все данные у меня были для этого: и способности и склад характера. Я даже уже начал делать в этом отношении первые шаги, когда мне поручили читать самостоятельный курс для студентов Белорусского Политехнич. Института. Но вдруг налетел шквал. Гражданская война, парт. и общественная работа, а затем высокая административно хозяйственная работа в совнархозах, трестах, В.С.Н.Х. На мое несчастье я не умею отдаваться частично. Я ушел в эту работу целиком, без остатка, забыв и семью и детей. А затем меня стало засасывать все глубже и глубже. Я уходил все дальше и дальше от своей цели, которую ставил себе в молодые годы. Знания выветривались, работать над собою не было времени, а хорошим хозяйственником и особенно администратором все равно не стал. Для этого нужны особые природные качества, которых у меня не было. Моя «полочка» в жизни, о которой всю жизнь мечтал, это углубленная научная и исследовательская работа. Внутри у меня все время происходила борьба. Я никак не хотел стать карьеристом, как многие из моей среды, которые в чинах, обстановке и материальном благополучии видят весь смысл жизни. Наконец мне удалось попасть во ВТУЗ, бросить «высокую» работу в ВСНХ как руководителя всей текстильной промышленностью. Я наивно думал, что тут я сумею наконец попасть в свою стихию и заняться наукой. Но несмотря на то, что я начал успешно работать над [собой и] даже начал вести занятия со студентами, мне ничего не удалось достигнуть. Тяжелая административная работа, склоки и подсиживания при свойственной мне доверчивости к людям привели меня к настоящему печальному финалу. У меня за эти 6 лет <заключения> было достаточно времени, чтобы продумать и проанализировать всю свою жизнь. Жизнь меня выкинула из своих рядов формально без всяких проступков и вины с моей стороны «в зените славы» и это является весьма характерным. Основная ошибка в моей жизни заключалась в том, что я дал себя увлечь жизнью, а не пошел по пути начертанному мне судьбой и внутренними данными натуры. Здесь я сразу убедился, что я ничто. Знания почти все выветрились. Профессии – никакой. Дальнейшая жизнь не имеет смысла. Что я буду делать, когда опять вернусь к жизни? Правда здесь я работаю инженером теплотехником, меня ценят, считают меня крепким и авторитетным специалистом. Работаю выполняю <так в тексте> хорошо, мною довольны, в<нрзб> экспертом, успешно проектирую, но что это все значит, если я понимаю, что ничего не знаю из того, что должен знать современный инженер. И вот, чтобы восполнить этот пробел, я очень усиленно работаю над собою. Усиленно учусь, читаю все что только можно достать. Стараюсь таким образом подготовиться к будущей жизни. Не хочу дать себя списать в тираж. Буду бороться за то, чтобы встать в ряды общества полноценным человеком до последней возможности. Пока Бог меня бережет. Я имею возможность над собой работать и как раз в круг моих обязанностей здесь входит исследовательская и рационализаторская деятельность по моей специальности. На здоровье пока пожаловаться не могу. Правда не совсем в порядке у меня сердце, но это в моем возрасте естественно и нормально. Я сыт ежедневно, обут, одет, чего же больше нужно. Мне пожалуй даже лучше чем Вам. Не нужно думать о завтрашнем дне. Правда жалованья всего 90 рублей в мес., но мне одному ведь и это трудно расходовать.
На этом пока кончаю. Жду от Тебя, как от дочери и друга частых и подробных писем. Целую Тебя крепко и желаю успеха в учебе и жизни Твой папа
<...> Только что получил письмо от Буренковой. У ней была мама со Светкой. Со слов Захара <Малинковича> мама ей сказала, что что я будто уже давно изменил свою жизнь что получил хорошее место и высокое жалованье (?!) Теперь я понял откуда идет такое недоверие ко мне. Так вот Элечка я прошу: пускай мама зайдет к Захару и от меня ему заявит что даже сейчас (16 июня), т.е. больше месяца после конца войны мое положение осталось тем же как было 7 лет назад. Может быть он может что либо сделать чтобы мое положение изменилось к лучшему, а главное, чтобы вызвать меня или к Вам или поближе к Вашим краям. Хорошо бы работать, если нельзя по научной или исследоват. работе то по специальности: инж. механика или по паротехнике. Твой Папа
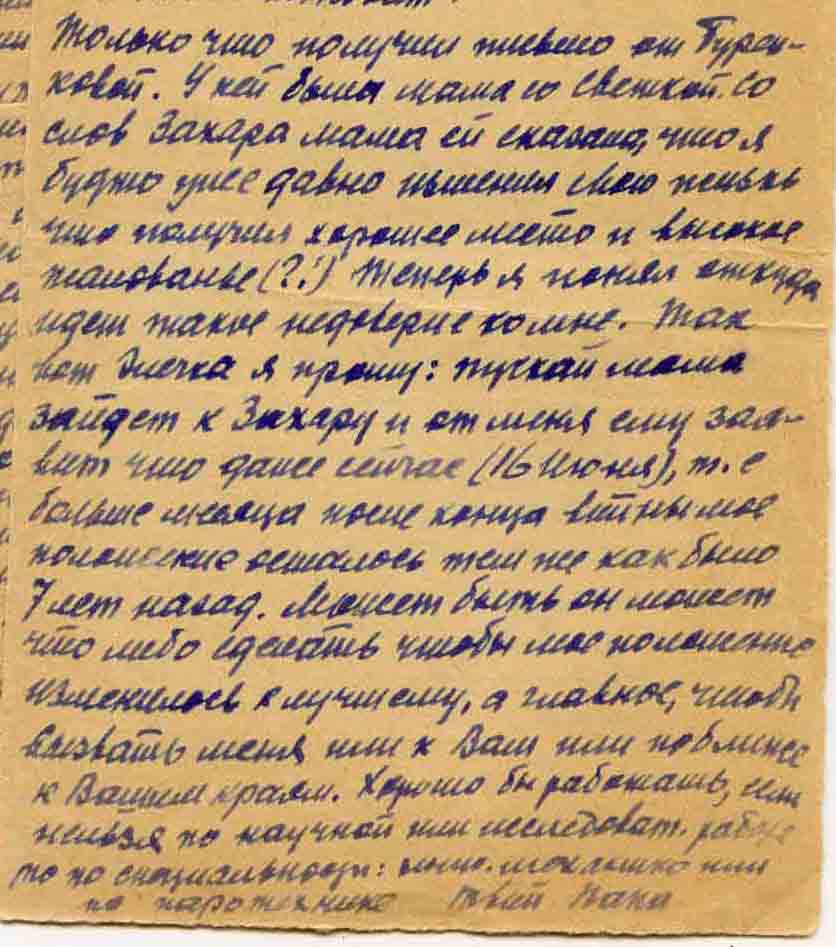
Родная Мурочка! 5 июля 1945 г.
<...> Я до сих пор не понимал, почему так резко изменилось Твое отношение ко мне и только сопоставляя отдельные письма как Твои, так и другие, я наконец понял в чем дело. Ты была уверена, что мое положение давно уже изменилось, что я свободен, получаю хорошее жалованье и даже завел новые связи, которые удерживают меня здесь на Колыме. Я помню время, когда у Вас было туго с квартирой и Ты мне даже предлагала взять к себе Светку. Я был поражен и не мог тогда очухаться. С одной стороны жизнь в бараке на 30 человек, вагонная система и спанье на верхней полке и приезд моей маленькой любимой дочки? Призыв к помощи Тебе и мое собственное беспомощное положение?
Да, мое положение должно было измениться еще в декабре 1942 года. Я сам ожидал этого дня, как начала новой жизни. Но тут война. <...>
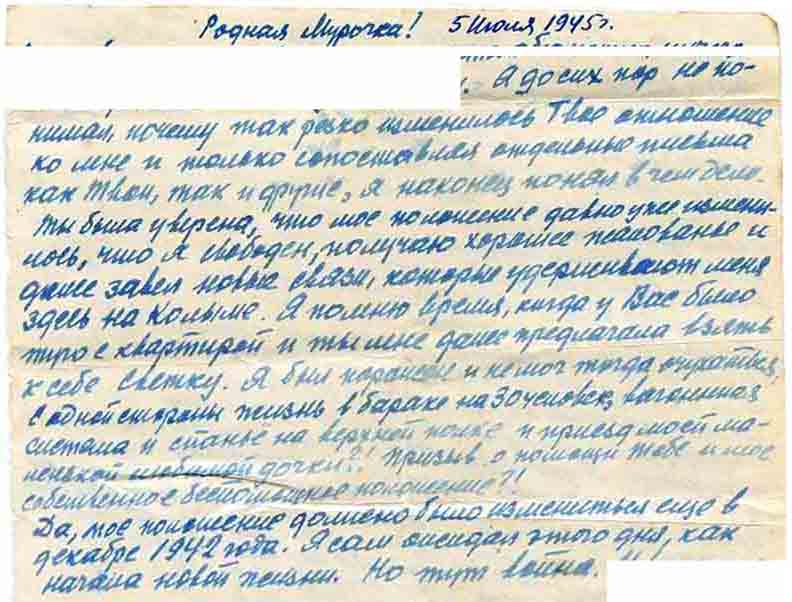
27 июля 1945 года
Родная Мурка!
Настоящее письмо посылаю тебе по одному вопросу. Речь идет о моей судьбе. Коротко о моем положении. Срок моего заключения кончился 14 декабря 1942 года, но меня не освободили, а дали расписаться, что я остаюсь в заключении до конца войны. Причину этого задержания я не знаю. Предполагаю что причиной может быть то, что в анкете у меня указано, что родители мои немцы колонисты, но точно не знаю. Другие заключенные с той же статьей как у меня (К.Р.Д. то есть "контр. революц. деятельность") были вовремя освобождены.
Но вот война кончилась 9 мая 1945 года. С этих пор прошло уже больше двух месяцев, а меня до сих пор не освобождают. Ходят разные слухи о близком освобождении "пересидчиков", но об этом все время говорят, а воз и ныне там. Ты видно была введена кем-то в заблуждение, что я уже давно свободен, имею хорошую работу и получаю хорошее жалованье. К сожалению это только мечта! Живу в лагере в бараке где 40 человек на верхней наре. На работу и с работы иду под конвоем. Питаюсь в лагере на общем столе. Жалованье мое 90 р. в месяц. Свободно ходить по городу, покупать что-либо в магазинах не имею права. Своего у меня ничего нет, даже одежды. Вот такой я вольный человек!!!
Я прошу Тебя Мурка, помоги мне родная ради детей и Тебя самой. Я сам бессилен чем-либо себе помочь, не говоря конечно о помощи Вам.
Что можно сделать для меня?
Я приговорен Особым Совещанием Н.К.В.Д. 7/VII 1938 года к 5 годам исправ. труд. лагерей за "контрреволюц. деятельность". Срок считать с момента ареста, то есть с 14 декабря 1937 года. Так гласит постановление Особого Совещания. Я пишу об этом, чтобы Ты поняла, что осужден не судом и считаюсь, что под судом не был. Меня сослали в лагеря административным порядком НК В.Д. Мой хозяин НКВД. На меня не распространяются никакие амнистии, ни суды, ни прокуратура. Единственным моим хозяином является только НКВД. НКВД своим распоряжением может меня освободить в любое время и задержать новым постановлением Особого Совещания. Ввиду этого хлопотать обо мне можно только в НКВД. На моих глазах все время происходят случаи когда НКВД вызывает поодиночке, а то и пачками специалистов в Москву, там их освобождает и дает назначения. Такие вызовы (телеграфные) адресованные в Дальстрой обычно подписывает Зам. Наркома НКВД – Завенягин. Теперь специалисты очень нужны. Я здесь числюсь как специалист теплотехник имеющий 18 летний научно-технический и производственный стаж. Если бы кто либо напомнил обо мне, то меня могли бы вызвать отсюда на работу где либо на материке, а там уже освободят автоматически, так как я почти 3 года пересиживаю. Главное вырваться из этого ада, где я больше 2-3 лет не выживу. Я и так стал инвалидом по сердцу! В Москву меня вероятно сразу не пустят. Придется поработать в провинции, где было бы тепло, фрукты и еда. Желательно не так далеко от Москвы, чтобы на каникулы или праздники дети могли приезжать ко мне. Я согласен на любую работу (желательно научную, педагогическую, планово-производственную). По специальности я инженер механик по теплотехнике (котлы, двигатели, станции). Кончил Московское Высшее Техническое Училище в 1918 году, а до этого в 1910 году в Лодзи (Польша) мануфакт. промышленное училище – техником текстильщиком. Здесь, в заключении все время работаю по специальности на исследовательской и расчетной работе по теплотехнике, холодильному делу и вечной мерзлоте. Начальство относится ко мне хорошо, все время я двухсотник. Если бы я не был заключенным, то вероятно занимал бы хорошую должность с большим окладом (здесь ставки вдвое выше, чем на "материке"). Мог бы ежемесячно солидно помогать Вам! но я сам как беспомощное дитя. Я сам нуждаюсь в серьезной поддержке. Так вот о чем я хотел Тебя просить.
Если Захар <Малинкович> работает в НКВД зайди к нему. Он был моим другом. Человек он отзывчивый и добрый. Об'ясни ему мое положение. Он наверно хорошо знает Завенягина. Также он вероятно знает моего бывшего начальника генерал майора Егорова Сергея Егоровича, который работает там же где и Захар. Пускай он за меня замолвит словечко, пусть меня вызовут!!! Может быть у самого Захара найдется какая либо работа для меня?
Вот Мурка единственная моя надежда!! Телеграфируй мне если нужны дополнительные сведения. Вызов надо адресовать не мне, а начальнику Дальстроя ген. лейтен. Никишову. Мой личный адрес Ты знаешь. Жду с нетерпением, что Ты что-нибудь сделаешь.
21 июня т.е. 2 ½ месяца назад я наскрёб 340 руб., которые копил на то, чтобы одеться после освобождения и телеграфом отправил Тебе. Дал уже 3 телеграммы, чтобы Ты подтвердила получение денег, но ответа никакого нет. Боюсь что деньги затерялись дорогой. Почта не хочет наводить справок пока от Вас не будет телеграммы, что деньги не получены. Ответь пожалуйста телеграммой! очень прошу.
А главное зайди к Захару!!!
Ты себе не представляешь как здесь жутко. Если бы не дети и не мои обязанности к ним я бы давно покончил счеты с жизнью. Живу все время надеждой. Может быть Бог мне поможет и для меня опять станет светить солнце. Не сердись на меня, не помни, забудь прошлое, я столько выстрадал, что стал совсем иным, чем был до ареста. Твой Ацек
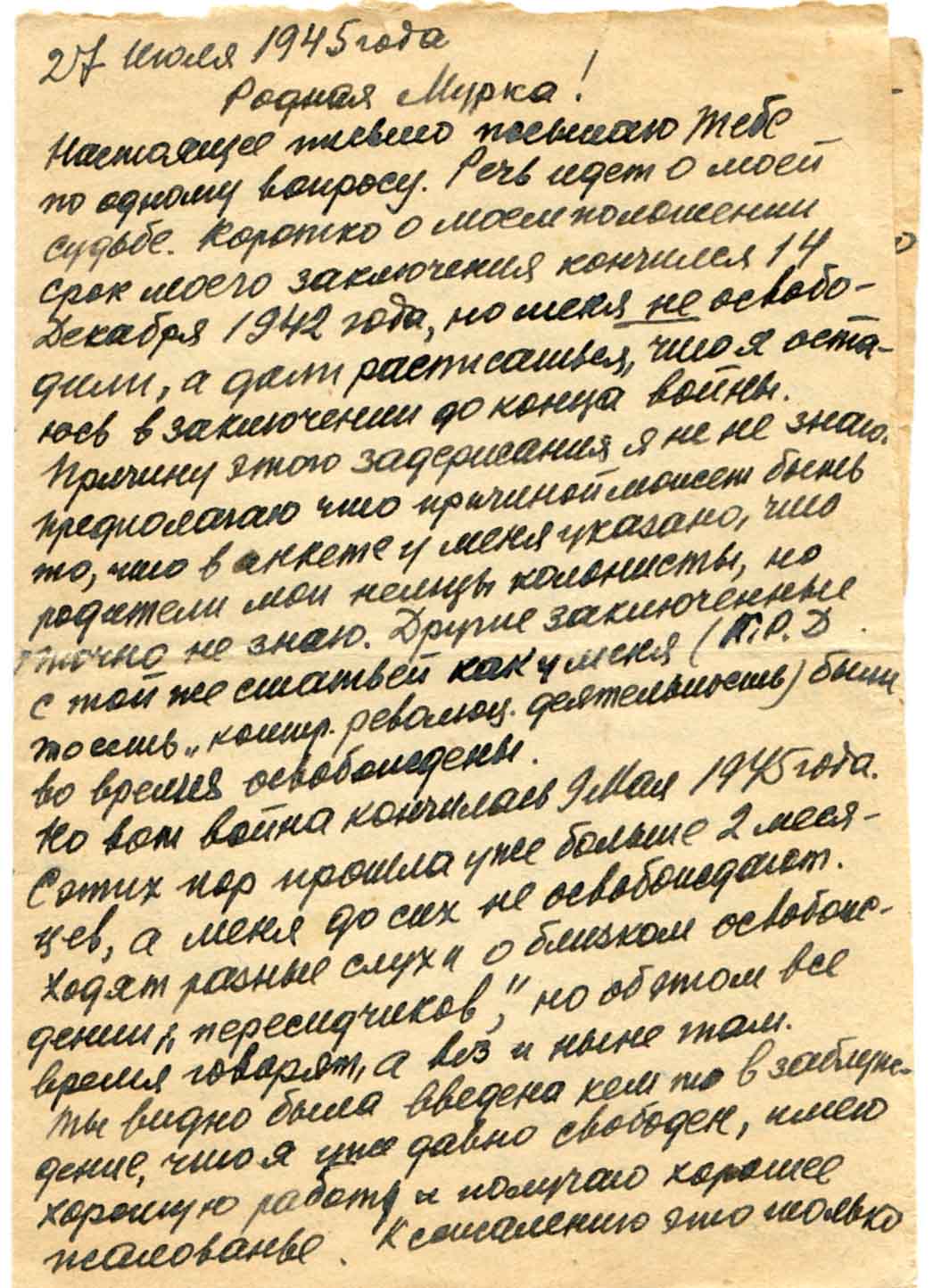
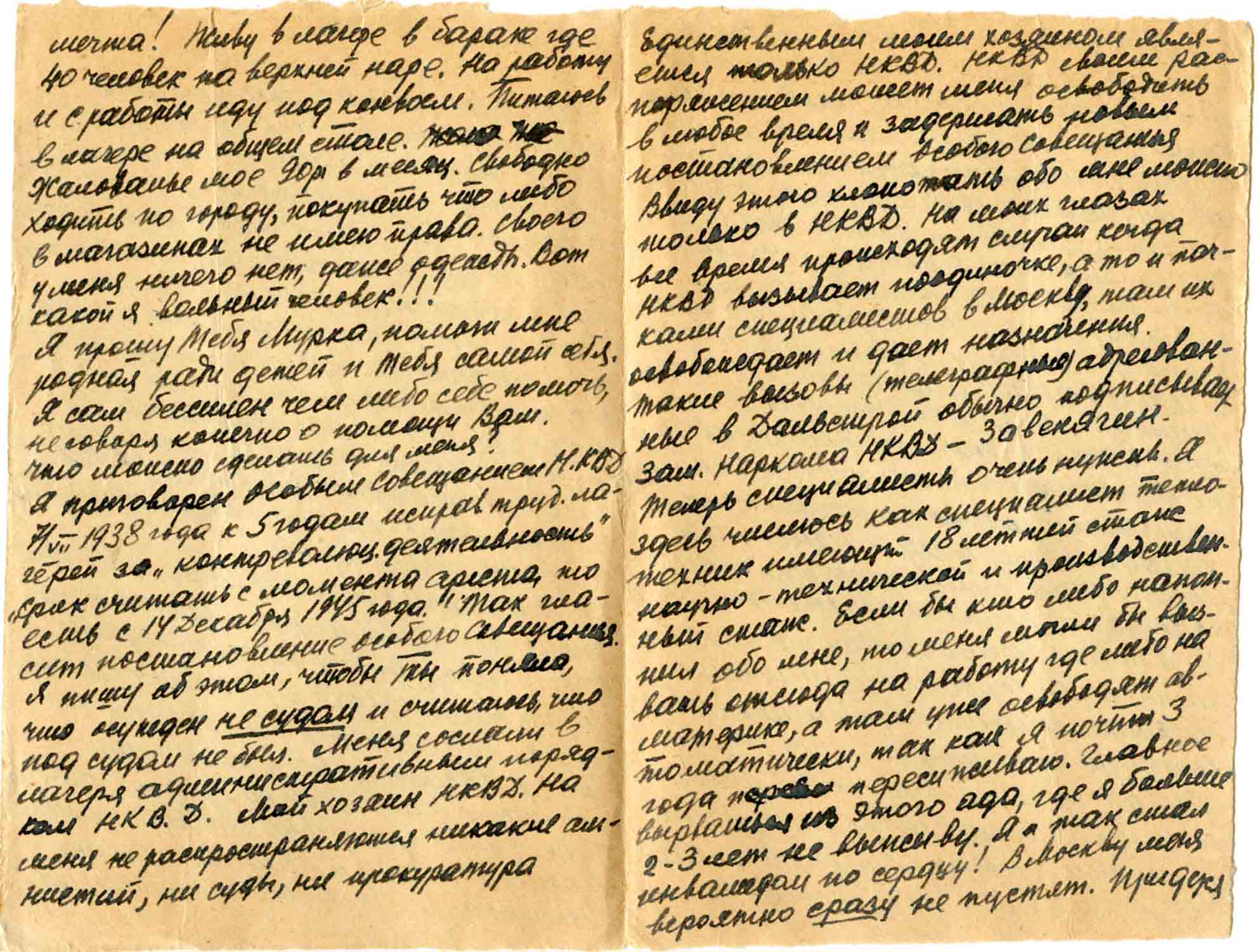
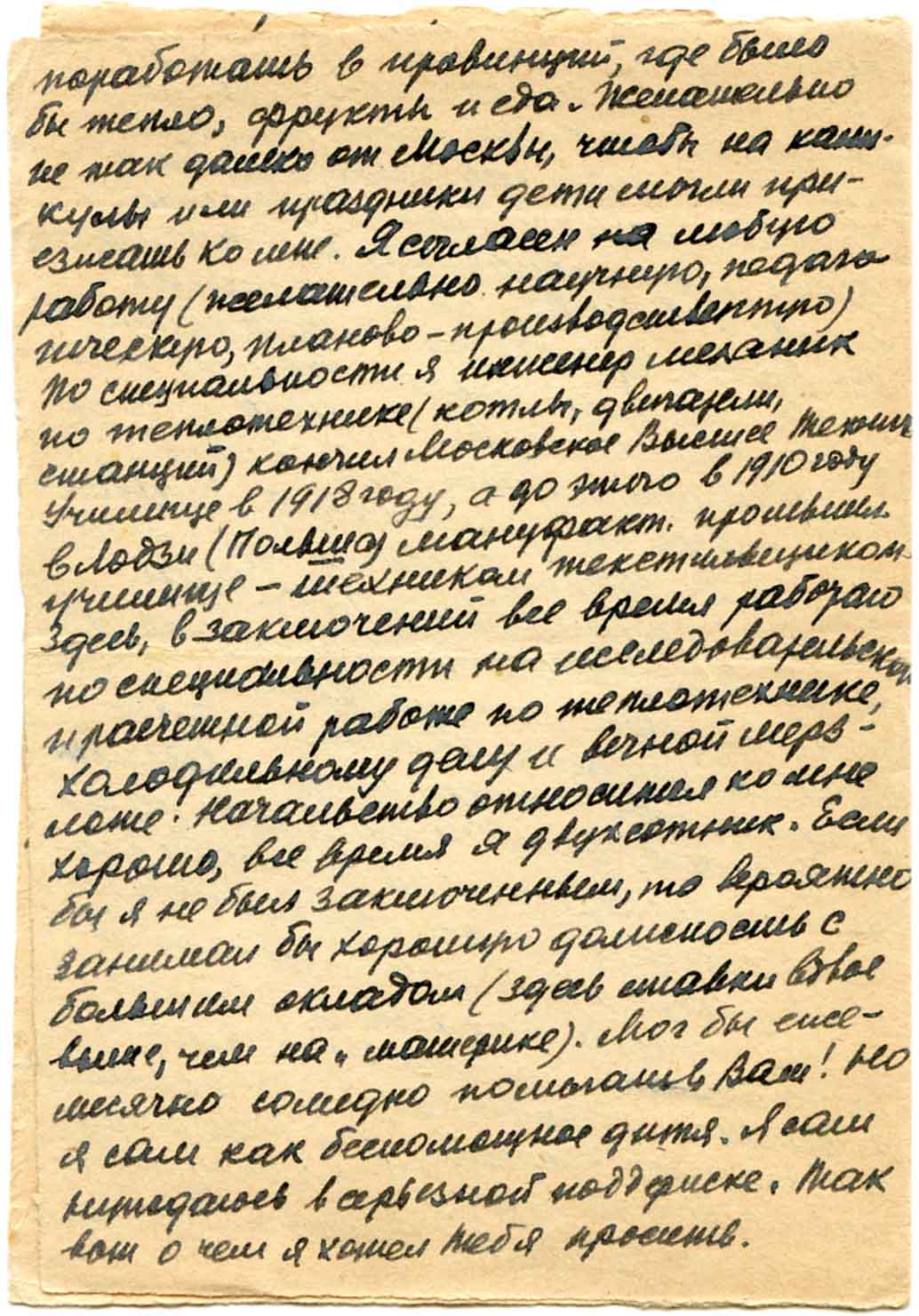
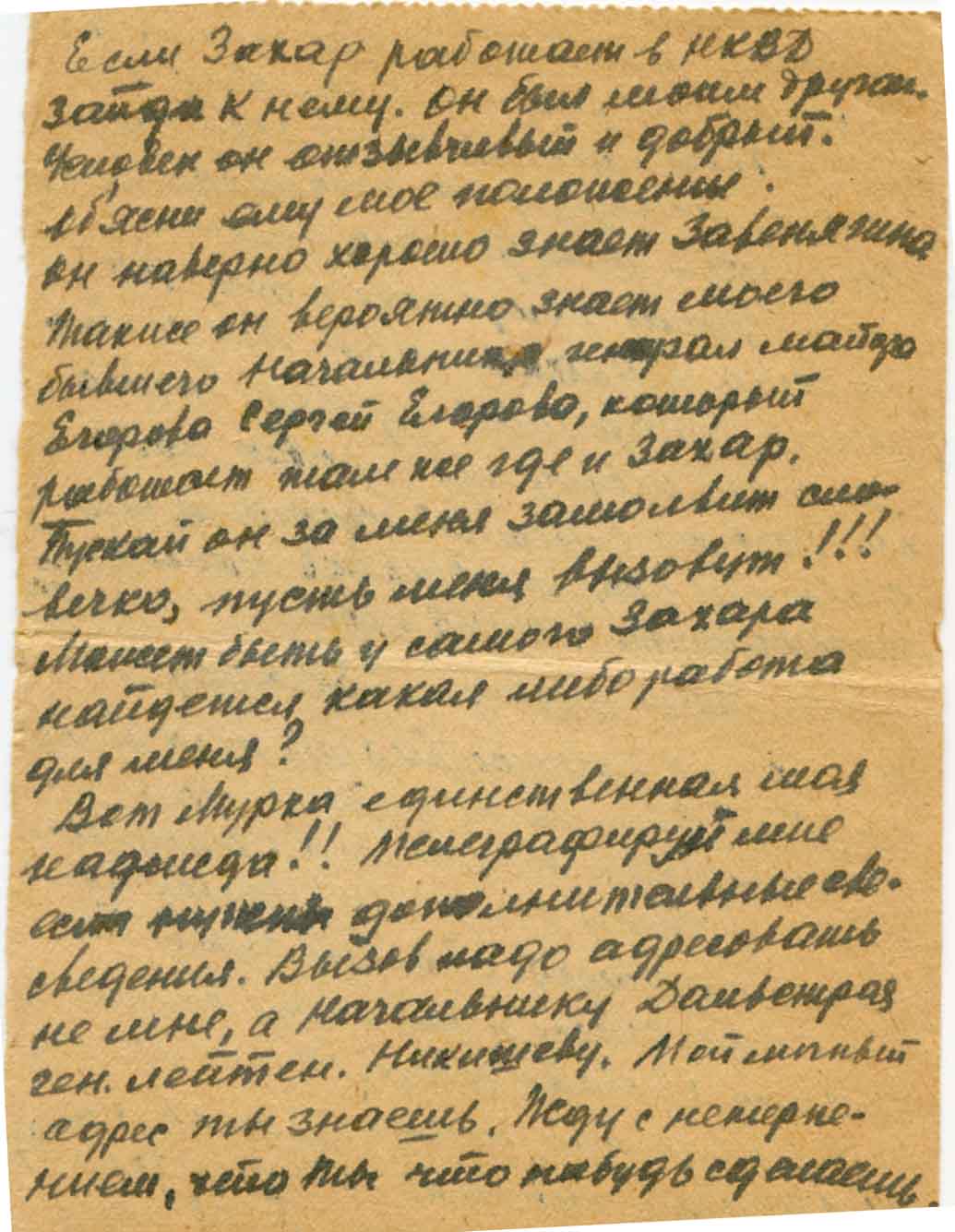
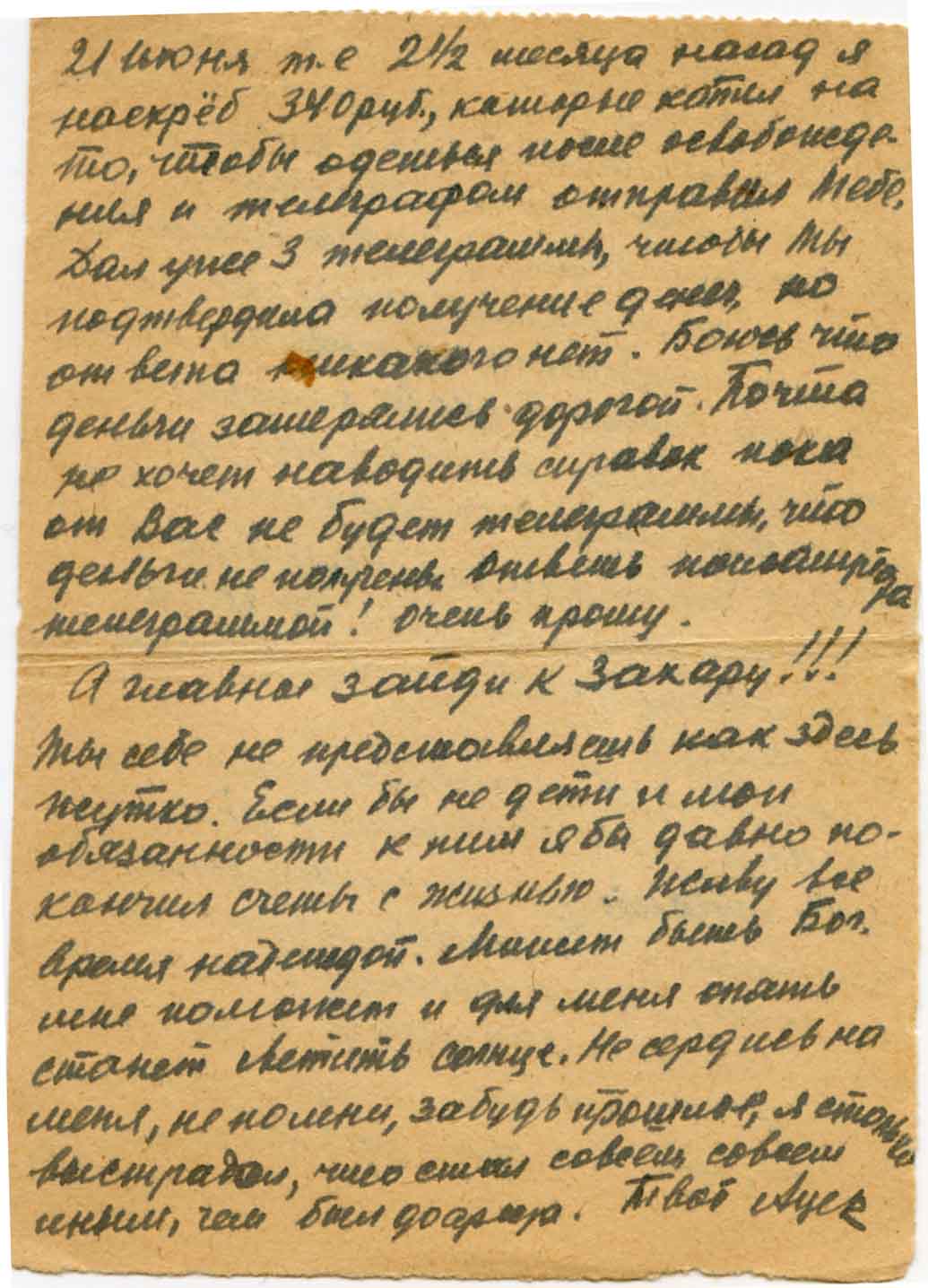
Анатолий Николаевич!
Дочка моя Элечка телеграфирует мне, что Ты взялся помочь мне. Если это так, я никогда в жизни не забуду это проявление самых высоких человеческих побуждений. Дороги нашей судьбы пошли в разные стороны, но мы ведь остались людьми. Во мне Анатолий Ты не ошибся, когда в последние дни перед расставанием на многие годы, так горячо и честно совершенно в единственном числе выступал и боролся. Ты шел всегда честно и прямо, шел напролом не боясь опасностей. Сейчас наступило время, когда я обращаюсь к тебе опять. Спаси меня Анатолий! У меня никого нет, кто мог бы оказать мне законную помощь. Я остался тем же кем был и Тебе не придется краснеть за оказанную помощь. К тому что Ты уже знаешь от моих родных сообщаю следующее:
1. Я пока еще в заключении, но надеюсь в связи с окончанием войны все таки надеюсь очень скоро освободиться. Нужна ли тут твоя помощь, не знаю.
2. Беспокоюсь что могут не выпустить отсюда и придется здесь погибать так как я специалист, а их не отпускают; вот здесь нужна Твоя помощь.
3. Пути моего вызова все лежат через НКВД СССР, так как здесь где я нахожусь нет других предприятий, кроме предприятий, подчиненных Дальстрою НКВД СССР. Поэтому, если даже освобожусь, то опять таки попаду в ту же систему НКВД, только может быть придется работать в другом месте или даже другом городе.
4. Нормальный путь это вызов через Зам. Наркома НКВД Завенягина. Ты вероятно даже его знаешь, он был Замом у Серго в НКТП.
5. Второй путь это обратиться к генерал-майору Егорову Сергей Егоровичу. Он работал Зам. Начальника Дальстроя, а теперь в НКВД СССР. Имею сведения, что он не откажет мне помочь или даже устроить в подчиненном ему предприятии. Он очень простой и сердечный человек, с ним можно говорить просто и откровенно.
6. На всякий случай можно обратиться к Малышеву Вячеславу, он наш бывший воспитанник (на кафедре Шелеста А.Н.), работал в мое время директором Коломенского завода. Теперь Нарком танковой промышленности или Нарком вооружений (точно не знаю). Одновременно он Зам. председ. Совнаркома СССР. Тут я не уверен. Попытка не пытка... Утопающий хватается "за соломинку"
Прошу тебя действуй энергично. Спаси меня! Если удобно напиши мне, телеграфируй! Семья моя очень туга на письма. Я почти совсем заброшен.
Твой А.А.
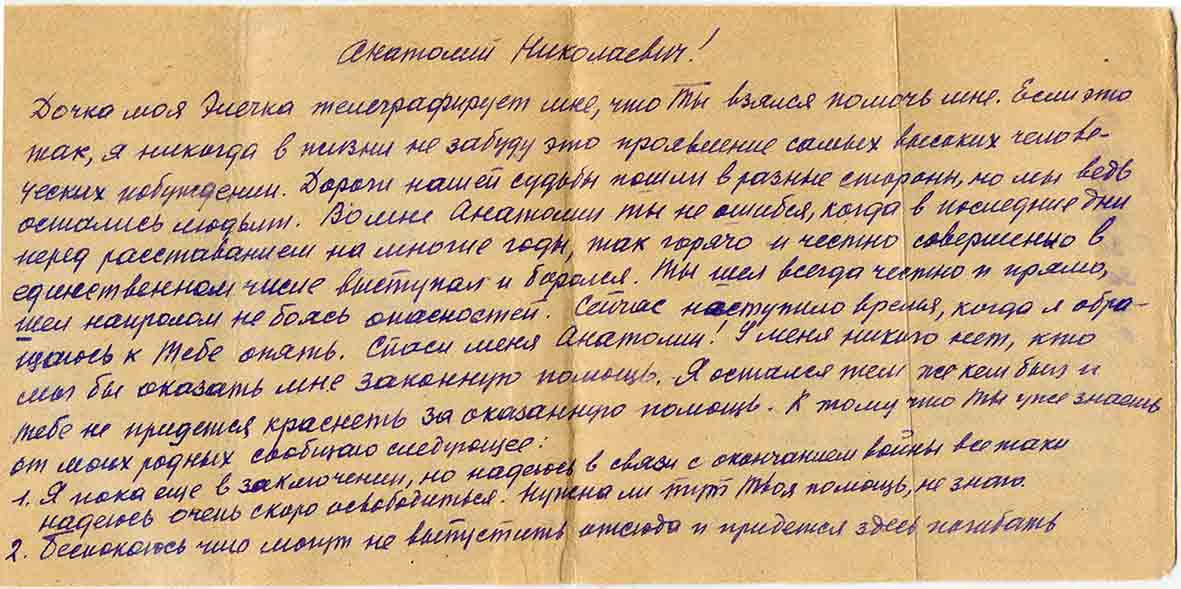
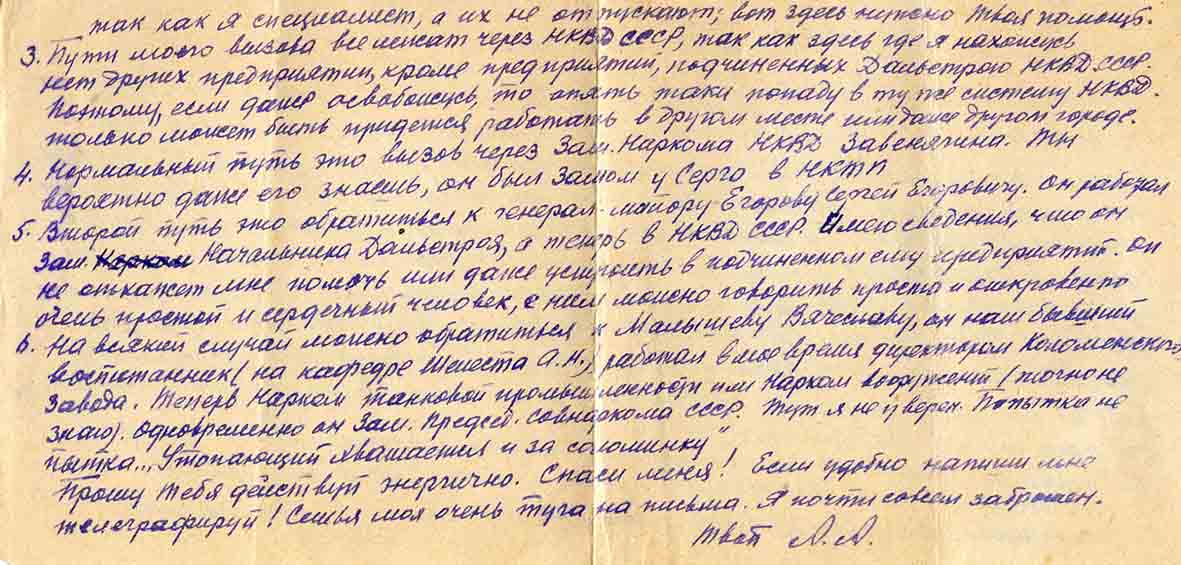
г. Магадан 16 марта 1946 г.
Дорогая, родная Элечка!
Получил от Тебя письма: от 2/XI; от 23/XI и срочную телеграмму от 6 Марта. Письма эти получены в Январе и Феврале 46 г., а телеграмма на следующий день после подачи. Получение твоих писем совпало с мертвым сезоном, когда навигация прекращается ввиду замерзания Охотского моря. Поэтому отправка почты до мая месяца обычно в прежние годы прекращалась. Только телеграф работает круглый год, хотя во время войны очень редко и телеграммы доходили, за исключением срочных. Чтобы Вы не беспокоились, я ответил Тебе срочной же телеграммой на следующий же день, т.е. 8 марта. Надеюсь, что Вы ее получили. Адресовал я ее на Каланчевскую 49
Но вот теперь, после войны, было опубликовано, что с 1 Марта восстанавливается регулярная воздушная связь от гор. Магадана до Хабаровска. Самолеты вероятно берут и почту, с тем, чтобы в Хабаровске погрузить ее в вагоны жел. дор. В надежде на это я и пишу не дожидаясь мая месяца.
Родная Элечка! Твои письма вдохнули в меня новую струю жизни и робкую надежду на возможность "воскресения из мертвых". Жить то ведь всем хочется и Вам молодым, у которых все впереди и нам старикам, у которых все позади. Надежда "отраду и нам старцам подает". Вот за эту отраду большое Тебе спасибо дорогая. Я уже не маленький и хорошо знаю насколько обоснованы Твои утешения и собственные надежды. Но не это важно и существенно, не это меня опять подняло на ноги. Меня ободрило то, что я почувствовал в наших отношениях ко мне признаки любви и привязанности. Я уже не чувствую таким заброшенным, забытым, ненужным никому как раньше. Я теперь твердо знаю, что на другом краю света, в далекой, недосягаемой для меня Москве, среди многих миллионов людей бьются хоть 2 сердца моих родных детей которые обо мне не только изредка вспоминают, но которым одинаково со мною больно переживать мои страдания.
Подумай только каково должно быть мое состояние. Я по существу без всякой вины выброшен из общества, заклеймен позором, всеми презрен, всеми отвержен. Я стар и более, может быть, немного более мнителен, чем все нормальные люди. Мое положение в течении этих 8-9 лет убеждает меня в том, что я "лишний" человек на земле. Просто неудобно сразу убить. Меня "терпят" кормят лишь бы не умереть, предоставляя все остальное доделать "времени". Кончилось назначенное мне время сидки, но я почти досиживаю уже II срок и конца не видно. Никто обо мне не вспомнит, не говоря о обществе, даже "канцелярия" не позаботится обо мне, чтобы выполнить свой долг и освободить меня. Меня уже нет в живых, я видно уже списан со счета; не считают даже нужным сообщить до какого времени будут продолжать мои страдания. Но я то ведь сам себя еще считаю живым. У меня есть чувства. Я еще мыслю, переживаю! И вот Элечка в такие минуты тоски, отчаяния, я, как утопающий, набросился на Вас, моих детей с упреками, умоляя, требуя помочь мне, спасти меня. Я как человек, потерявший голову, стал биться лбом об стенку, кричал, бесновался, вместо того, чтобы сохранить спокойствие и хладнокровно все обдумать. прости меня Элечка, за мою глупую невыдержанность, но я чувствую, что при моей внутренней конституции, моя психика вряд ли долго выдержит. Я переживаю сейчас то состояние, которое переживает человек "обреченный" на смерть и пожизненные муки. Я слышал, что многие пережившие это или сходили с ума или седели за ночь. Я борюсь с этим настроением, но часто не в силах совладать с собою. Очень тяжело. Часто мечтаешь о смерти, как о наиболее простом и легком выходе.
Вот Элечка коротко о том, что со мною делалось, когда я обращался к Вам за помощью, вот это состояние владеет мною и сейчас. Жить хочется, но разве это жизнь? Я очень жалею, что стал обвинять Вас в том, что у вас по отношению ко мне не осталось ни любви ни привязанности и это тяжелое обвинение сделал на основании того, что вы ничего не сделали для моего освобождения. Как будто Вы что либо были в силах сделать! Не учел я той обстановки в которой Вы живете, не учел того проклятия, которое тяготеет над Вами благодаря вашему отцу! Ведь старых друзей никого не осталось. Даже просто знакомые отвернулись. Другое дело если бы я был мертв. Тогда может быть опять постепенно раскрылись старые двери. Тогда вам легче было бы пробить себе дорогу в жизнь собственным умом и кулаками. Все это стало для меня ясно, когда я получил Твои письма. Не вы не хотите, а Вы не можете и сколько бы ни "плакала от горя, бессилия и злобы" не прошибешь бечувственного камня. Напрасны видно всякие усилия. Надо спокойно ждать, как время само повернет судьбу. Пока Твой отец – обречен. Как это ни горько и ни тяжело, но это видно факт. Надеждами я себя уже никакими не утешаю. Мне видно здесь могила и Вас родных любимых дорогих детей и жены мне больше не видать. Но пока я жив, пока еще хоть немного бьется сердце я буду жить только мыслью о Вас, сознанием, что меня все-таки любят двое невинных чистых существ вопреки всему миру. Не забывайте меня – ваши письма единственное для меня утешение в оставшейся мне жизни. Но если связь с отцом может причинить тебе неприятности или компрометировать, брось меня, думай о себе, только о себе, Твоя жизнь вся впереди, а я мертвец. Я то теперь все равно знаю, что вы меня любите.
Ты спрашиваешь, куда пойти, что делать? Теперь не знаю. Знакомств нет, обращения не помогут. Кроме унижений для себя ничего не добьешься. Остается только писать в официальные учреждения и то без особой надежды на успех. Не Вам, молодым, неопытным такие дела проворачивать!
Когда я вам писал, по наивности перебирая в памяти тех людей, с которыми сталкивался в жизни, думал, что они может быть что либо сделают. Это были следующие люди:
1. Калинин Михаил Иванович – Председатель Президиума Верховного Совета СССР
2. Маленков Секретарь Ц.К. ВКП(б)
3. Егоров Сергей Егорович (о нем уже писал) он работает не в НКВД, а говорят Министром Цветной металлургии.
4. Малышев Вячеслав Александрович – Министр транспортного машиностроения
5. Кржижановский Глеб Максимилианович – работал в Академии Наук ССР – Директором Научно-исслед. Института энергетики.
Об этих людях я думал, но видно напрасно. Они видно будут в лучшем случае реагировать как Зайцев А.Н., а может быть и хуже. Если бы захотели могли бы меня освободить первые двое, а устроить на работу остальные трое. Но вряд ли они захотят себя пачкать (хотя первые 2 так высоко стоят, что это их не запачкает).
Я Вам ничего не советую, ничего не прошу, так как на успех не надеюсь. Если у вас есть действительные друзья посоветуйтесь с ними.
Родная Элечка, маленькая дорогая Светка! Шлю Вам свое благословение. Желаю вам счастья в жизни. Берегите маму и бабушку. Они одни Вам остались в этом мире.
Я вас крепко, крепко люблю. Вами только живу.
Не питайте ко мне обиды, что так много горя из-за меня пришлось Вам перенести.
Привет Маме, пусть на меня не сердится, пусть хоть пару слов чиркнет мне.
Твой Папа
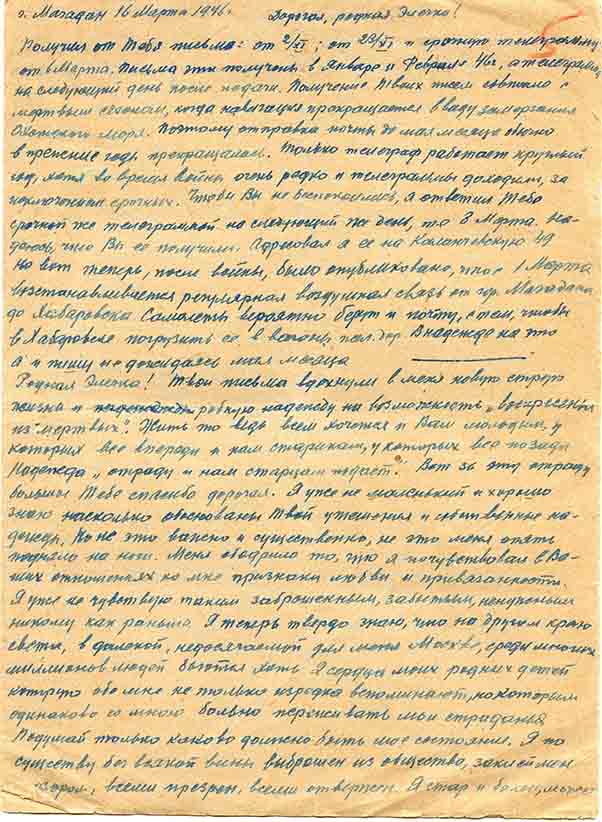
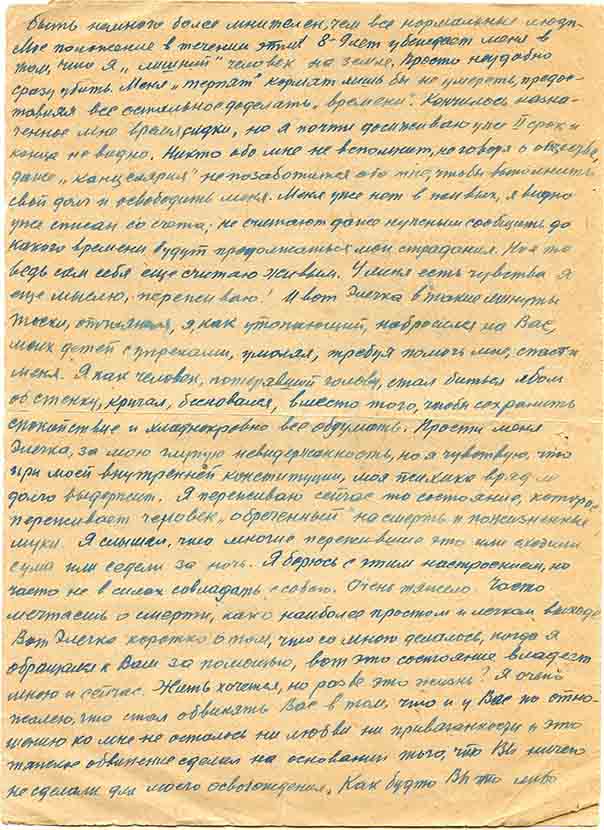
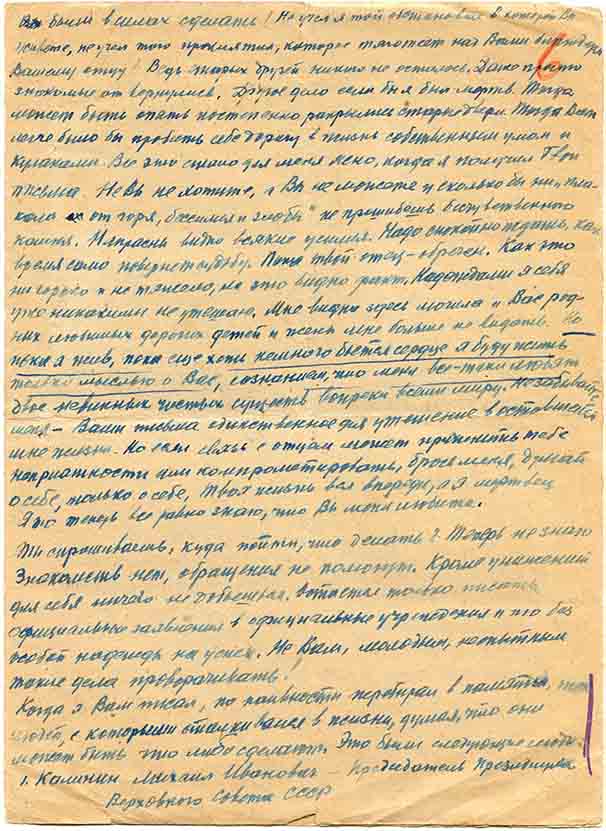
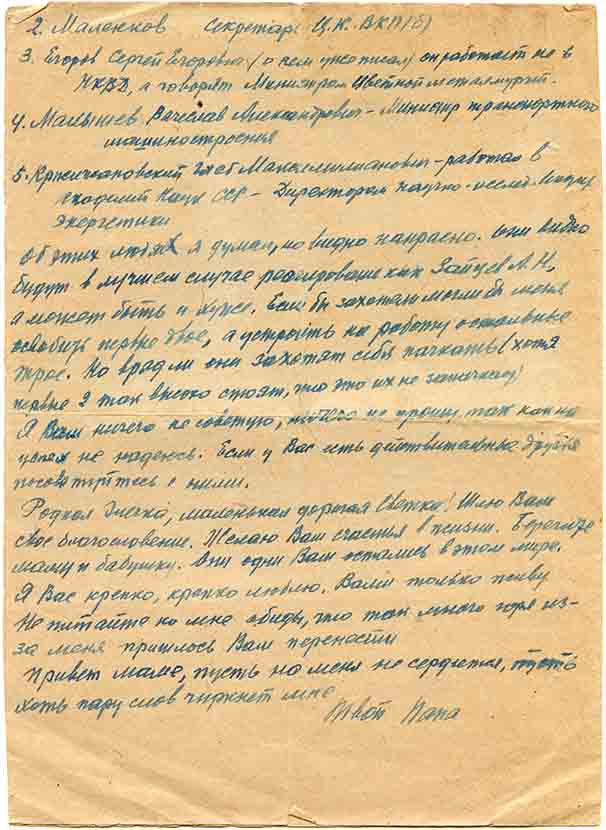
23 марта 1946 г. Письмо №2
Дорогая родная моя Элечка!
Решил написать Тебе специальное письмо на Твое от 23/II-1946 г.
Оно настолько содержательно, так тепло, так много в нем новых мыслей и надежд, что нужно подробно на нем остановиться.
Настроение у меня убийственное. Потерял всякую надежду когда либо вновь увидеть свободу. На самом деле ведь вот уже скоро будет 9 лет вместо 5, то есть проходит уже второй срок. Конца же не видать. Знал бы хоть срок, а то мое воскресенье к новой жизни может произойти завтра, а то и после того, как уже буду исключен из списка живых. Все время напрашиваются аналогия с обреченным. Раньше я строил планы на будущее, мечтал о нем, ждал с нетерпением, готовился к этому великому историческому дню моей жизни, а теперь у меня полное безразличие, вялость к себе, покорность судьбе. Что будет то будет, мне все равно. Отношусь к себе как к постороннему предмету, как к щепке которая плывет на волнах реки. Была надежда, что авось Вы сможете что либо сделать, теперь и эта надежда рухнула – Вы бессильны, я это теперь понимаю. Но твое письмо настолько необычное, так проникнуто горячим участием к моей судьбе, что поневоле заражаешься твоим оптимистическим настроением и вместе с Тобою опять начинаешь надеяться и мечтать о несбыточном будущем. Дай Бог, чтобы Твои надежды на мое скорое освобождение сбылись. Ты ближе к центру, иногда кое с кем приходится говорить и Тебе больше известно. Но не кажется ли Тебе, что судьба Твоего отца зависит от показаний политического барометра нашей страны? А тучи как будто опять сгущаются – Черчиль грозится и бряцает. Не отразится ли это на мне? Я всего боюсь. Тут у нас уже уже 2 месяца как была поднята кампания со стороны начальства об освобождении тех пересидчиков за которых будет ходатайство производства как о лучших работниках. И я попал в этот список. Готовился со дня на день к освобождению. Говорили что вот-вот свершится. И так в этом громадном нервном возбуждении прошло два месяца, а воз и ныне там. Ох как изматывает это ожидание, этот переход от надежды к отчаянию!! Главное, что и до сих пор об этом говорят, что это должно совершиться, так что искорка надежды теплится где то под спудом. Такие освобождения делались и до сих пор и год и 2 и 3 тому назад. Начальнику Дальстроя дано право и своей властью освобождать пересидчиков за хорошие производ. показатели с условием закрепления их за Дальстроем. Но это право почти не использовалось и если иногда освобождали то это были единицы, вокруг которых поднимали большой шум и вся эта мера имела лишь символическое значение. Из многих сотен представленных освобождали лишь 2-3 человек и почти никто из нас не замечал этого. Могу ли я после этого надеяться, что попаду в число счастливцев?! Я часто думаю о том, что Ты пишешь, а именно о том, что весной этого года должен быть решен вопрос в целом о "пересидчиках". Это естественно и весьма вероятно, что этот вопрос должен быть скоро как то решен. Весь вопрос в том в каком году будет эта радостная весна и доживу ли я до нее. Но ничего ведь другого мне не остается кроме одного совета – "ждать". Я жду. Видно, что никто мне в этом вопросе помочь не может. Прихожу к выводу, что "для очистки совести" пожалуй мне остается написать официальные ходатайства-просьбы: 1) в Президиум Верховного Совета 2) в Верховный суд или Верховному прокурору 3) Министру Внутренних Дел. Наперед знаю, что из этого ничего не выйдет, но может быть это следует сделать для очистки совести, чтобы сознавать, что сделано все от меня зависящее. Посоветуйся, если кто либо есть, с друзьями своими. Кстати кто такой "дядя Митя" как его фамилия? <Дмитрий Павлович Кирик, друг детства жены А.А., минчанин, иногда бывавший в Москве>.
Кроме заключения меня сильно беспокоит и само место жительства. Климат и особенно отсутствие овощей и фруктов (то есть витаминов) свели мое здоровье почти к нулю. У меня сильный порок сердца и цынга – две болезни, которые можно хоть немного облегчить южным климатом. И вот эти болезни возможно также помогут мне выбраться отсюда. Правда они не дадут мне свободы, но возможно что меня отправят "на материк" в другой лагерь, где будет хоть легче дышать, где пройдет цынга и вялость, где письма до Вас будут доходить не в 3 месяца, а самое большее в 2 недели, где между нами не будет замерзающего моря. В прошлом году отправили в 3 приема таких же больных как я. Моя очередь была в декабре. Но я отказался поехать, так как боялся пускаться в дорогу по морю зимой. В Охотском море в это время бури и штормы. Будь я вольный дело другое, а то болтайся 12-14 дней по морю беспомощный, полуголодный, а потом по этапам и пересылкам. Надеюсь что в списках подлежащих отправке я есть и сейчас и, как навигация опять откроется, меня могут отправить на "материк" (так у нас называют все места кроме Колымы). Там мне конечно будет хуже, так как уже придется работать не по своей специальности, а на общих работах и хлеба будут давать меньше. Но зато там будет теплее, там будет вдоволь овощей, там легче и быстрее можно с вами связаться и главное уже выйду из ведения Дальстроя. Вот Элечка и эта перспектива является для меня вполне реальной, если не освободят до этого времени. Если это случится, то попрошу товарища дать Тебе срочную телеграмму "уехал материк". Обычно отправляют в бухту Находка, в 80 килом. от Владивостока по железной дороге. Новый адрес уже сам сообщу Тебе.
Теперь по существу Твоего письма. Настроение у Тебя действительно весьма оптимистическое. Оно и меня настроило на радостный и мечтательный лад. В моем положении, только в мечтах и заключается жизнь! Ты мечтаешь о том, что может быть будет после моего освобождения. Как будто этот основной вопрос уже решен или вот-вот должен решиться. Но Элечка это не так. Может быть придется еще долго ждать; может быть мне еще придется умереть, что и могилы моей не сыщешь. А может быть что Вам придется еще постучаться в офиц. учреждения, чтобы Вашего папу вернуть к жизни. В последнем случае Вам пожалуй надо действовать только официально или через НКВД или Генерального Прокурора или Верховный Совет. Сейчас ставить вопрос о том, что будет после освобождения – это значит "делить шкуру неубитого медведя". Но я согласен и на это. Ведь приятно принять мечту за действительность. 1 вопрос где жить? Я сам не хотел бы жить в Москве. Здесь все напоминало бы мне о прошлом. Здесь жизнь очень нервная, беспокойная. Мне хотелось бы жить там, где спокойнее, где тепло, климат подходящий, фруктов, овощей много, где жизнь дешевая и можно притти в себя, поправить здоровье мне, маме и Светке. Мы ведь все так истрепались, исстрадались. Такими местами могут быть южные районы; южнее Москвы. К месту я предъявил бы только требование, чтобы это было не деревней, а городом где есть 10летка (для Светки), чтобы недалеко был культурный центр с высшими и средними учебными заведениями. Последнее условие я выдвигаю в расчете на то, чтобы Светке устроиться в ВУЗ после 10летки (так как возврат в Москву сомнителен). Кроме этого я все мечтаю, что мне рано или поздно удастся, все таки удастся устроиться на педагогическую или учебную работу во ВТУЗ'е или Техникуме, а еще лучше на научно исследовательскую работу. Такие "возможные" места если на карте возьмешь крупные центры на Юге или Юго Западе (от Москвы) например Самара, Саратов, Воронеж, Ростов на Дону, Новочеркасск, Харьков, Брянск, Киев, Днепропетровск, Одесса, Львов и проведешь окружность радиусом 80-120 километр. Как видишь это не обязательно столица или областные центры – главное, чтобы там можно было найти работу. А это тоже не легкий вопрос. Не забывай, что я запачкан и не так охотно меня возьмут. На какую работу я был бы пригоден? 1) на преподавательскую или учебную работу 2) в какой нибудь исследов. Институт 3) в лабораторию на заводе или Институте 4) на производство по специальности, т.е. теплотехнике (на паровозный, котельный, локомобильный, турбинный завод, на электростанцию или заводским механиком, на железн. дорогу, по холодильному делу и проч.
Все это желательно, но мне выбирать не приходится. Соглашусь на что угодно вплоть до табельщика, сторожа, лишь бы можно было прожить и воспитать Светку, вывести ее в люди.
У Вас есть кой какие знакомые, может быть они могут помочь устроиться (скажем тот же дядя Митя) или можно обратиться с официальным ходатайством к какому нибудь большому человеку, стоящему во главе какого либо министерства. Из опубликованного списка министров я знаю и меня знает только один. Это министр транспортного машиностроения Малышев Вячеслав Александрович. Он учился у нас, был Директором Коломенского Завода. он как раз стоит во главе министерства, которое по моей специальности. У него должна быть всякая работа: и ВТУЗы и Техникумы и лаборатории и производство. И места есть подходящие – это Таганрог (у Азовского моря) и Ворошиловград (Луганск) и Бежица (около Брянска и Людиново)
Но возможно, что у вас есть знакомые поменьше чином, которые могут помочь устроиться. Я далек от жизни, особенно послевоенной экономики. Вам виднее – поручаю свою судьбу на твои руки. Как Ты решишь и куда решишь пусть так и будет. Главное бы освободиться, до этого нечего и думать о месте работы. Но к этому надо быть готовым. Ведь может случиться, что мне надо будет заявить куда хочу ехать, куда выписать билет (проезд к месту жительства должен быть бесплатным). Я себе представляю как приеду в новый город, никого не знаю, все смотрят подозрительно и настороженно, остановиться и переночевать негде; гоняют с места на место, чтобы сплавить. Другое дело, если буду знать куда ехать, если будет рекомендательное письмо, а еще лучше если на руках будет путевка – направление – вызов. Вот почему желательно, чтобы Вы в этом направлении что либо сделали, если можете конечно. Иногда маленькая записка, предварительный разговор может иметь решающее значение.
Но пока увы это только мечты – нет еще свободы. Ты пишешь, чтобы после освобождения заехать на 2 недели в Малаховку. Это опасно без разрешения. Другое дело проездом на сутки-двое с поезда на поезд. Если будет вызов из Треста или Министерства тогда дело другое. Поэтому нужно эти вопросы решить не дожидаясь личного свидания, с тем, чтобы я был информирован еще до выезда отсюда.
Твое предложение о продаже дачи. Благодарю Тебя за заботу обо мне. Но мне кажется, что с этим надо обождать. Сначала нужно устроиться на новой работе, чтобы узнать насколько прочна работа, освоиться с обстановкой жизни на новом месте, а потом уже решить вопрос о даче. Пока торопиться некуда, очень хорошо иметь дачу в резерве.
Насчет посылки денег? Думаю что у меня вряд ли хватит совести у Вас, голодающих просить материальной помощи. Только в самом крайнем случае, когда выхода действительно не будет, решусь на этот шаг. Пока же об этом и не думайте.
Вот кажется все по Твоему письму.
Большое, большое Тебе спасибо, за такое письмо. Побольше и почаще получать такие письма, тогда еще жить можно – хотя бы в мире грез и фантазий.
Ничего не знаю про Твою учебу? не знаю даже к чему Ты готовишься. Сейчас читаю биологию: Лункевич "Основы жизни". Вижу что это наука прямо необъятная, тут нужна какая то более узкая специализация. Что же Ты выбрала?
Целую Тебя, Светку и Маму
крепко крепко Твой Папа
Привет бабушке, Саше. Не забывайте меня!! Светке написал отдельное письмо, также и Маме только по адресу: Каланчевская 49 кв 23
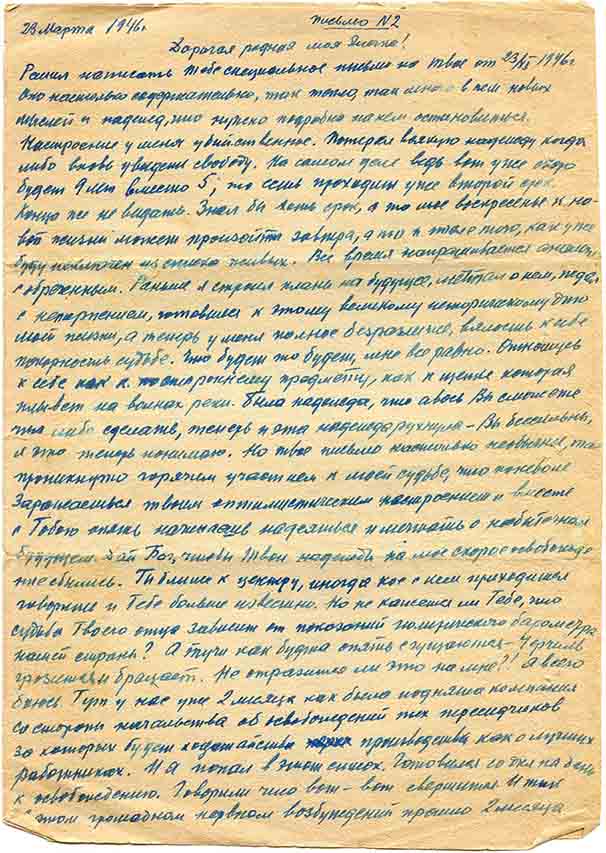
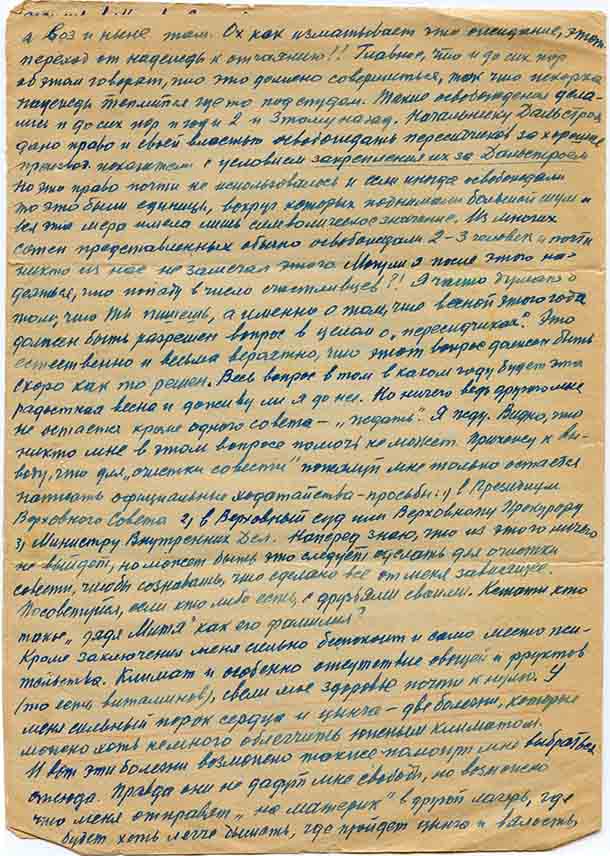
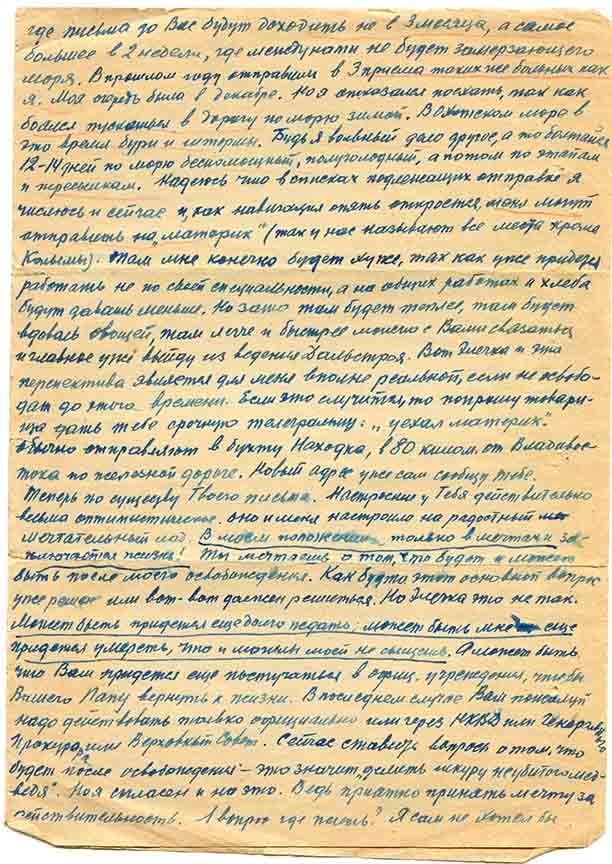
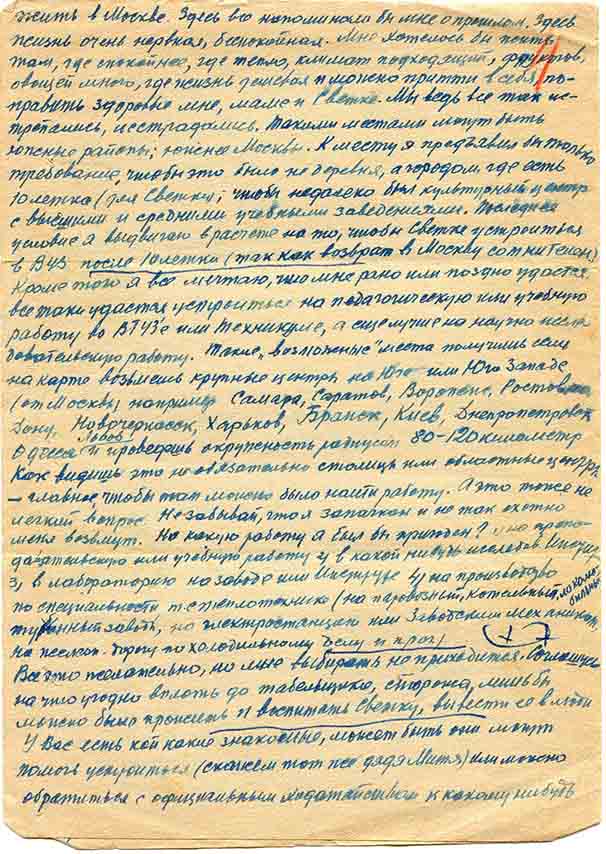
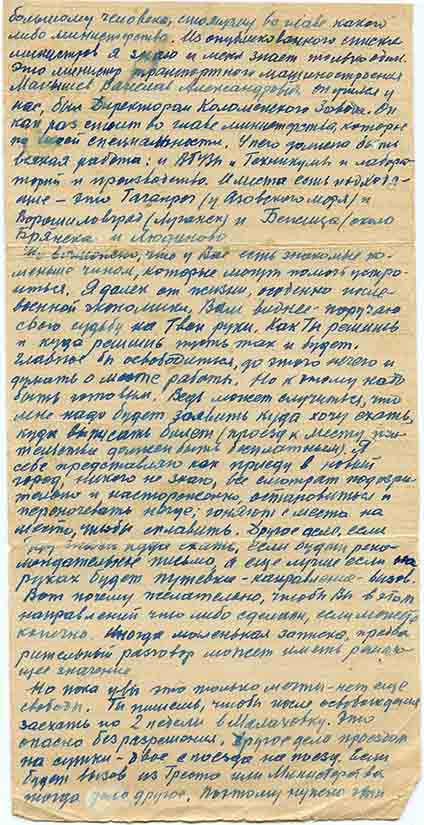
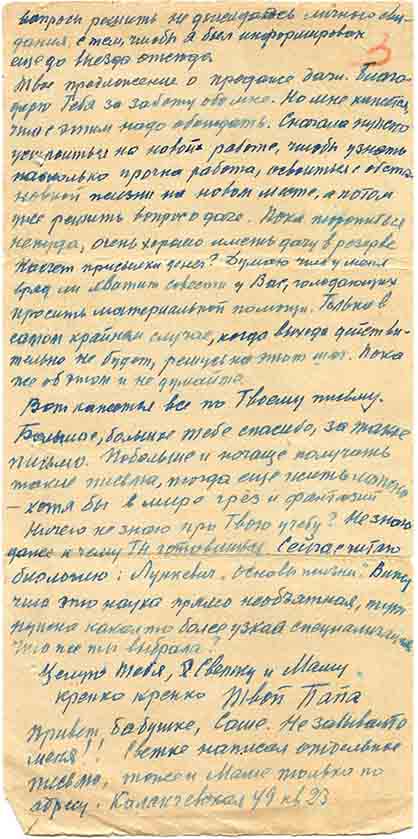
Следующая информация об А.А. – вполне «домашняя», но думаю, что и она может представлять какой-то общий интереc.
Адольф Августович Цибарт – из «польских немцев», в Польше осталась его семья, брат Бруно (Бруно гостил в Москве у А.А. в его бытность ректором МММИ) и сестра (помню ее подарки – долго висевшие у нас настенные коврики с изображениями гномов, по черному фону, очень искусные и интересные). В Польше, в Лодзи, А.А. получил среднее техническое образование (до МВТУ) – окончил мануфактурное промышленное училище, по специальности техника-текстильщика. Его родной язык, точнее родные языки – немецкий (говорил по-немецки с детьми), и, разумеется, польский и русский. Знал также французский. В МММИ недолго занималась немецким и жена Адольфа Августовича Мария Иосифовна.
Какую роль А.А. играл в ВКП(б), кроме хозяйственной и административной работы, при каких обстоятельствах вступил в марте 1917 г., т.е. еще до революции, в РСДРП, знаю только из внешних источников. Вообще, вся биография А.А. мне представляется историей крупного ранне-советского, «плоть от плоти», но уже профессионально квалифицированного промышленного деятеля, с энтузиазмом стремившегося в тех условиях приносить и приносившего пользу, имевшая свою закономерную трагическую развязку. Не мое дело давать деятельности А.А. Цибарта оценки, я для этого и не компетентен, но одно кажется несомненным: он всегда стремился осуществить лучшее из возможного в тех обстоятельствах, какие были, и как правило ему это удавалось блестяще.

Мария Иосифовна Цибарт
:
Со своей будущей супругой, Марией Иосифовной (дев. фам. Сыч; мать – Зинаида, по первому мужу Шарий, в дев. Кругликова) – А.А. познакомился в Минске до 1923 года, когда ему было 30, она на 10 лет моложе его. В это время, как я уже сказал, он занимал какой-то видный пост (точнее: был председателем Белорусского ВСНХ и пр.), она служила кем-то вроде секретарши. Наверное, женитьба на М.И. может рассматриваться как довольно смелый или по меньшей мере независимый шаг для деятеля-коммуниста – ее старший брат Николай был расстрелян без суда за переход польской границы. (Ее отец – поляк, брат в Польше учился по какой-то ремесленной специальности и возвращался домой, когда его и застиг соответствующий указ. Ночью того дня, как рассказала однажды М.И., ей привиделся сон – этот ее любимый брат прислал ей из Польши завернутый подарок, им оказалось черное платье, которое под ее руками превратилось в труху; а утром постучали в окно и сообщили о расстреле. Семья побежала в лес, где это произошло, и застала уже только ужасные следы убийства.) «Неблагонадежным» был и отец М.И. – Иосиф Игнатьевич, правоверный и даже фанатичный католик, ходивший защищать минский костел, как бабушка говорила, «с топором», к тому же из дворян (правда, обедневших, неграмотный, столяр-краснодеревщик). Женился на матери М.И., православной и к тому же имевшей уже детей, очень поздно, для чего запрашивал разрешения папы римского. Ежедневно посещал он московский костел и проживая в доме А.А. и М.И., и вел какие-то дискуссии с А.А. Умер в возрасте за 90 лет, увидев сон, где предвещалась его кончина, и предупредив утром детей, чтобы не задерживались на работе. Единственная его фотокарточка показалась НКВДшникам подозрительной, ее во время обыска и ареста А.А. забрали.
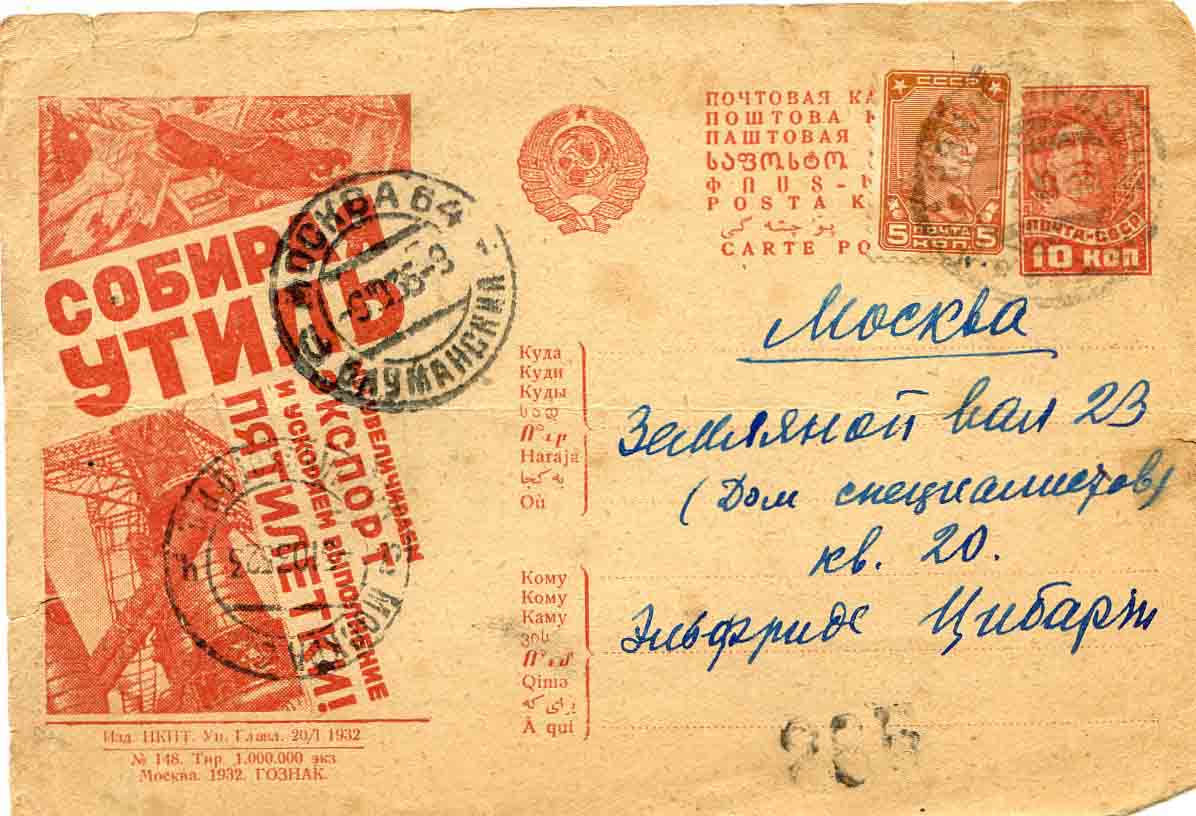
Когда начались повальные аресты, и в Доме специалистов (в народе «доме с гастрономом») на ул. Чкалова, 23, где жил в то время А.А. с семьей, люди не могли спать, вслушиваясь по ночам в звук лифта – на каком этаже остановится (как это слово в слово, как говорила бабушка, описано у Солженицына), и в итоге кто был арестован, а кто уехал («остался один Ойстрах»), А.А. успокаивал жену и дочь, мол, или действительно за арестованным была какая-то вина, или «разберутся» и выпустят. Возможно, он сам в этом и сомневался, но, во всяком случае, когда арестовали и уводили ночью его самого, его последние слова, обращенные к жене, были – «не волнуйся, я завтра вернусь». – До ареста А.А. ни он, ни М.И. не избегали семей арестованных, как-то помогали им (это бабушке запомнилось, наверное, особенно потому, что, когда был арестован сам А.А., большинство прежних хороших знакомых при виде М.И. перебегали на другую сторону улицы). А.А. как-то спросил М.И. в письме из лагеря – многие ли из прежних друзей еще помнят ее адрес?..
Впрочем, один бескорыстный друг у нее оставался всю жизнь – друг детства, минчанин Дмитрий Павлович Кирик, который периодически бывал в Москве и непременно заходил к нам, и, конечно, вел с М.И. и семьей переписку. О его помощи семье несколько раз упоминается в письмах А.А. Он был выпускником МАрхИ, художник, декоратор (его старший брат, тоже учившийся в Архитектурном, увековечен там на мраморной плите как студент, погибший на фронте). Сам «дядя Митя» тоже сидел, затем из лагеря был выпущен на фронт, и однажды во время войны каким-то образом помог Марии Иосифовне, используя статус фронтовика и назвавшись ее братом; это было необычайно смело, поскольку та была женой «врага народа» и сам он тоже рисковал вернуться в лагерь. Смотря на жизнь Марии Иосифовны, он восклицал: «Мурка, ты десятижильная!». Когда в 1980-х из Минска пришло известие, что он умер, бабушка плакала.
Была и подруга, конечно не из прежнего окружения, рабочая-метростроевка Муся Флейшер. Ее физической силе удивлялась даже М.И., привыкшая к физическому труду. Дружила М.И. также с семьей директора гастронома (на Чкаловской?) Давида Ратнера (о нем чуть ниже).
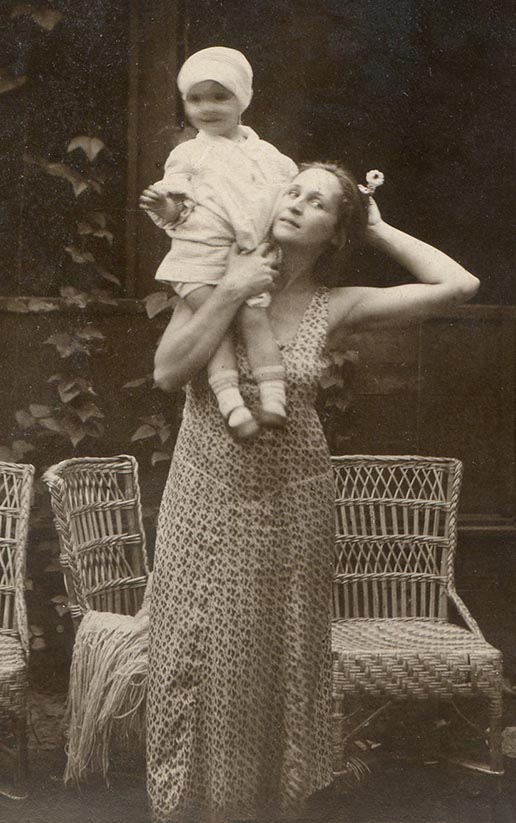
Сама М.И. закончила лишь 8 классов гимназии, и потому, к сожалению, профессиональная сторона жизни А.А. была для нее скрыта. Во всяком случае, о каких-то неприятностях по работе или интригах, предшествовавших аресту А.А., М.И. не рассказывала. А они были. Уже в марте 1937 года, за восемь-девять месяцев до ареста, институтская газета обвиняет А.А., директора института, в «подхалимстве» перед «вредителем» Петровским (арестованным 11 марта и расстрелянным еще до ареста А.А.) – редактором журнала, в котором он регулярно публиковал свои заметки о жизни института. По сообщению институтской газеты «Ударник» (13 января 1938), некоторые члены парткома и после марта 1937 г., времени начала политической кампании против А.А., продолжали встречаться с «гнусным вредителем, пробравшимся к руководству институтом» в семейной обстановке. Незадолго до ареста А.А. исключают из ВКП(б), что однозначно указывало на худший исход. Но Марии Иосифовне, похоже, ничего об этом не было известно, – что говорит о характере А.А. – Помнятся рассказы бабушки о совместных с А.А. поездках в дом отдыха для сотрудников и студентов МММИ в Ермоловске, времяпрепровождение там было для нее вполне беспечным. – Тут, кстати. – А.А. и М.И. помогали многим, и родным и чужим людям, и одна женщина из Ермоловска (тогда уже Леселидзе), в судьбе которой А.А. принял какое-то доброе участие, жила у нас где-то в году 1965-м! (К сожалению, не помню, в чем состояла драма той женщины; кажется, она была тогда ребенком и осталась по каким-то причинам без родителей.)
До назначения ректором, А.А. был в т.ч. директором Илецкого солевого треста в Оренбурге. Там в декабре 1923 года родилась его первая дочь Эльфрида Леокадия – в том же месяце, 12-го числа, когда А.А. и М.И. прибыли в Оренбург. Представляю себе, сколь трудным для беременной М.И. был этот переезд из Москвы в Оренбург, но точно знаю, что это было ее собственным решением. – Мелочь: оклад А.А. был в то время ограничен «партмаксимумом» и он подрабатывал писанием заметок, наверняка – на производственные темы, и еще, как говорила М.И., фельетонов. (В Оренбургской газете «Смычка», в подшивке за август 1925 г., выложенной Оренбургской библиотекой им. Крупской в интернет, я даже нашел крошечную критическую заметку за подписью «дядя Адя». Также «подозрительными» мне кажутся псевдоним «Приезжий», хроники научных открытий и пр.) Илецк, тогда Илецкая защита, находится в 70 км от Оренбурга, но какие-то смутные упоминания бабушки о тружениках соляного рудника были. Как я понимаю, это были заключенные. А в книге: Н. Секерж. Илецкая защита. Чкалов, Огиз 1941, на стр. 45 написано: «На окраине Илецкой защиты, неподалеку от построек соляного рудника, в 1924 году зародился маленький больничный городок». Думаю, Цибарт имеет к этому прямое отношение – чего ради было строить больницу рядом с рудником, если не для заключенных – упомянуть же его в этой книге прямо нельзя было, поскольку на тот момент Цибарт числился «врагом народа».
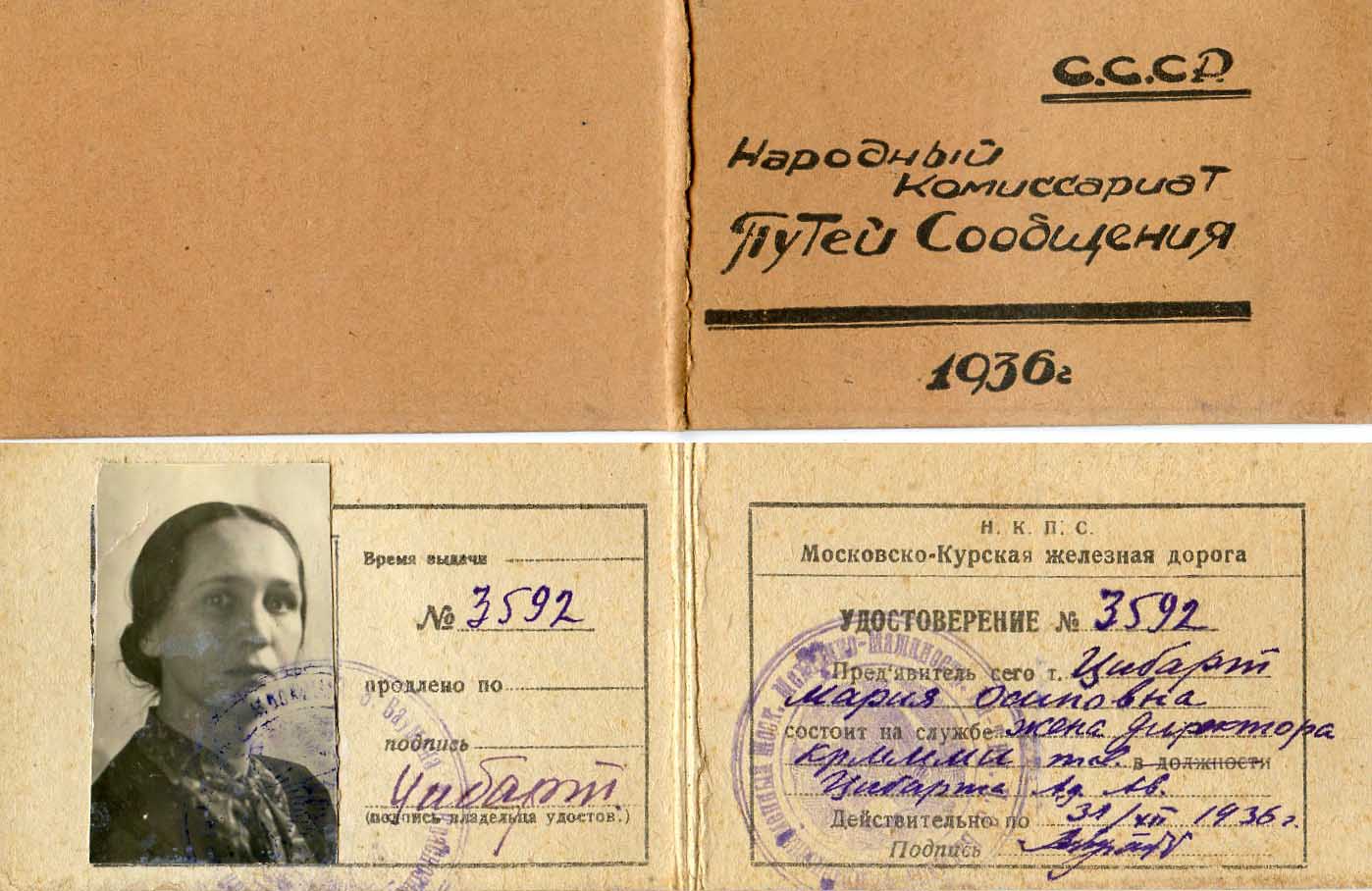
Младшая дочь, Светлана, родилась через девять лет, в Москве.
Судя по дневнику А.А., возвращенному мне архивом ФСБ в 2016 г., отношения супругов не были совсем уж безоблачными – но, во всяком случае, другими воспоминаниями, если они и были, взрослые с нами не делились. Несмотря на занятость (уезжал рано, приезжал обедать на ведомственной машине, обязательно спал 15 минут и снова уезжал до ночи; к слову, кроме машины, ему полагалось и личное оружие – револьвер), – он был заботливым, а также удивительно терпимым и покладистым супругом, добродушно терпел разные шутливые «притеснения» своей молодой красавицы жены. (Например, как-то на групповой экскурсии в горы М.И., устав от своих туфель на высоком каблучке, предложила А.А. поменяться с ней обувью, что «Ацек» и исполнил, – и другое в этом роде. – Прошу меня извинить за столь пустяковое сообщение.) – В театры, на концерты и пр. М.И. ходила с кем-то из общих знакомых (это могли быть и студенты), – А.А. было некогда, а если удавалось его вытащить в театр, то он там засыпал. Для отдыха он предпочитал решать математические задачи. – В это время была у М.И. в числе подруг одна актриса, кажется, ее звали Ирина Семеновна Павиль; М.И. восхищал ее веселый нрав, необыкновенная красота («точеная фигурка») и спортивность, способность делать разные акробатические трюки. – Многолюдные домашние приемы устраивались регулярно, видно, в этом была какая-то организационная необходимость. Были, в частности, какие-то ученые немецкие гости института, поразившие М.И. тем, что, не притронувшись к ее угощениям, каждый вытащил из портфеля и ел принесенный с собой бутерброд. – Но никаких домработниц у А.А. никогда не было, М.И. все любила делать сама. – По выходным А.А. рассказывал дочерям сказки «с продолжением», устраивал «кучу-малу» с приходившими к дочерям детьми и т.д. – Любил собак – овчарок умницу Леди и сердитого Фрица.
Здесь надо сказать, что М.И. была жизнью отнюдь не избалована (о трагедии с братом я уже упомянул), с детства она привыкла к постоянному труду. Была А.А. другом и помощником, всегда следовала за ним во все трудные (климатически, например) командировки, вообще была человеком долга, любила, как она говорила, слово «надо». Она вызывала невольное, какое-то рефлекторное уважение к себе. Кроме самых близких друзей, никто не обращался к ней иначе, как по имени-отчеству – Мария Иосифовна, так что все дети даже думали, что ее зовут «Марёсина»... Кроме того, она была на редкость вынослива и физически сильна – что помогло ей выжить и вырастить детей, в последовавших после ареста А.А. мытарствах. Все эти мытарства описывать здесь, конечно, не место, но кое-что относится и к А.А.
Имущество А.А. конфисковано не было, и семье осталась дача в Малаховке (то есть эту дачу через некоторое время, почему-то разгромленную, вернули). Из квартиры, как я понимаю, семью предполагалось выселить; однажды в присутствии М.И. комнаты, как рассказывала М.И., осматривал полярник Папанин, и, как я теперь думаю, не поняв обстановки, спросил у сопровождавшего его домуправа: «а кто здесь жил?» – и тут она, не выдержав, устроила ему разнос. – Затем в квартиру подселили семью некоего М., «инженера-зверя», фамилию которого я слишком хорошо помню, т.к. о нем бабушка, мама и тетя вспоминали часто. Этот М. устроил им настоящую травлю, как семье «врага народа», а в конце концов, при попытке разъехаться с ним, путем каких-то мошеннических махинаций вовсе выселил из квартиры «без предоставления жилплощади», то есть в самом буквальном смысле лишив крова над головой. Мебель была выставлена на улицу, а М.И. заявлено, что если до вечера того же дня она не уберет ее, это будет рассматриваться как антисоветская агитация (и М.И. всю жизнь хранила благодарность директору гастронома Давиду Ратнеру, распорядившемуся спрятать эту мебель в магазинский подвал)… Они жили то там, то там, в конце концов им предоставили комнату в ужасном деревянном, невероятной длины бараке. (Этот барак на Каланчевке я помню. В нем еще долгое время жила с мужем тетя Света, дочь А.А., и я году в 1958-м, когда мне было четыре, провел у них недели две. К счастью, к этому времени оттуда уже куда-то отбыл тиранивший всех его обитателей молодой бандит – по имени, конечно, Ляля.) А.А. спрашивал М.И. в письмах из лагеря – с ее слов: «почему ты меняешь квартиры?». – У А.А. также была очень большая и ценная библиотека (в которой, как запомнила М.И., А.А. знал точное место каждой книжки; моя мать помнила из этой библиотеки не только Шиллера, Гете, Диккенса, Метерлинка и др., но и не вполне угодных советской власти дореволюционных авторов, напр. Апухтина); так вот, А.А. также советовал в этих письмах – «продавай книги и корми детей». Однако во время обыска эти книжки вываливали с полок на пол, топали по ним в сапогах, а после того, как забрали А.А., увезли, набив ими отдельный грузовик, и книги. Вернуть М.И. библиотеку было отказано – потому, как объяснили, что «не составлялась опись». Единственный материальный знак директорства Цибарта в МММИ, оставшийся в семье – это бронзовый бюст Мефистофеля с выгравированной надписью: «А.А. Цибарт. В знак пятилетней работы от В.Р. и Н.П. 1930–35 г.» Кому могли принадлежать эти инициалы, я не установил.
На следующий после ночного ареста А.А. день, в школе, как рассказывала мама (Эльфрида Адольфовна), классная руководительница (или кто-то другой) при всех сорвала у нее пионерский галстук – с какими-то ужасными злобными комментариями, которых дословно не могу воспроизвести. Школой этой была «Радищевка» – та самая опытная школа при Наркомпросе, над которой вел шефство Бауманский институт – очевидно, событие было ожидаемо. Впрочем, как я теперь узнал, у директора школы З.Н. Гинзбург муж был расстрелян в 1937 г., также и сама она затем провела в лагере 8 лет, и воспоминания о ней остались только самые лучшие; как соотнести рассказ о сорванном галстуке и последнюю информацию, можно только строить предположения.
Долгое время после ареста А.А. Марию Иосифовну вызывали, каждый вторник, в какое-то место НКВД. Следователь клал перед собой на стол револьвер, и с матерными оскорблениями и угрозами расстрелять требовал от нее каких-то признаний. В конце концов она грохнула перед ним на стол стоявший там мраморный письменный прибор, с криком «расстреливай!». Вызовы прекратились.
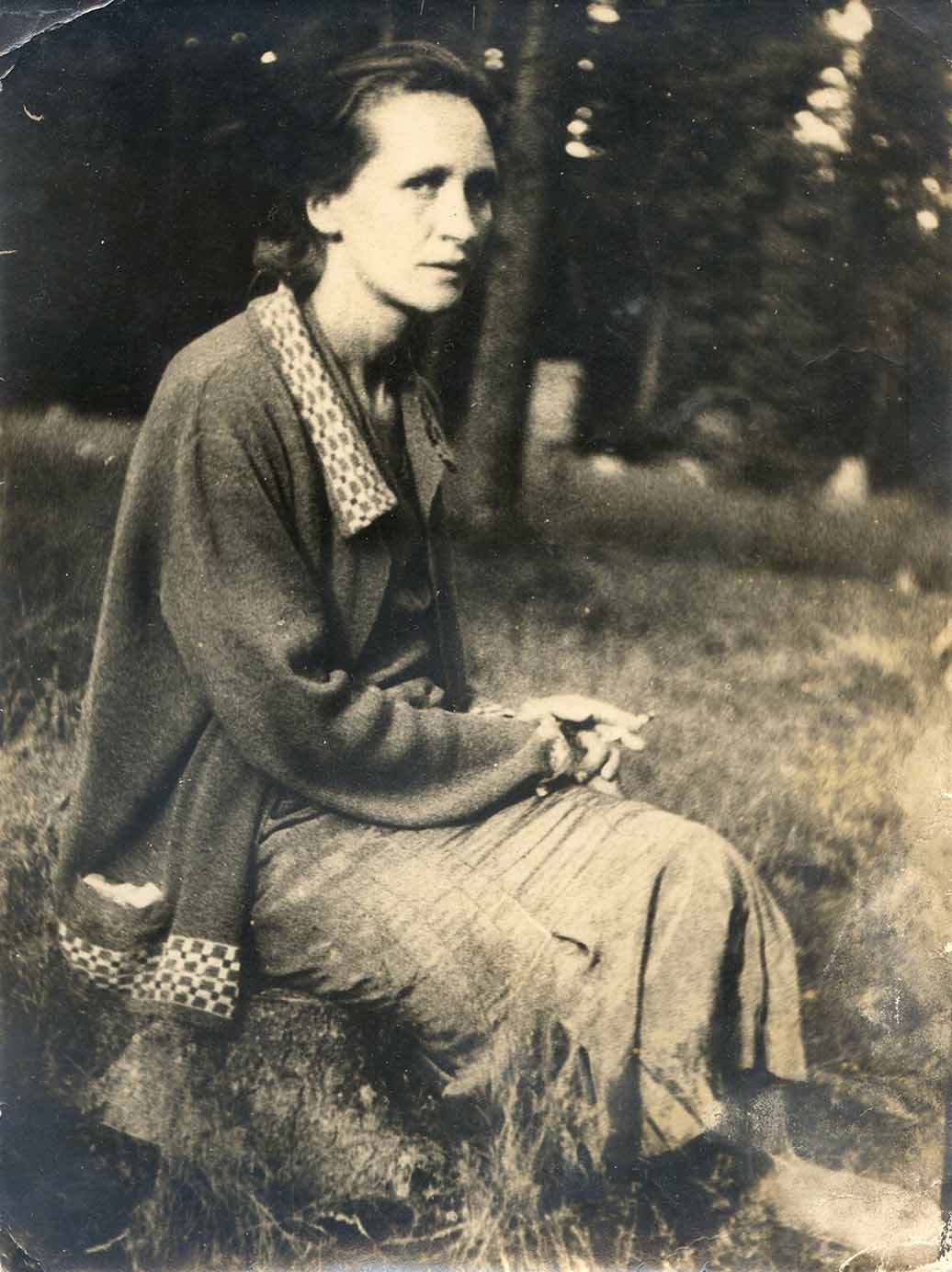
Мария Иосифовна Цибарт. Фото после 1937 г., Малаховка
Однажды, когда М.И. сидела за кассой в гастрономе, куда поступила работать после ареста А.А., к ней подошел какой-то незнакомый старик и обратился – «Мария Иосифовна!» В нем она с трудом узнала инженера, сотрудника А.А. (фамилия кончалась на «...овский»; К.И. Жебровский?), прежде молодого и сильного. Как выяснилось, он был отпущен с Лубянки; «меня там так чествовали и приветствовали, – были его слова, – что не оставили ни одного зуба».
Передачи (когда их разрешили) принимались где-то во дворе Кузнецкого моста, и М.И. вспоминала, что только людьми с нечастой фамилией на букву «Ц» был набит весь двор так, что нельзя было пошевелиться, «одни головы». Возможно, это был двор того самого дома, где в настоящее время находится читальный зал архива ФСБ.
Ходила она к Крупской – та, едва услышав, в чем дело, встала, принялась гладить ей плечи и говорить что-то вроде «что поделаешь» или «дорогая моя, дорогая моя» – увы, не помню… Ходила к Маленкову (впрочем, за это сведение не ручаюсь, возможно, то был Захар Малинкович). – Обращались и к другим людям, не помню уже, каким.
 |  |
| Эльфрида | Светлана |
М.И., с ее 8-ю классами женской гимназии, не имела никакой специальности. Еще в 1936 г. был репрессирован ее брат (Александр Шарий), его жена впала в помешательство, к ней приходилось до самой ее смерти ездить в Белые столбы, а сын Костя, очень озорной и трудный мальчик, на несколько лет срока заключения Александра «достался» М.И. (Его она отказалась, несмотря на давление какой-то комиссии, отдать в детдом. Об этом вспоминали так: пришла какая-то чванливая женщина с бумагами, озирала стены и потолки, и протяжно спросила: а что-о он у вас тут е-ест? – на что мать Марии Иосифовны отрезала: «марципаны!» И ответ этот почему-то комиссию удовлетворил.) Также на руках М.И. осталась упомянутая престарелая мать, которую позже, из-за громкого стука участкового милиционера, разбил паралич... Жил, несмотря ни на что, и подобранный детьми воробей Тива, на «Тиву» откликавшийся «тив!» и забиравшийся к М.И. в пучок. – Как жене «врага народа», Марии Иосифовне, поменяв множество работ – в т.ч. официантки, от чего она вынуждена была отказаться из-за приставаний клиентов – пришлось трудиться на самых невыгодных условиях (в каком-то большом гастрономе, не знаю на Чкаловской ли, сутки на работе и только сутки отдыха, вместо положенных трех). Оформлена она была, по той же причине, не совсем официально, так что при появлении любого начальства директор начинал громко петь с лестницы «раскинулось море широ-око!» и она скрывалась. В ее обязанностях было сосчитать выручку, составить общий отчет за сутки и сдать деньги инкассаторам; подпись под ведомостью ей было поставить трудно, поскольку правая рука после ареста мужа начала трястись, так что ее приходилось прижимать к столу левой, и развитие этой болезни грозило потерей работы; опасность представляло и ночное сидение за деньгами в полном одиночестве (ни о какой охране я не слышал), и ночной прием инкассаторов, т.к. вместо них вполне могли оказаться и бандиты, и ночное пешее возвращение с работы домой. Началась война. Как я уже говорил, зимой 1943–1944 подселенный в квартиру жулик умудрился вовсе выселить их из квартиры, и жили в бараке. Однажды ночью, когда бабушка возвращалась с работы, неся в сумке наломанные дощечки от магазинской тары (отапливались тогда буржуйкой), на нее напал сзади какой-то здоровенный парень, видимо думая, что в сумке еда, и вцепился в эту сумку; бабушка так хлопнула его этой же увесистой сумкой по ноге, что тот просил у «тетеньки» прощения и уверял, что «пошутил»... Курила – самые дешевые папиросы «Север» (при мне они стоили 14 копеек, тогда как «Беломор» аж 21, и этого она себе не позволяла). Подрабатывали шитьем, и т.д. Вспоминаю, что летом по воскресеньям все работники гастронома в обязательном порядке выезжали на сбор крапивы, которая затем и продавалась. Отоварить карточку банкой американской тушенки (сплошной драгоценный тогда жир, обложенный почему-то дубовыми листьями, из ложки которого получался бульон) почиталось за счастье, вообще же за мясо шла и селедка. Рассказывали и о тушении «зажигалок» на крышах (один из корпусов университета, где этим занималась дочь Эльфрида, на ее глазах сгорел), о работах по обороне Москвы, противотанковых «ежах» на улицах, прожекторах, вылавливавших в ночном небе бомбардировщики и пр., а также о пленных немцах, на которых было страшно смотреть и которых жители подкармливали; один из них получил от М.И. кусок хлеба, постучав в окно и сказав (заранее) «спасибо». Каждый свой рассказ о той кошмарной жизни бабушка сопровождала констатацией «и – улыбались...». Понятно, что это ее удивляло – ведь трое детей (включая племянника), престарелая мать и статус жены «врага народа» – ситуация тяжелая даже по тем временам. – Испытывала на себе семья, нелепым образом, даже антисемитизм: так, однажды в каком-то официальном органе Марии Иосифовне в чем-то было демонстративно отказано, причем обращались к ней «г-гажданка Цибе́гт». Впрочем ясно, что «оправдываться» немецким происхождением фамилии не приходилось. – От мужа и отца нигде и никогда не отрекались; когда, особенно во время войны, дочерей А.А. спрашивали – «почему у вас отчество Адольфовна», – те отвечали: «потому что моего папу звали Адольф». – Замуж М.И. не выходила. Однако обеим дочерям М.И. дала высшее образование – о том, чтобы сразу после школы дети, вопреки желанию учиться дальше, начинали зарабатывать и помогали семье выживать, М.И. не помышляла. Во время войны, к удивлению сотрудниц М.И., обнадеживавших ее, что скоро старшая «пойдет работать», Эля сдала экстерном 10-летку и поступила в университет, и А.А. был особенно благодарен за это М.И. Не раз в своих письмах он ободряет М.И. и выражает беспокойство, не пришлось ли дочерям бросать учебу: Эле вуз, Свете 10-летку (образование после 7-и классов и высшее было платным, правда от платы избавляла хорошая успеваемость, Э.А. точно была отличницей). Затем поступила и Света, причем не сразу определилась с призванием, а до того проучилась год в каком-то другом вузе... Неутомимо помогала М.И. всей родне и всем нам и в более благополучные времена.
К несчастью, Марии Иосифовне пришлось пережить свою младшую дочь, Светлану, умершую от остановки сердца в 43 года.
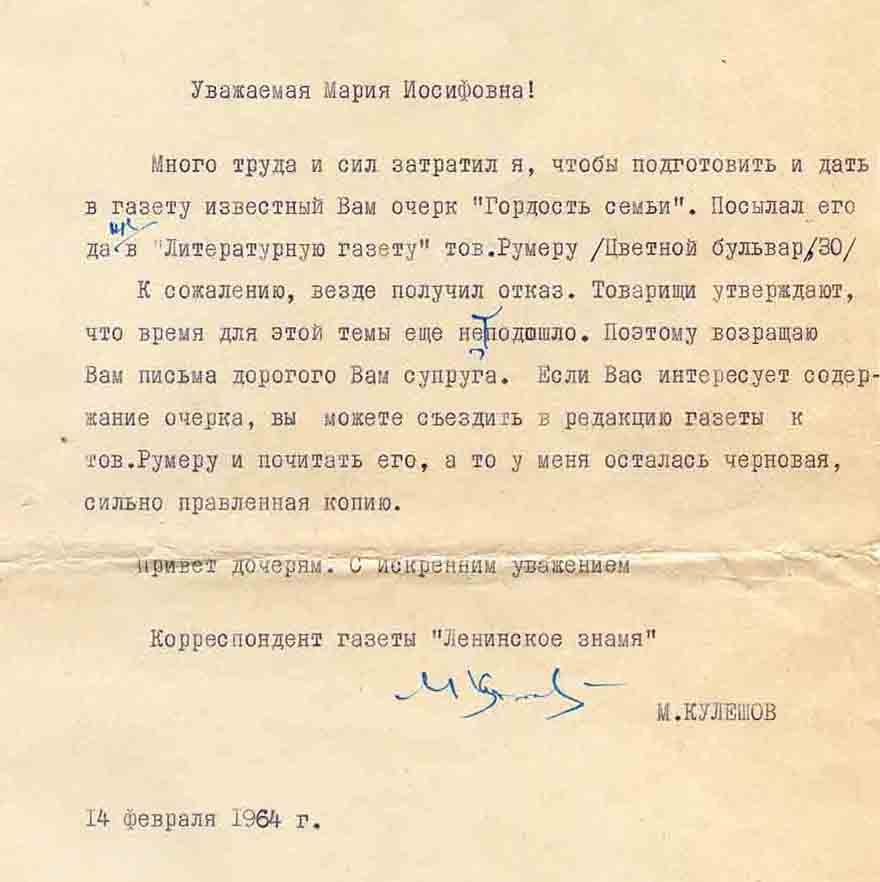
Хотелось бы добавить еще вот что. Все в нашей семье надеялись, что Адольф Августович, хоть и не вернулся, но не погиб. После прочтения тех писем, которые нашлись после смерти дочерей А.А. (см. выше), становится понятно, что обстоятельства, включая невозможность возвращения в Москву, интригу НКВД и проч., вполне могли склонить его и к тому, чтобы остаться где-то "на материке". Я помню, как однажды в середине или конце 60-х, мы тогда были на даче (оставшейся от А.А.), вся семья была в сборе и тетя Света (Светлана Адольфовна) вдруг сообщила, что заметила за калиткой какого-то старика, который там долго стоял и внимательно приглядывался ко всем, кто был на участке, и был очень похож на отца! Новость была встречена с большой заинтересованностью и дочерью Эльфридой, разумеется и нами, внуками. Ее долго и с энтузиазмом обсуждали, строили версии, каким образом он мог остаться жив. Бабушка отнеслась к новости чуть более сдержанно, мне это запомнилось, потому что тогда меня это несколько удивило...
Умерла М.И. Цибарт в 1988 году.

Эльфрида Адольфовна, Мария Иосифовна, внук Женя

Светлана Адольфовна, внук Леша
Другие фотографии Светланы Цибарт (Пешехоновой)
Старшая дочь А.А. – Эльфрида Леокадия Адольфовна Цибарт, в замужестве Абелева. Род. 12 декабря 1923 г., ум. 25 января 1996 г. Окончила биологический факультет МГУ, известный генетик. (Разгром генетики – очередной удар, который ей довелось пережить.) Муж Гарри Израилевич – иммунолог, академик РАН. Ее два сына – Абелев Евгений Гарриевич, геодезист, и Александр Гарриевич – архитектор, литератор.
Младшая дочь – Светлана Адольфовна Цибарт, в зам. Пешехонова. Род. 24 апреля 1933, умерла в 1977 году (задолго до смерти М.И. …). Окончила юридический факультет МГУ, нар. судья. Муж, Алексей Борисович – юрист, прокурор. Сын – Алексей Алексеевич Пешехонов, окончил исторический ф-т МГУ, работает на ТВ.
Есть, разумеется, у А.А. правнуки. Есть праправнук: сын Марии Евгеньевны Иван.
(плюс 3 фотографии из других источников)
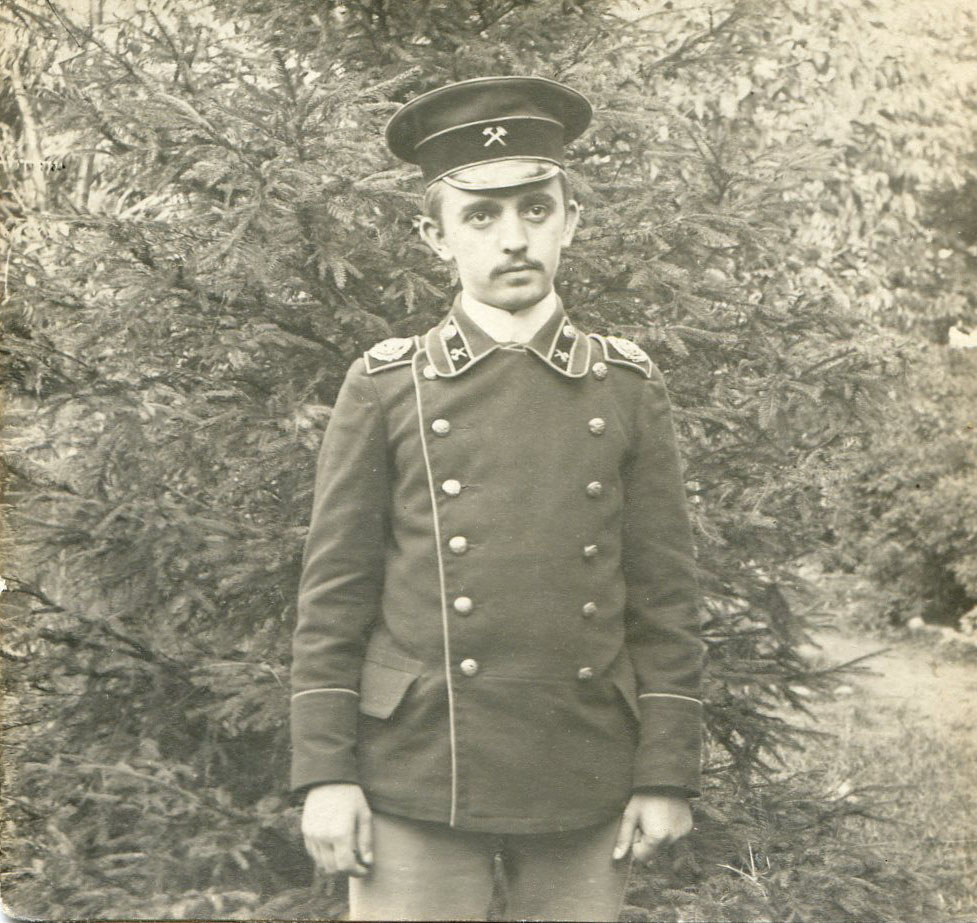
Адольф Цибарт – студент-первокурсник ИМТУ. 1910 г.
Сад перед главным входом в Училище

А.А. Цибарт. Гомель, 1919-20 гг. (?)
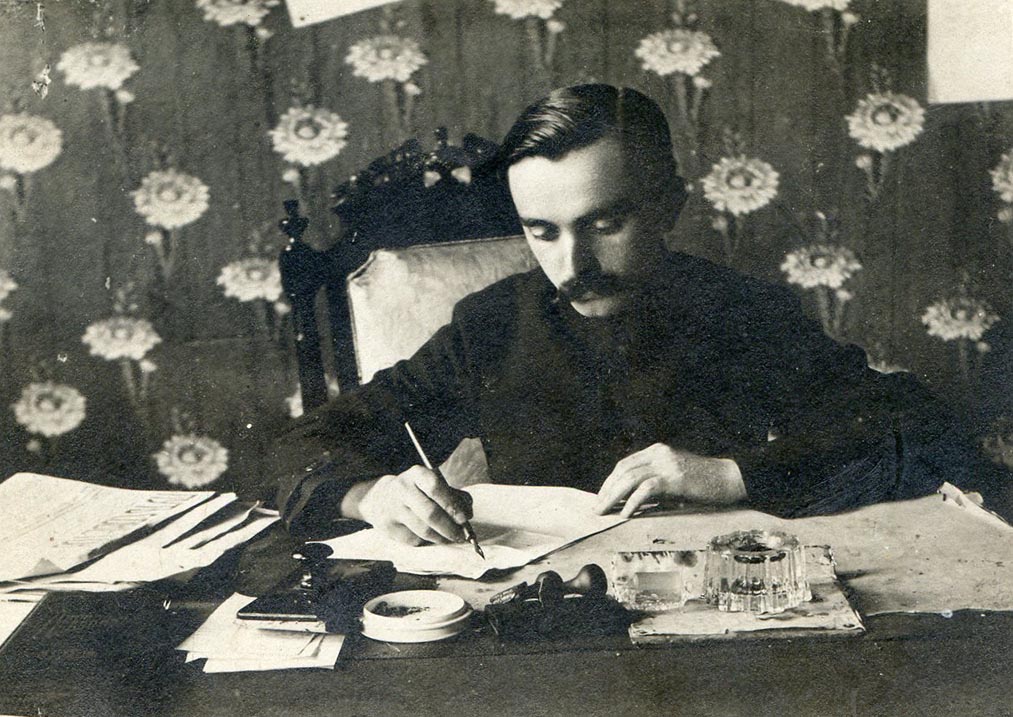
А.А. Цибарт. Гомель, 1919-20 гг. (?)
А.А. запечатлен в кабинете руководителя: на столе перед ним две печати, перо в его руке занесено над левым верхним углом листа, лежащего наискосок - так накладываются резолюции на подготовленные документы. Внешний облик и тот же френч, что и на фото Гомельского губисполкома

А.А. Цибарт. Минск, 1920-1923 гг. (?)
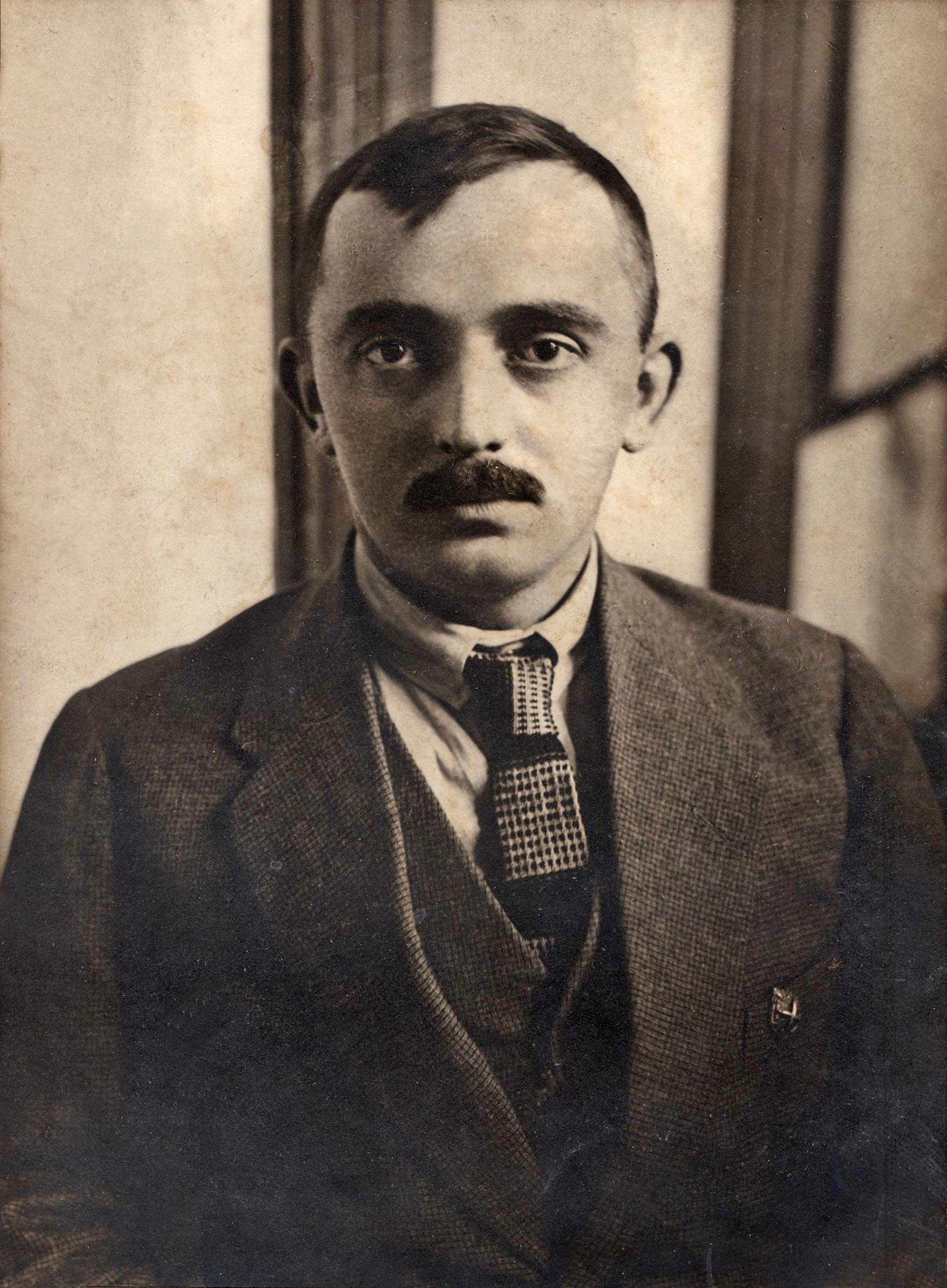
А.А. Цибарт. Минск, 1920-1923 гг. (?)
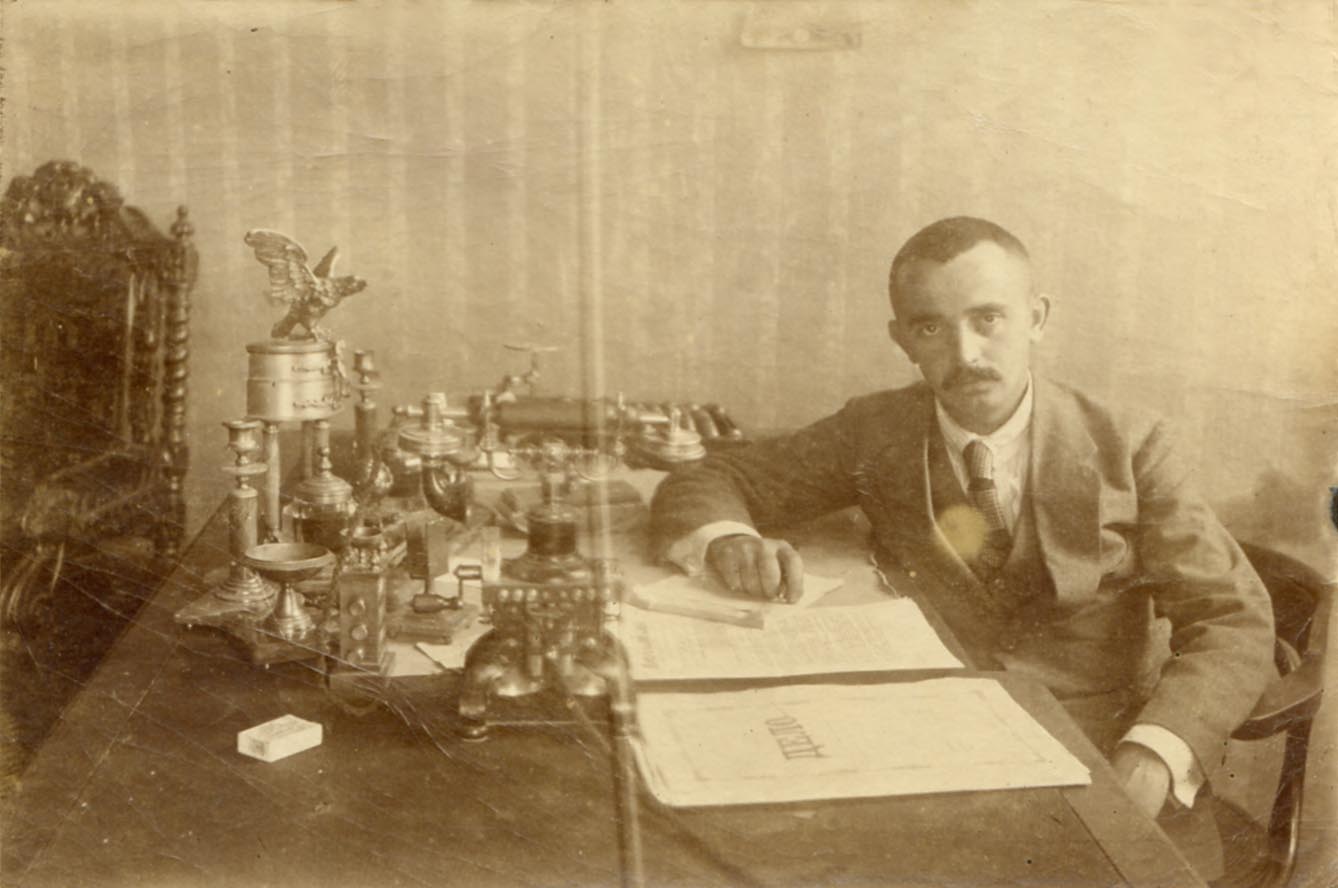
А.А. Цибарт. Минск, 1920-1923 гг. (?).
На столе спереди – телефонный аппарат образца 1890-х гг. с ручкой для вызова телефонистки. В конце стола – счеты.
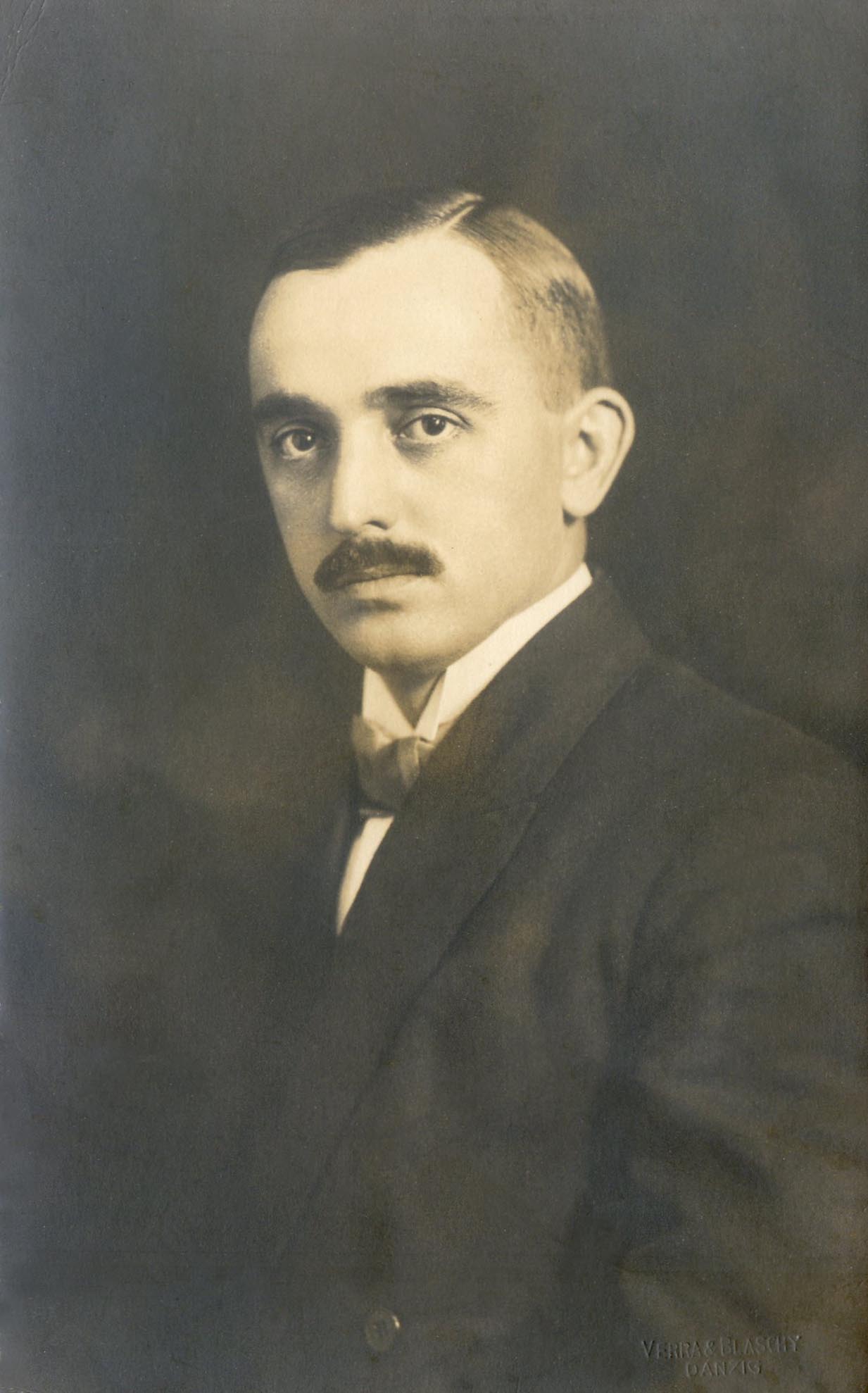
А.А. Цибарт. Август 1922 – февраль 1923 г., Данциг
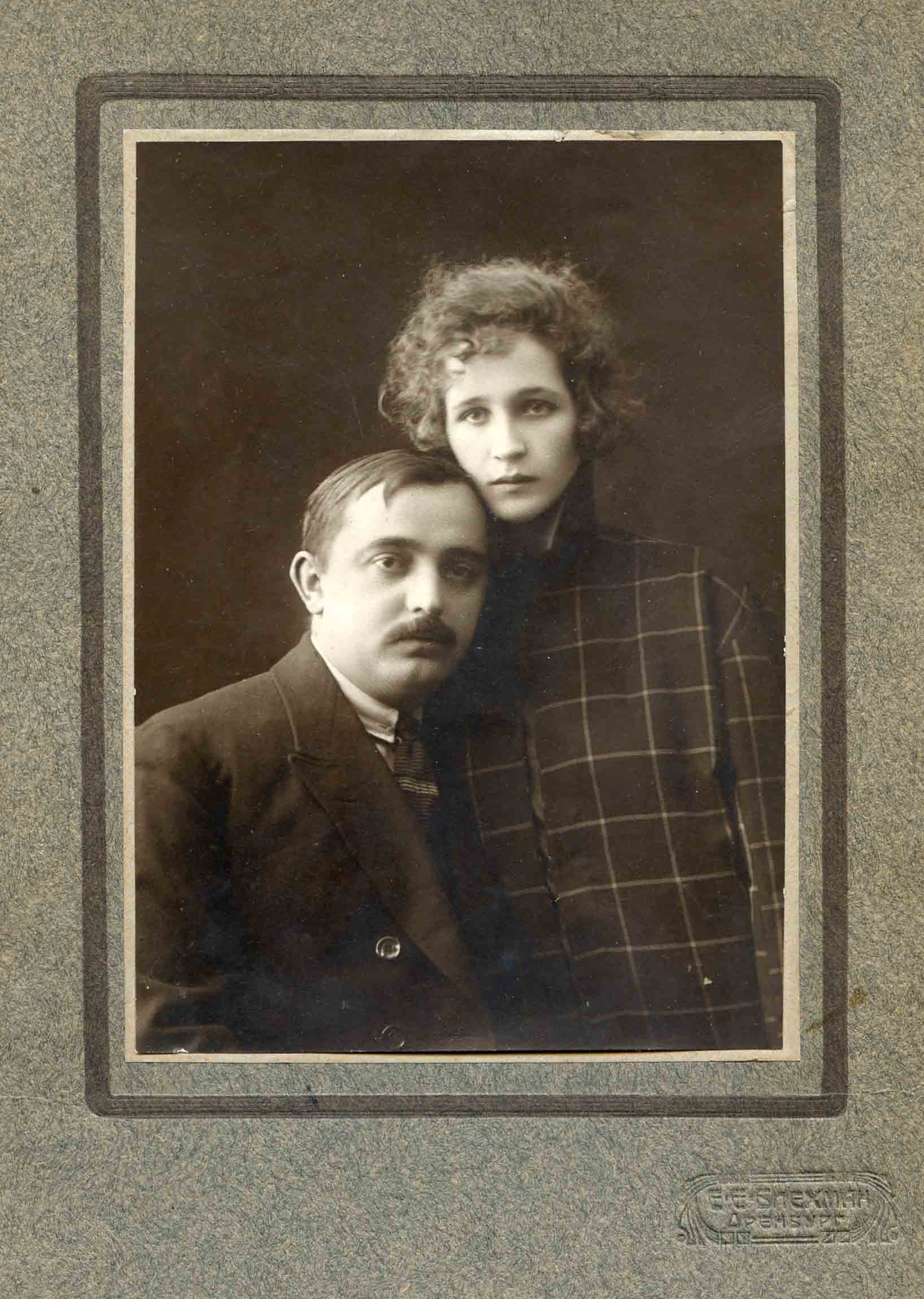
А. Цибарт с супругой Марией Иосифовной. 1923-1925 гг., Оренбург

А.А. Цибарт. Илецкий соляной трест, декабрь 1923 - конец 1924 (?)
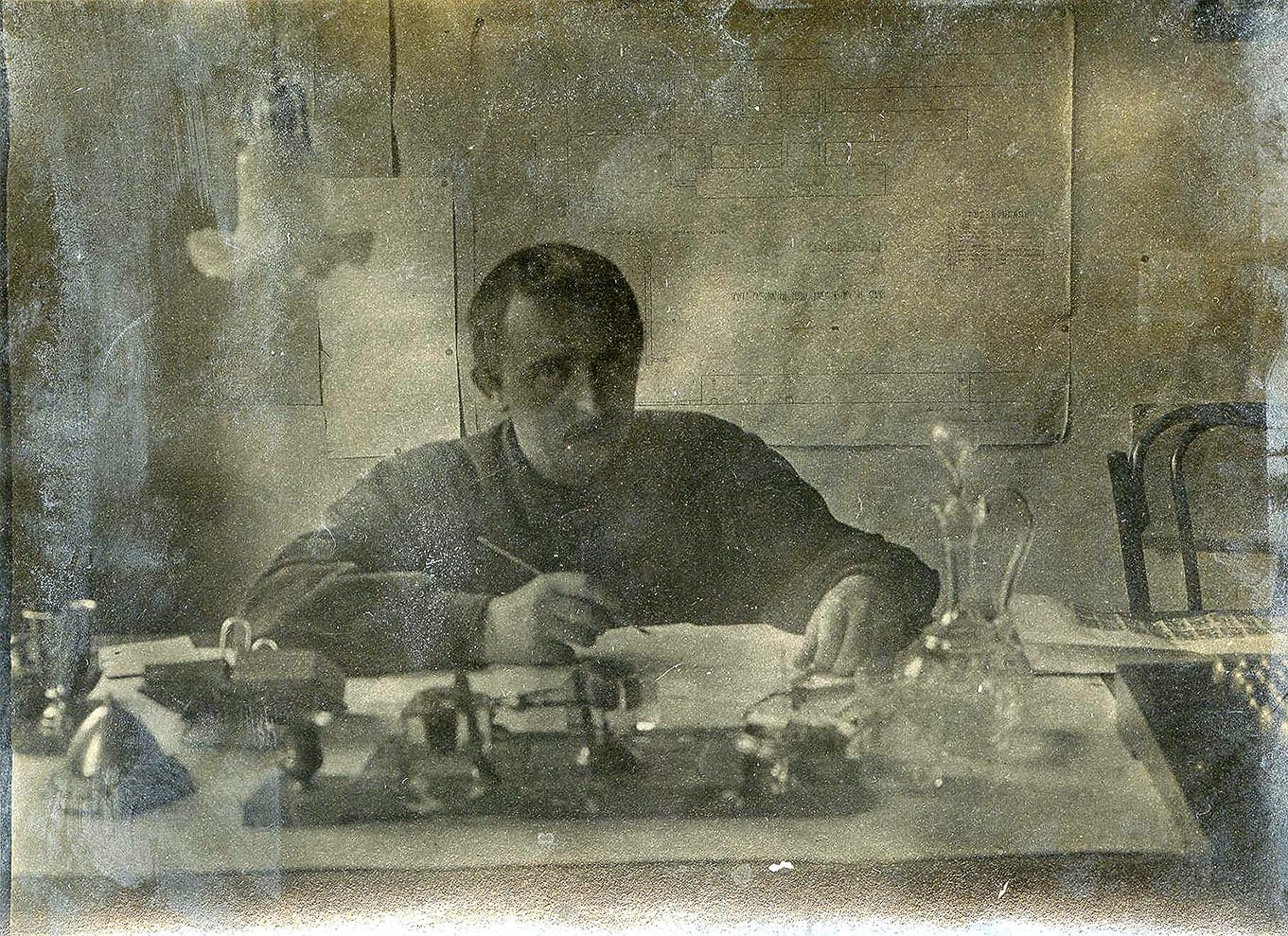
А.А. Цибарт. Илецкий соляной трест, декабрь 1923 - конец 1924 (?)

А.А. Цибарт c супругой Марией Иосифовной

В кабинете директора МММИ им. Баумана. До 1933 г. включительно. Слева направо:
(?); В.В. Балабин, зам. дир. по учебной части МММИ; Ф.А. Яковлев, зам. дир. по админ.-хоз. части МММИ;
А.А. Цибарт, директор МММИ; (? – А.Н. Зайцев?)

А.А. Цибарт. В директорском кабинете (МММИ им. Баумана)
1930-1933 гг.

А.А. Цибарт. В директорском кабинете (МММИ им. Баумана)
1930-1933 гг.

А.А. Цибарт. В директорском кабинете (МММИ им. Баумана). 1935-1937 гг.

А.А. Цибарт. 1935-37 гг.
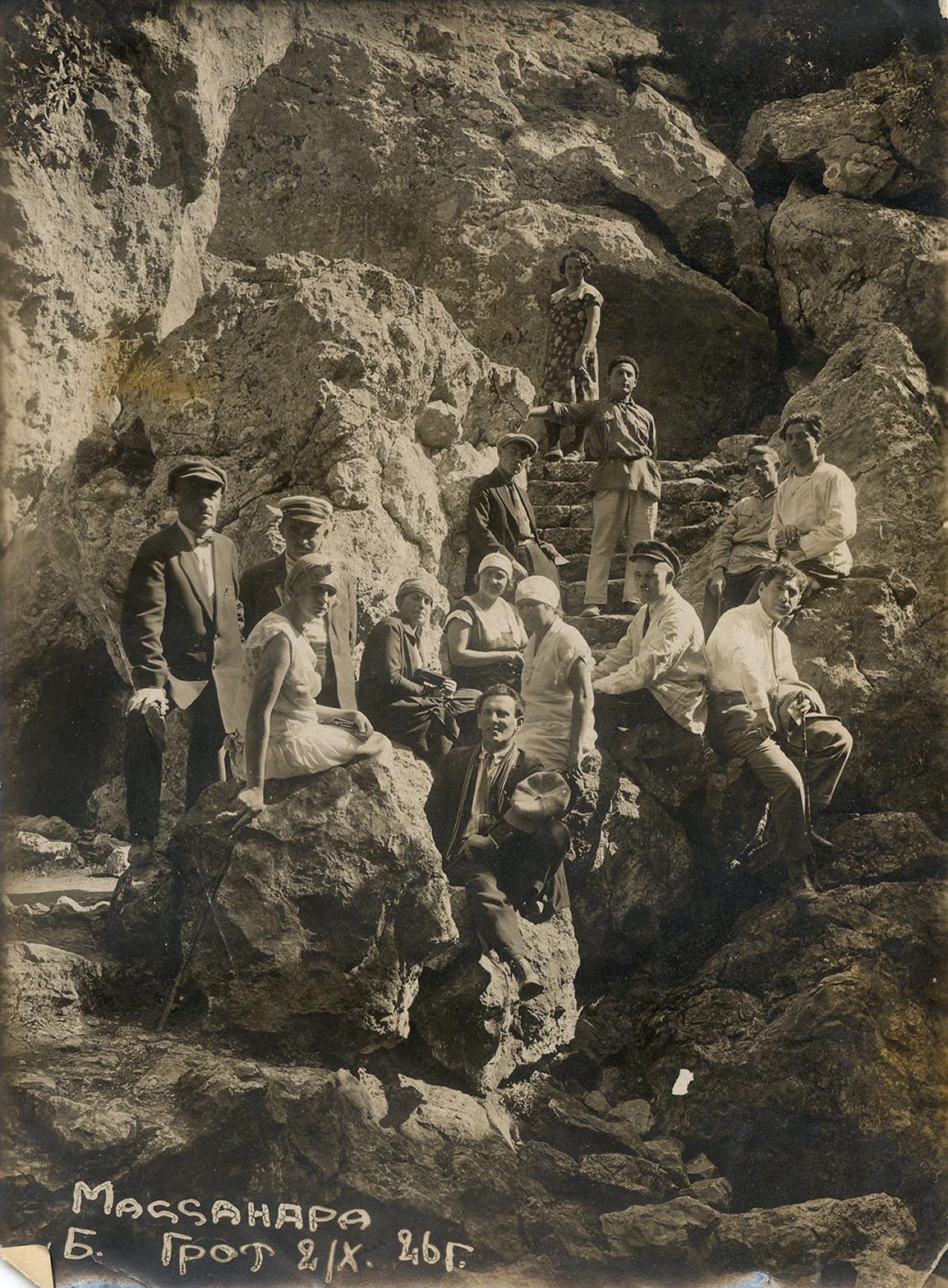
Массандра, 1926. А.А. и М.И. Цибарт (вторые слева)


С супругой

А.А. Цибарт с супругой (и неизвестными)

А.А. Цибарт с супругой, старшей дочерью (справа) и неизвестными

Со старшей дочерью Элей

Со старшей дочерью Элей
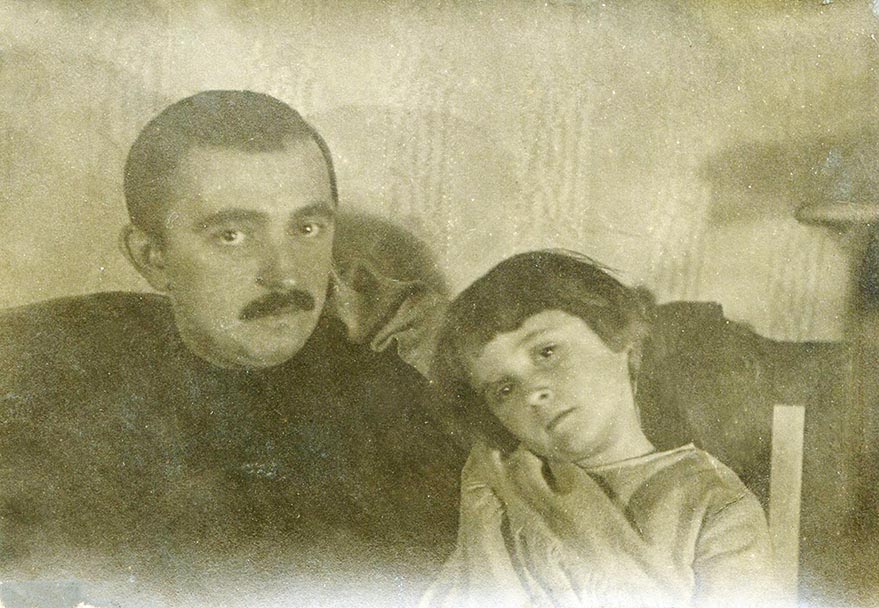
Со старшей дочерью Элей
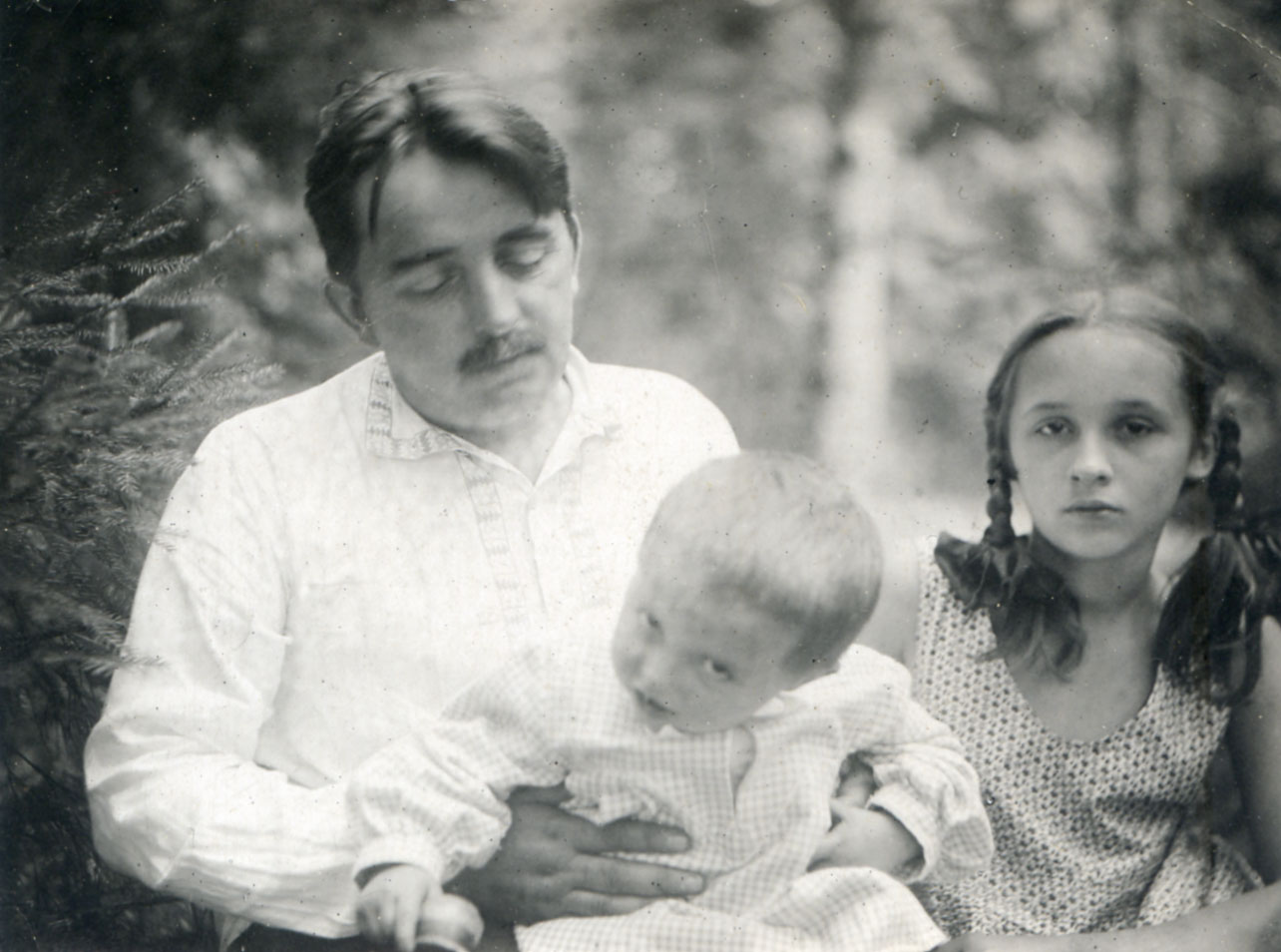
С дочерьми Элей (справа) и Светой

С младшей дочерью Светой

«В.И. Гриневецкий с Правлением студенческого кружка теплотехников (1916 или 1917 г.)»
Фото и подпись из доклада директора музея МГТУ Г.А. Базанчук к 150-летию Гриневецкого
Крайний справа – студент А. Цибарт. Март – май 1917 г.

Члены Гомельского губисполкома. 1919 г. 3-й слева в верхнем ряду – А. Цибарт.
Фото с сайта http://gp.by, 27.01.2015 / Гомельская правда, архивист Мария Алейникова
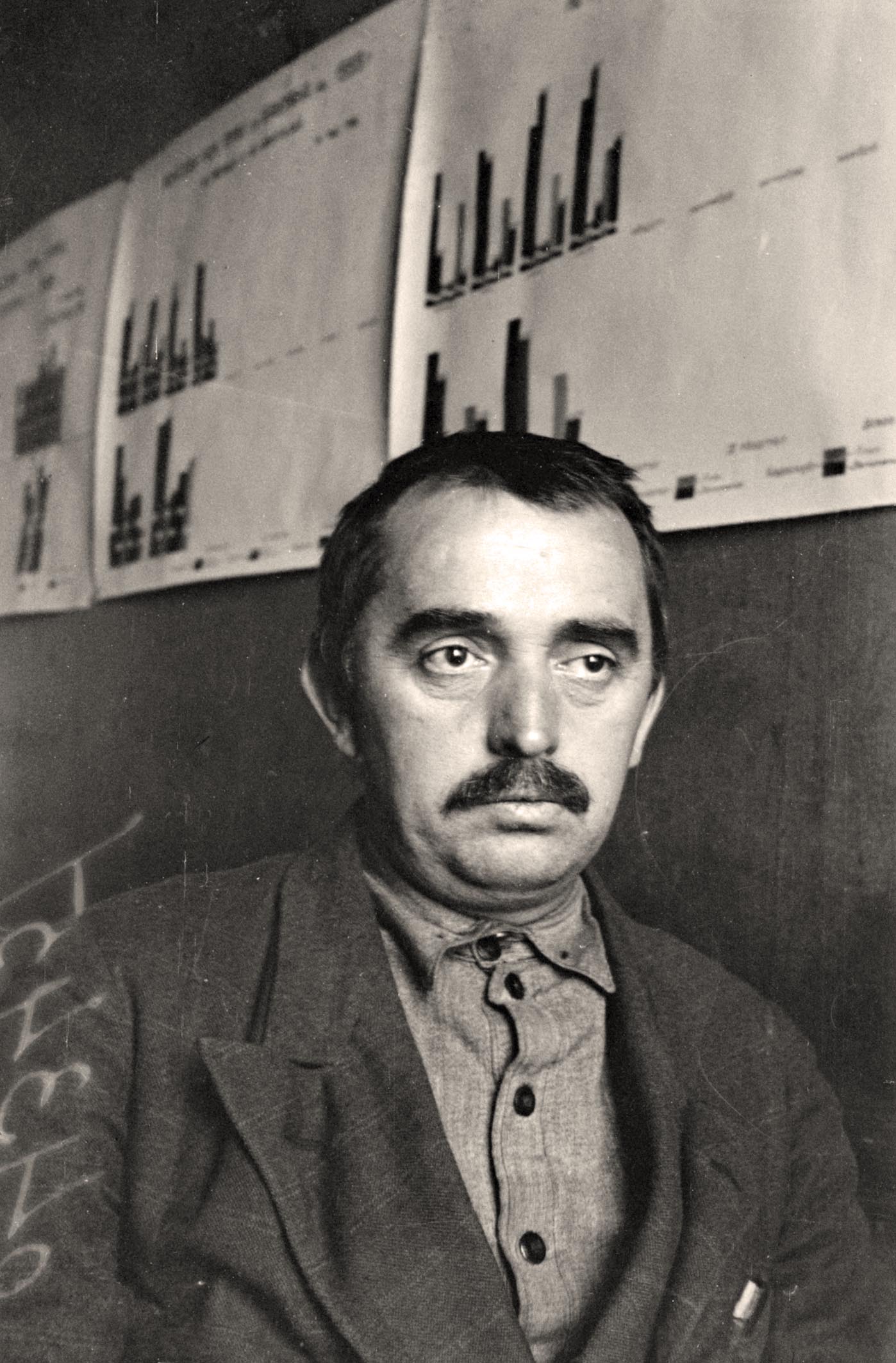
Цибарт – ректор Московского механико-машиностроительного института имени Н.Э. Баумана. 1933
РГАКФД, ед. хр. 0-4345
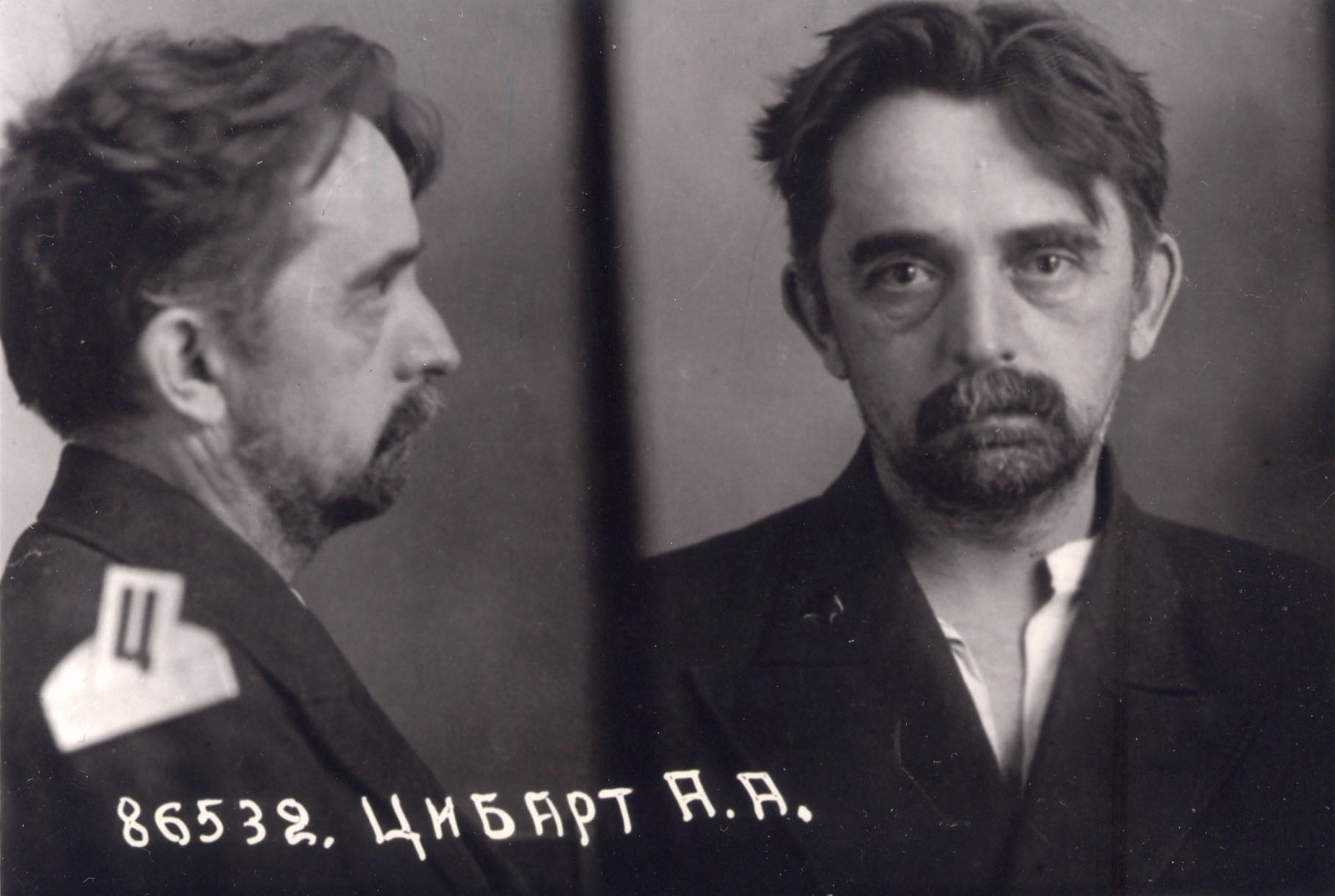
Цибарт Адольф Августович
Фотография из архивного уголовного дела № Р-24817 ЦА ФСБ России. т. 2

Adolf Ziebart (1892, Polska, wychowywał się w Łodzi; – ?, ZSRR) –
rektor Moskiewskiej Wyższej Technicznej Szkoły imienia N. Baumana (1930–1937)
• На главную страницу сайта (Александр Круглов...)
• На страницу Памяти Э.А. Абелевой
• К Очерку 25 Волчкевича по истории МВТУ им. Баумана (об А.А. Цибарте в МММИ)