Александр Круглов (Абелев). Афоризмы, мысли, эссе
ФОРМУЛЫ
Посвящается Л.О.
Афоризм звучит тогда только, когда попадает в резонанс.
Слышит – «имеющий уши».
В новейшей формулировке – контекст доставляет читатель. Для кого существует сам материал разговора,
поймет и то, что о нем высказывается.
Часто меткое наблюдение кажется одним настолько же очевидным, насколько вздорным – другим: оно фокусирует взаимонепонимание.
Задача парадокса – вырваться из пут приблизительного.
Парадоксальное отражает неизбежную разность познаваемого и инструмента познания.
Раз уж ум вынужден постигать объемное в своих двумерных проекциях, естественно, что, чем он ближе к правде, тем кажется противоречивей.
Более точное, бывает, больше похоже на обратное.
Случается, что «ложная мысль, выраженная ясно, сама себя опровергает» (Вовенарг).
Как правило, более тщательное рассмотрение открывает в явлении другую его сторону – противоположную.
Парадокс – между прочим, лучший способ выразиться кратко, не растеряв ничего от содержания.
Все – едино: парадокс парадоксов.
Или: осознание противоположностей как разных этажей тех же, по сути, явлений, – единство
противоположностей, переход количества в качество, прогресс по спирали...
Чего ищет ум? Единства в разном, – объяснение само по себе парадоксально.
Истинное правило исключения лишь подтверждают: то есть, рассмотренные глубже, оказываются
исключениями кажущимися, и убеждают сугубо.
В прямом же смысле – неправда, малейшее исключение опрокидывает все правило.
Чтобы дошел трюизм, требуется озарение.
Гениальное просто: то есть относится к первоначалам, которые каждый считает для себя давно пройденными.
Моя ставка на чистоту формулы. Точное слово – уже доказательство, насколько вообще можно что- нибудь доказать на словах.
«Знающий не доказывает, доказывающий не знает», – свидетельствует Лао-Цзы.
Не от загадки – к разгадке, а от ощущения – к формуле.
В мировоззренческих вопросах, раз – загадка, значит – тупик: надо развернуться и выйти к свету другим путем. Прекрасно сказано, что философские проблемы невозможно точно поставить, при этом их не разрушив.
Не ломать бы голову, а прояснять...
Поиск языка ощущению, операция мышления, что это – логика или интуиция, индукция или дедукция, наблюдение или осмысление?
«Лучшие мысли мы находим, подыскивая слово» (Жубер).
Логика тоже – интуиция.
Нет ничего несообразнее попыток заменить интуицию логикой, разве что попытки заменить логику
интуицией...
Замечу в скобках. – Как, отдавая себе отчеты в самых первых фактах сознания, философ выстраивает интуиции в логику, и то, что он получает, это «феноменология» – точно так же, на самом деле, во всем том многосложном житейском, что только ни стало нам глубоко знакомо, ни стало переживанием. «Интуиция» – «логика», «феноменология» – «ноуменология», наблюдение – осмысление...
Мыслитель кристаллизует мироощущение в миропонимание.
Мы не выдумываем и не выводим новых мыслей, но исследуем уже сложившуюся душевную материю, – если на верном пути.
Подлежащее осмыслению – вроде разобранного механизма; ничего заново конструировать нельзя, можно только искать последовательность сборки.
Свои чувства мы переводим в слова, и будь каждый – один, то сталкивался бы в этой работе с трудностями, но вряд ли с головоломками. Загадки приходят извне, как знаки непонимания нами друг друга.
Нелепые ответы, нагроможденные на нелепо возникшие вопросы – философский шлак, погребающий под собой все философское золото.
Наше Я; бытие; вечность – все это уже не загадки, а тайны.
Скучное мировоззрение – ложное мировоззрение, потому что сам мир не может быть скучен.
(И самое скучное мировоззрение у тех, кто сетует, что «мир без чудес черно-бел».)
Обычные символы интересного, и выражающие разное: лабиринты пещеры, куда углубляются с фонарем; свет дня у выхода из пещеры.
Здравости суждений часто препятствует то же, что способствует их глубине. Мудрость же сочетает то и другое.
Пристрастие – не предвзятость: если в одних оно рождает субъективность, в других, напротив – объективность обостренную.
Философия партийна, – не в смысле – коллективна, а в обратном этому смысле: лично пристрастна. Истина, разумеется, в любом случае беспартийна.
Нерасторжимость пристрастия и справедливости называется любовью к истине.
Мы не умеем видеть иначе, как с точки зрения. Но не платформы; последняя – это уже способ чего-то не видеть.
Общего мнения не существует.
Обывателям интересно то, что помогает им что-то делать, философам – то, о чем они научились что-то говорить.
Не должен писатель ничего советовать, кроме одного: не отчаиваться и стараться быть лучше.
Воздерживаться от лозунгов, как от лжи...
Философов, если и спрашивают, то ответов не слушают.
Плоды настоящей философии для своего уразумения, по существу, не требуют никакой подготовки. А, едва обучившись языку, каждый человек уже в круге всех ее проблем.
Каждый раз, когда удается схватить истину ценой выдуманного слова или хотя бы термина – чувствуешь, как обкрадываешь ее.
Увязывать свои и чужие мнения, стараться не отстать от века, или, что то же, от минуты – бесполезный
труд.
Пиши от имени какого-нибудь собственного Заратустры, чтобы не дать увлечь себя ничему, кроме
существенного на все времена.
Решать проблемы, которые рождаются от личных столкновений с жизнью, и игнорировать те, которые рождаются от проблем. Не «разыгрывать пьесок на метафизике», – как выразился Лихтенберг.
Пошлая тенденция – сближать понятия корыстный и личный.
И вот для одних – все «заумно», что выше их корысти. Но все в жизни, для других, раньше или позже
попадает в сферу отношения личного.
Как отсутствие трудностей порождает склонность их создавать, так неумение видеть тайны – склонность их выдумывать.
Философский настрой ума состоит в том, чтобы ничего только привычное не казалось понятным, принятое – оправданным.
«Что такое философ? Это человек, который законам противопоставляет природу, обычаям – разум, общепринятым взглядам – совесть, и предрассудкам – собственное мнение» (Шамфор).
Понятное – это или объяснимое, или привычное.
Что же такое объяснимое, если не сведение к тому же привычному? – Вопрос мне не по силам.
Обывателю знакомое ясно, принятое – священно, и что его смущает, так это философия.
«Основной вопрос» этики я вижу в том, считать ли в ней привычку и истину принципиально отличающимися друг от друга, или, в принципе, одним и тем же.
Большинство путает так есть с так должно быть.
Большинство путает уже слышали с уже поняли.
За тысячелетия обращения с ним, обыденный лексикон выработал возможность видимого всесогласия,
запрятав едва не в каждое понятие концы противоположных мироощущений.
Каждая философия – это разделяющий толковый словарь.
Мы бываем согласны в аксиомах и расходимся в теоремах, а иной раз одни и те же, по видимости, теоремы выводим из взаимоисключающих аксиом.
Мыслитель выстраивает свои истины для обозрения, обнося их лесами слов, логических конструкций,
аргументов. Обозревающему же одни эти леса и достаются.
В искусстве так же: «Наше истинное желание в лучшем случае поддается лишь описанию, а это дословно
означает: писать вокруг да около» (М. Фриш).
По лестнице доводов можно, как будто, подняться до облаков, но как жить на лестнице? Тем паче, по
моему мнению, на лестнице совершенств моральных...
Твоя настоящая философия там, где ты на ногах.
Интуиция, по свидетельству крупнейшего авторитета в этом вопросе, – это «видение целостное, хотя без
сомнения легко ускользающее».
Да точно такое же дает и познание, верящее, что исходит исключительно из понятий!
С рассуждениями или без, все дело в том, чтобы суметь увидеть.
Слова, понятия, системы понятий – все это может лишь подразумевать: подразумеваются контексты, подразумеваются и истины.
Есть сферы, дающиеся в иные моменты чувству и всегда – какому-то слову, но с трудом – мысли.
Мы вводим свою логику в живую ткань явления, как рентгенолог – контрастное вещество, и так
облегчаем видение.
«Не надо логики»? – Напротив, – больше логики!
Силлогизм – тавтология (не нужно быть Витгенштейном, чтобы это чувствовать). Совершить открытие дедукцией – все равно что поднять себя за волосы. Работа ума состоит здесь в борьбе с собственным несовершенством, – без труда ряд очевидностей не сливается для него в одну очевидность.
Не надо изобретать философии там, где логики еще достаточно.
В конце концов, операции логики – только здравость: искусство обращаться с данными истинами, ничего в них не искажая и ничего к ним не прибавляя.
Можно представить себе разум куда сильнее человеческого: едва наш завидит какие-нибудь аксиомы, как тот прозревает всю дисциплину. Но вот способность критицизма по отношению к самим аксиомам свидетельствует о том, что и нашему дано от Абсолютного.
Аксиомы евклидовой геометрии – как выяснилось, всего лишь законы человеческого восприятия. Что ж, очевидное – если не сама истина, то какой-то закон.
Чем дальше философия от психологии или естествознания, тем больше она напоминает изобретание вечного двигателя: проявлять хитроумие можно, прийти к цели нельзя.
Рождаются и завладевают умами какие-то новые понятия, и кажется, они вот-вот исчерпают истину – но время идет, и замечаешь, как они мало-помалу исчерпывают самих себя...
Метафизику давно забросили бы, как когда-то забросили «философский камень». Но одно дело – отказаться от прихоти, другое – от потребности.
В наше время физика смелее и интереснее метафизики. Разделяю мнение, что с метафизикой, в том, что касается космологии, следует повременить – подождать, что еще скажет физика.
Продуктивно созерцание, а не мышление; но мышление тоже созерцание: усмотрение и рассматривание.
Мыслить – видеть, называть и прояснять отношения названий; для чего опять же видеть и называть.
Спекулятивное мышление: а какое же еще? Мышление и есть «умо-зрение».
И все же – сомнительный, конечно, каламбур – но тут и вправду подстерегает опасность спекуляции: в
надежде получить, в результате каких-то процедур, больше, чем вкладывал.
Все доступно взору, но мало что доступно однозначному истолкованию, – хотя именно истолковывая, разум начинает видеть. Все время толкуем, и все время видим, но никогда не достигаем цели вполне...
Наука раскрывает то, что содержится в явлениях, искусство – в чувстве, философия – в понятиях. При этом, оказывается, и умственные и поэтические формулировки не только выясняют, но и образуют что-то в человеке: как эксперимент, в своих последних тонкостях, уже неотделим от явления.
Известный философ (цитирую):
Сам взгляд человека уже «укрепляет, разрушает, лепит...»
И взгляд в себя в особенности.
Но дико – полагать, что лепить что-либо в человеке можно по произволу, что результат будет зависеть от
интересов, а не от самого наличия заинтересованного взгляда, что это единство объекта-субъекта делает
истину хоть в малейшей мере субъективной, а не только субъективно дающейся, что самопознание, меняя
человека, не делает его лишь все больше похожим на себя, и т. д., – и что хотя бы сама вечность может
изменить здесь «объект как таковой» (из того же предложения)...
Различать – то же, что видеть.
Настоящее различение – почти мысль, настоящая классификация – почти теория.
Классификация: разборка и сборка, логический остов.
Речь – уже классификация: слова – расчленение, предложения – связь.
Изо всех речей не по существу худшие – классификации не по существу. В них глупость всего явнее и скучнее.
Идеальная классификация – на причины и следствия.
Есть глупость, и есть завирающийся ум. Отличаются они тем, что в глупости как будто нечего опровергать.
Глупость ни в чем не видит связующего, и постижение заменяет перечислением.
Экклезиаст: «Поучающий глупого подобен склеивающему черепки...»
Для глупости, все распадается на пустые формы.
Ум – это способность видеть существенное.
Впечатление от глупости – такое, как если б ты искал объяснения какого-то текста, а набрел на его структурный анализ.
Если занял не свое место чиновник, он, как замечено, непрерывно наводит порядок на своем столе; если – философ, он принимается за классификации.
Обычно наши открытия – из области вполне обжитой, но в чем либо ленятся, либо стыдятся, либо боятся
отдать себе отчет.
Не ум открывает, а мы открываем для ума.
Как часто тонкое знание разных «но» мешает уразуметь главное.
Трус, кто слишком много предвидит.
Иногда не хватает только смелости опереться на собственные наблюдения, чтобы осмыслить дело
вполне.
Решимость нужна на первый шаг, и не меньше – на последний.
(А впрочем... Если суд и бывает вполне справедлив, приговор – никогда.)
Чтобы обнаружить смысл, надо в него поверить.
Тот лишь ему свойственный, сугубо личный вариант, в котором каждому человеку являются узурпированные философией вопросы, мне интереснее всего в человеке, да и в философии тоже.
Умный шутник мог бы выискивать в чужих взглядах систему, что, ясно, должно бы считаться не слишком вежливым. А говорить о «своей системе» – значило бы, с этой точки зрения, по меньшей мере утратить юмор.
«Самый изобретательный способ поглупеть, – считает Шефтсбери, – это следуя системе; самый безошибочный путь к пресечению собственного разумения – занять чем-нибудь иным его место».
Системы кроили будто для того, чтобы их легче было возможно полнее выбрасывать из голов, не оставив в них ни единого доброго зерна; либо же для того, чтобы не прорастало ни одно собственное.
Думай и давай думать другим!
Все можно свести к одному или немногим принципам, но нельзя в обратном порядке вывести из них это конкретное живое «все». И так систематик присоединяет к своим идеям все живое – по сходству, по запаху и вкусу, в силу умыслов или склонностей, но никак не в силу необходимости.
Идти только к идеям, а не от них.
Надо все-таки признать, что системы – самые занимательные игрушки из всех игрушек, которые выдумало человечество.
Гуманистическое мировоззрение явно тяготеет к несистематической форме. Почему? Потому, наверное, что ничего не втискивает в человека, а ищет согласия с его сущностью в каждом отдельном проявлении, тем только ее и выясняя. Здесь не нужно заботиться о единстве, только о правдивости – искомое целое уже дано, хотя бы в самом свернутом виде. Это целое не строится, а развертывается, – всего перечислять не буду.
Я, конечно, не верю в какую-либо иную значимостъ любой философии, кроме гуманистической. Хотя бы от противного.
Системы!.. Если бы мы не помнили, о чем говорили вчера, нам было бы больше доверия.
Между прочим: «система не надежнее любого ее звена»...
«...То же усилие, путем которого присоединяют идеи к идеям, способствует исчезновению интуиции, которой идеи предполагают овладеть» (Бергсон).
Любая мысль укладывается во фразу.
Самый непоследовательный человек себе тайно не противоречит.
Девиз едва ли не всякой примитивизации – последовательность!
...Кстати, еще неизвестно, в чем в особенности состоит сумасшествие сумасшедших – в их бредовых «пунктах» или в той потрясающей нормальных логике, в той идеальной последовательности, с которой они проводят эти пункты в свое существование.
В интересах истины – свою непротиворечивость выявлять лишь задним числом.
Истина – это верность себе.
Истинность или неистинность каждой моей «формулы» должна усматриваться только из нее самой, – как и сам я искал истину для каждой в отдельности. Если они сложатся в целое – прекрасно.
Лучшими философами до сих пор еще считаются те, кто, подавив чужие умы, оставят после себя больше философов посредственных.
Может быть, родство философских учений существенней их отличий – если хоть на йоту стоит верить философии?
И так-то, со времен Экклезиаста как минимум, никто не сказал ничего нового – какой же смысл подражать или наследовать?
Большинство различных взглядов противоречат друг другу даже не логикой смысла, а логикой эмоций, через симпатии и антипатии.
Когда полюса сходятся – это, бывает, мы расходимся из одной точки и не можем от нее оторваться.
Чуть не любой спор можно представить, как спор о словах. Но чем это явнее, тем бывает непримиримее бьющееся в нем, и по существу немое, противоречие.
«Критерий практики»: каждая практика обзаводится своей истиной.
Наши интересы оказываются постояннее нас самих, если не принуждать себя к ним. И взгляды также.
Ничего нельзя понять раз навсегда. Верно говорят, что истина есть процесс, а не результат.
...Абсолютная истина есть процесс, а относительная результат.
Непостоянство: свойство быстро себе надоедать, из-за неумения ни в чем быть собой.
Мысль так же не подчиняется воле, как чувство, только тут можно дольше себя обманывать, плодя неживое.
Женят свои умы на каких-то идеях, свою мораль – на каких-то принципах, и все это, как поглядишь, – несчастные браки.
По-разному остро ощущают свойственное и несвойственное себе. Можно не переносить даже запаха чужого, можно успевать наглотаться его до рвоты, можно всю жизнь травить им себя, наверное, не подозревая о том.
Если чужое и поможет, то как влитая кровь.
Счастливая слабость, приводящая к self-identity: неспособность принять в себя и нести чужеродное.
Из Шамфора: «если бы меня можно было исправить, я уж давно испортился бы».
Обстоятельства.
Кто-то всегда только исходит из них, кто-то вступает с ними в соглашения и для кого-то они лишь
препятствия на пути.
Первейшее и неустранимое обстоятельство, в какое попадает свободная душа, – характер.
Что характер лишь ситуация, в которой Я очутилось волею судеб – составляет ежедневный рабочий хлеб писателя и актера, помещающих, по Станиславскому, «я» в «предлагаемые обстоятельства». (Важнейшее искусство человечности, надо сказать.)
Полагать, что «человек есть то, что он совершил» – это-то и значит отрицать свободу его воли, которая
ярче всего выявляется в способности хотеть невозможного.
Неустранимое необходимо – только для неживого.
Ситуация – неустранимая случайность.
«Времена не выбирают», не выбирают себе тело, характер, также и клетку, в которую тебя кто-нибудь сунет, но считать, что обстоятельства – это и есть человек, – почти что жестокость.
Обстоятельства помогают, если уметь с ними сотрудничать.
Обстоятельства – соблазняющее слово.
Условия, на каких удовлетворяется корысть, осмысляются обыкновенно как эти самые «обстоятельства».
Преуспевать легче тем, у кого лишь склонности, а не цели.
Совсем не одно и тоже – собранность и целеустремленность.
Сомнительность цели то парализует активность, то возбуждает лихорадочную. Несомненность – сама распоряжается и заставляет действовать, а то, напротив, внушает чувство, что как-нибудь да осуществится сама.
Тем легче работать, чем больше средство похоже на самую цель.
Не каждый в силах даже ради вполне адекватной и достойной цели делать что-то неадекватное себе, – инстинкт, в большинстве случаев оказывающийся мудрее...
Новые идеи выдерживают в нас, как это давно замечено, определенный латентный период.
И наши шутки иногда – первые ласточки будущих убеждений.
Твой нынешний взгляд и твой прежний, и между ними будто бы пропасть, а ты лишь возделывал или запускал под собой почву, на одной ее стороне, и незаметно оказался на другой...
Собраться с мыслями, а лучше сказать – «собраться с чувствами».
Мир воспринимается через формулы слов, но еще фундаментальнее – через формулы чувств.
Вся умственная жизнь откладывается до обретения равновесия; тем временем идет настоящая духовная жизнь.
Взгляды, убеждения – это и границы, которыми мы размежевываемся друг от друга, – но настоящие границы проходят глубже и не всегда с теми совпадают.
Переубедить – это победить, а кому приятно терпеть поражение?
(Все сказал об этом Карнеги) .
Надо лишь упомянуть о том тягостном чувстве, которое постигает совершившего вдруг такую
невозможность.
Будь осторожен, не переубеждай – на самом деле ты этого не желаешь.
Переубедил: боролся и вывихнул другому руку.
Факт, споры лишь укрепляют каждого в его мнениях – но для того-то, кажется, мы и спорим.
Несознаваемая убежденность всего убедительнее – или же удивительнее.
Полная убежденность: вплоть до несознаваемой.
Неуверенный защищает свои взгляды агрессивнее, чем уверенный на них нападает. Сердишься, значит
не прав – бывает верно лишь в этом смысле.
Достоинство, напротив, вполне справедливо и естественно защищать агрессивнее.
Пока еще в чем-то не убедят себя, стараются убедить в этом других (о чем так подробно – у
Достоевского). Вере в сомнительное нужны сообщники.
Пример для меня самого неожиданный, и все же: так в одиночестве нам никак не верится в прочность
бытия...
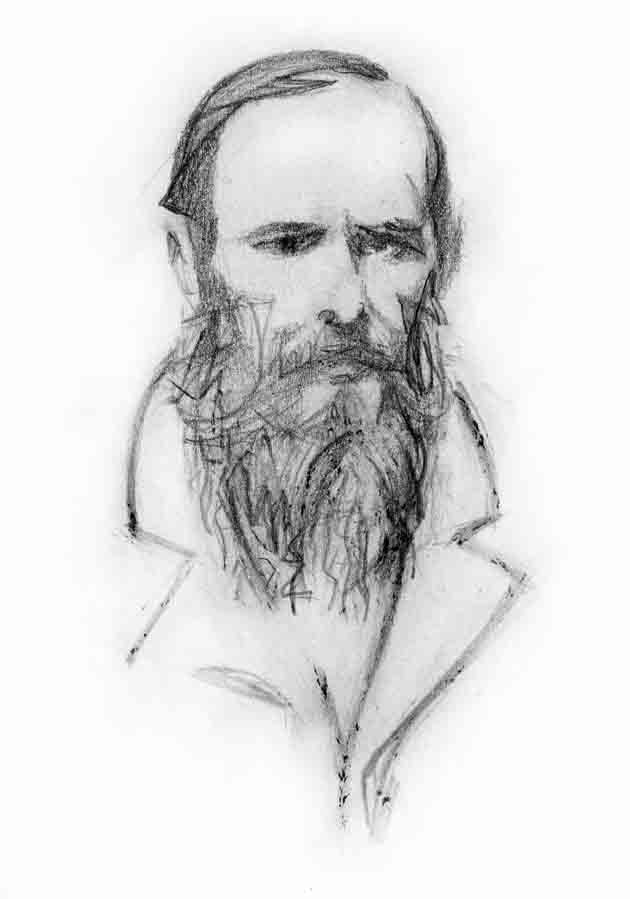
Чужая уверенность и чужие мнения не могут действовать против воли, но всегда как-то действуют – помимо воли.
От внушенных взглядов освобождаются, как приобретают их – или бурно, или исподволь.
Глупость не переубедишь в ум.
Красота и тонкость влияют, если их разглядят.
Тонкости все доступно, но по-своему – как, скажем, все доступно поэзии.
Иногда то в тебе, что возникало с трудом и стало, наконец, своим, привычным и нужным, как защитный панцирь – как панцирь, сходит в свой срок и не оставляет по себе даже сожалений.
«Привычка – вторая натура».
Надо полагать, в смысле – отражение первой и единственной.
Когда в тебе что-то умирает, не сокрушаешься об этом: оно будто бы никогда и не жило.
Внушаемость и самоуверенность – обычное сочетание.
Поверхностность – род самоуверенности.
Однолинейность в убеждениях нисколько не связана с их постоянством, – если только не обратно пропорциональна.
Однолинейность и постоянство – тупость или паранойя, однолинейность и непостоянство – все градации от невыносимой глупости до самого высокого, хотя и вечно заблуждающегося ума.
«Нельзя сравнить то, что видишь, с тем, что слышишь».
А все же, какой благодатной была бы привычка сравнивать и выяснять справедливость различий двух
этих параллельных миров – воплощения и образа, наличного и должного, обретаемого и ожидаемого,
реального и идеального...
Авторитеты бывают двух родов: те, которым не прочь следовать в жизни, и те, которым за сумасшествие сочли бы следовать. Так же и идеи.
Обычно поступки человека не столько вытекают из его провозглашаемых воззрений, сколько следуют им по какой-то сложной аналогии.
Ну что же – тот, кто пропагандирует единственно для него приемлемое – по крайней мере логичен.
Цели человека, как правило, продолжают его образ жизни – не каждый способен стать выше. «Куда ворон летит, туда и глядит».
«Бытие определяет сознание» – у всех по-разному: у многих напрямую, у кого-то от противного.
Достойному человеку случается быть заинтересованным в том, что не в его интересах.
Никогда не занимать таких положений, которые смогут диктовать тебе твой образ мыслей. Но, строго говоря, иных не существует...
Большинство людей устроены так, что их идеалы никогда не мешают их потребностям.
Основная человеческая способность, на которой строятся общества – это способность хотеть того, к чему обязывают или чего не избежать. Притом, что противоположная способность заявляет о себе, кажется, куда определенней...
Подчинение – это разделение функций желающего и исполняющего.
И кажется, что совмещение этих функций – представляющее собой свободу или творчество – для многих
и вправду обременительно.
Диалектика стадного: насилию подчиняются охотно.
Для толпы и мораль – такое охотно принимаемое насилие.
(Толпа – древний термин, лучше которого еще не возникло, – он означает: «человеческое множество во
власти стадных инстинктов».
Значение «неупорядоченное человеческое множество» условно, – толпа, конечно, не упорядочена
разумом, но упорядочена указанной властью.
Власти общественного инстинкта противостоит единичный разум, то есть толпе – человек. Так что в
гуманистической философии понятие, обозначаемое этим термином, краеугольное.)
Если обстоятельства не хотят меняться, как надо, меняются установки – в чем сила заурядности.
Убеждение силой.
Так убеждает и судьба: что называют смирением.
Пусть обстоятельства влияют на замыслы, но не на убеждения.
Привыкнув страдать из-за своих лишений, не пропусти момент, когда то, чего ты лишён, перестанет быть тебе нужным.
Бывает и так: обстоятельства, как козел отпущения, привычно берут на себя вину за то, что человек не
живет какой-то другой, по существу не свойственной себе жизнью.
Чаще всего, кажется, заставляет желать нежелаемого тщеславие – и вот выручают «обстоятельства».
Все дело всегда в том, чего не хватает...
Слишком долго нуждаясь в чем-то, рискуешь на всю жизнь остаться при своей неудовлетворенности.
Нельзя, чтобы недовольство входило в привычку.
Птица, не покидающая вдруг открывшуюся клетку: это протест против открывшейся вдруг бессмыслицы несчастья, уже сформировавшего душу.
Смиряться, может быть, но не кастрировать себя.
« ...Осведомись сначала, очень ли счастлив нынешний обладатель желаемого...» И все же малоутешительно, что то, в чем ты так нуждаешься, других уже перестало радовать.
Свои взгляды, как свои желания, – те, которые обнаруживают, а не те, которые вырабатывают.
Опытность – подтверждение жизнеспособности взглядов, но не их общезначимости, или, тем более, истинности.
Каждый извлекает то из опыта, что лучше такому, как он.
Опытность делает человека все больше похожим на себя, если личность его выражена, – либо же сливает
с толпой, топя в стадном зародыши личности.
(Случай, когда «имущему прибавляется, у неимущего отнимается и то, что имеет».
Вообще чужой опыт – не в прок, а опыт чуждых еще и во вред.
Не только чужой, опыт «вообще не годится» (Битов).
Всякий опыт – чужд: или другим людям, или другим ситуациям.
Высочайшая опытность, сказал кто-то, в том, чтобы уметь отметать всякий опыт.
Если опытность – функция от возраста, то функция очень сложная, и где, иногда, он будто бы кочует в какой-нибудь дроби из числителя в знаменатель.
Опытность – больше состояние души, чем ее оснащенность.
Ничьи софизмы не должны колебать нас во взглядах и даже предположениях, и все же, время от времени, полезно принимать их вызов.
Ответы легче всего находишь, когда глубже вникнешь в суть вопроса, – мы же – как дети, которых едва
заставишь запомнить условия задачи.
Суть вопроса вполне проявляется тогда лишь, когда найдешь ответ.
Когда жизнь сама уже все решит, тогда и принимаются решения на всю жизнь.
Впрочем, принимать их раньше или не принимать вовсе – что называется, неблагоразумно.
«Поручителю – горе», – не ручайся и за себя.
Все и рождается, и живет, и умирает в нас при равновесии «за» и «против».
Сколько ни обдумывай выбор из двух зайцев, мысль одинаково проясняет достоинства и недостатки
каждого.
Все определяет охота.
Жизнь решает проблемы, лишая их актуальности.
Или, точнее: «проблемы не решают, проблемы переживают» (Стафф).
Опытность вырождается в предрассудки.
С возрастом начиная повторять себя, хотя бы потому, что уже не в силах угнаться за другими, каждый изъявляет особые претензии на свой собственный взгляд на вещи.
Как в старости люди – теряют или не теряют, с юности до старости могут и терять и приобретать. Тот, кто полагает, что юность – состояние, которое следует особо беречь, видимо, наиболее склонен именно терять...
Чем душевное устройство сложнее, тем труднее оно формируется и дольше не закостеневает.
Интересы с возрастом превращаются в границы.
Люди как будто не успевают поумнеть, как уж старятся. Так что плоды культуры – тут ничего не поделаешь – в основном плоды зеленые, в лучшем случае скороспелые.
Взрослея, развиваться, а не консервироваться – привилегия немногих.
Человек приобретает, как правило, одно из двух: либо взрослость, либо зрелость; солидность либо умудрение.
Что внутри человека соответствует тому моменту, когда он вдруг начинает воспринимать себя – с отчеством? Не знаю; Толстой, тот так и чувствовал себя до старости мальчишкой. А снаружи – это галстук, или лысина. О женщинах молчу.

Каждый обязан стать для себя умнее всех.
Любовь к жизни постепенно теряет в силе, но выигрывает в ширине и глубине.
Может быть, за долгую жизнь насытишься жизнью, зато ведь, должно быть, как привыкнешь!
Теряя понемногу страстность, хорошо бы приобретать взамен чуткость.
Страстный и в сострадании страстен – хотя, поглощенный своим, бывает и непробиваем.
Желание можно назвать страстью, когда неудовлетворение его означает боль.
Способность напряженно желать, или страстность – это, в конце концов, любовь к жизни: она поднимает ей цену.
Страстность распадается на любовь к себе, у плохих людей, и на любовь ко всему – у хороших.
«Счастье и несчастье мы переживаем соразмерно собственному себялюбию» (Ларошфуко). – Ну да, поскольку себялюбие и страстность – понятия широкие и перекрывающиеся.
Самооценка ничтожного человека – относительно других: кто-то кажется ему не стоящим того, чего он
сам стоит.
Самооценка настоящего человека – это, косвенно, оценка всему мирозданию.
Кто страстен во всем без исключения – фактически мелочен.
В хандре, страстный страстен особенно.
Страстность, мне кажется, всегда отбивает и друг от друга разводит важное для себя от неважного, серьезное – от незначительного, интересное – от скучного, главное – от проходного и т.д., – хотя, конечно, может и ошибаться в этом.
Возможны эгоистическая любовь и альтруистическое себялюбие.
Именно цельное и обнаруживает свои разные несхожие грани. И человек весь – из таких многогранных цельностей, весь – из диалектики. Что, скажем, в отношениях – для себя, и что – для другого? А разве эти различия не реальны, не значимы?
Равнодушие.
Человек принимает извне – чуждые цели, чуждые ценности, и затем борется в себе с демоном
равнодушия...
Настоящее (постыдное) равнодушие – не недостаток возбудимости, а недостаток морального отношения.
Что уж, казалось бы, справедливее и логичнее нейтралитета! – И – никогда ни за кого не заступиться?..
Можно быть весьма ранимым и недобрым, и сколько угодно таких, и даже, бывает, в прямой зависимости – чем злее, тем ранимее.
Равнодушие: вид чужого несчастья не угнетает, не возмущает несправедливость. Но уж кому
свойственно это, единственно предосудительное, равнодушие, вряд ли когда ставит себе задачу с ним
бороться.
А вдруг да поставит? Что ему делать? – Наверное, развивать воображение.
Врач не может, как говорят, «умирать с каждым», если хочет оставаться врачом, но он не равнодушен,
если не разучивается хотеть добра, свои выгоды или покой не становятся для него важнее чужой жизни, и т.
д. Для развитого человека, мне кажется, это не так уж сложно.
Все мы, в какой-то степени, находимся в «ситуации врача».
Очень верно, что равнодушие – это молчаливое согласие на зло. Это такое мировоззрение.
То равнодушие, которое предосудительно, есть для большинства более-менее ясно осознаваемая принципиальная позиция.
Конечно, в юности еще потому так презирают средний возраст, что не знают до опыта всей трудности его обычных достижений.
Трудно как следует ценить то, в чем не принимал участия, – пока не знаешь, что по чем.
Хороший и неискушенный человек верит, что настоящие совесть и достоинство позиций не сдают. Он ожидает от жизни испытаний корыстью или страхом и знает, что это преодолимо. Но существует средство вернее подкупа или насилия, и с ним-то, в основном, и придется всю жизнь иметь дело, это – шантаж: моральная неразрешимость, заставляющая выбирать между плохим и худшим бескорыстно и даже как бы добровольно.
И все же возраст всегда так или иначе уважают, даже если оспаривают его особые права, или привилегии на правоту... Может быть, тем, кто жалуется на неуважение, на самом деле хочется чего-то большего?
Поколения как будто в ссоре, то есть в таком состоянии, когда каждая сторона ожесточенно держится за свое непонимание другой стороны.
Если зрелый к юному проявляет простое уважение, в ответ получает настоящее почитание. Разве нет?
В общем, науке давно известно, что непонимание «отцов и детей» – симптом выхода общества из первобытного состояния. Традиционное должно смениться сознательным, а сознательное не может начинаться иначе, как с ошибок, и вот обе стороны правы и не правы – все естественно.
Пошлость – это мудрость дураков.
(Или тех, чей ум не вызывает у нас доверия.)
Есть пошлости – бесспорные истины, и пошлости, прямо противоположные истине.
Любая истина в расхожем понимании может выродиться в пошлость, но, строго говоря, пошлость и трюизм – расхожая истина – вещи разные.
Что только ни кажется тривиальным образованному дураку!
Что только ни кажется пошлостью умному подростку!
Существуют такие умы, без капли пошлости, к которым всегда полезно прислушиваться и никогда ни в чем не доверять.
Половина великолепных голов перемежает свои истины трюизмами, половина – вздором.
Дальше всего друг от друга – искренность и пошлость, но и больше всего, иногда, бывают друг на друга похожи.
Страх оказаться пошлым – пошл.
Ничем не лучше – пошлость элитарная. А в общем и хуже, так как регламентирует строже.
Чуть искренности, и заметишь: лучшие мысли, сумевшие кого-то зажечь, на треть состоят из открытия
истины, на треть – из опровержения неистины, и на треть – из запутывания истины.
То ли энергия заблуждения – в той истине, которую оно в себе содержит, то ли, напротив энергия истины
– в том заблуждении, которое содержит в себе она...
«Видно, люди не могут без яда...»
Чтобы истина стала деятельной, будоражила, к ней примешивают малость лжи.
И чтобы будоражило добро, в него подливают зла.
Человек, не лишенный способностей и все их направивший на обоснование какой-нибудь несуразицы, или явного зла, или общей для всех несправедливой страсти – мне кажется, идет прямой дорогой к успеху.
Бойтесь, чтобы сама истина не оказалась для вас недостаточно умной!
Принятое, современное, любопытное – обычные суррогаты истин.
Настоящему школяру и в голову не приходит, что кроме учений есть еще истины.
Ученики учатся видеть, последователям приходится уже учиться не видеть.
«Ученик не выше учителя»: поскольку ученик.
Каждому его шоры кажутся главным приобретением в жизни.
Больше всего ясности в дело вносят шоры.
Свои шоры мы называем взглядами.
Мировоззрение – да, но не затем, чтобы в дальнейшем не использовать и элементарного зрения.
Нужно уметь быть, хотя бы иногда, добрее своих принципов и умнее своих теорий.
Кто говорит, не слышит.
Расплатиться более важным за менее важное, например, человечностью за идею – вот что привыкли путать с героизмом.
Одержимость в слепоте нуждается, – что удивительного в их союзе!
Одержимость – бездушная духовность.
Одержимость противопоставляется равнодушию, и в этом – капитальная ошибка. Равнодушию на самом деле противостоит человечность, да и одержимости, чаще всего, тоже.
Одержимость вооружается равнодушием, а не противостоит ему.
Во времена Шефтсбери уже понимали, что одержимость – тогда это называлось «энтузиазм» – легко переходит в ханжество.
Настоящая этика парадоксальна – и доброта, и справедливость слишком боятся однозначности.
В моральных задачах неопределеннее всего константы.
Убеждение – лишь как «совесть разума» (по определению Шамфора), а еще лучше – лишь как совесть вообще: нечто не застывающее.
Принципиальность – это формализованная моральность.
Высокая мораль. – Лучше – «глубокая», еще лучше – «живая».
Принцип: предпосылаемое любой живой ситуации.
Ну что же – может, и вправду неживая этика лучше, чем никакой?
Что мораль имеет целью только саму мораль, следует, я полагаю, понимать в том смысле, что она ничего
не обещает корысти.
Отталкивает моральность, занимающаяся собой.
Интересно, как реагировал тот прокаженный, которого лобызал подвижник?.. – Как реагировали
крестьяне, наблюдавшие своего пашущего барина, известно.
За деревьями леса не видят, за лесом – деревьев.
Любое убеждение пользуется уже каким-то уважением – даже сомнительное. Считается, что если не убеждение – то обязательно корысть.
Убеждение: положение, которое считают долгом признавать верным.
Или же: убеждение, как долг добра.
Так или иначе, этическое сознание не способно не вырабатывать убеждений, как теоретическое – рабочих гипотез, – важно лишь эти острова не выдавать за всю сушу, как предполагаемое – за истину.
Единственно допустимый способ менять убеждения – перерастать их.
Наши убеждения не должны исключать чужих, кроме бесчеловечных – точно так же, как наши интересы.
Отпор бесчеловечным взглядам не ущемляет прав этих взглядов, ибо те сами и начинают эту войну.
Бороться за убеждения, но как – защищать или навязывать?
Не могут вменяться взгляды – в нравственную обязанность.
Отсюда следует, между прочим, что настоящее добро в человеке, последняя этическая истина, вообще
глубже его взглядов.
Учились у Запада, но «слона» в нем не приметили: духа терпимости.
Готовность бескомпромиссно отстаивать свои, предпочтительно перед чужими, идеи – еще не так далеко ушла от готовности во всех случаях отстаивать свое, предпочтительно перед чужим, благополучие.
«Камень преткновения», осознаваемый уже с давних времён и не ставший до сих пор нисколько менее опасным: пусть вся истина будет кому-то известна – свобода все равно останется свободой ошибаться.
Если главное приобретение в жизни – умудрение, то самое дальновидное – это, не подозревая того, творить глупости.
«Опытность приобретается в испытании того, чего не хотел бы испытывать» (Лихтенберг).
Добавлю: чем больше опытности, тем больше этого нежелания – но и смирения так же.
Каждый учится на одних и тех же своих ошибках весь век.
На ошибках, если быть точным, не учатся, а умнеют.
Чем больше предусмотрительности, тем крупнее промахи.
Каждый весь – в своих ошибках.
По-настоящему преодолено то, что изжито, а не то, что отброшено. Приведут ли запреты к святости?..
Путь к превосходным качествам лежит через дебри ничтожных.
Трагедия в том, что учатся на ошибках, за которые часто расплачиваются другие.
Тревога включается в тот самый миг, как, случайно отвлекшись от нее, помечтаешь о довольстве жизнью.
Отвлекаешься от боли незаметно, заметно лишь возвращение к ней.
Хорошее острее на исходе. Что имеешь, не ценишь, – в тысячах вариантов...
Голодный не разумеет сытого – почему тот не счастлив?
Голодный заблуждается, если думает, что сытость – это все счастье. Сытый бессовестен, если забывает, что в некотором отношении счастлив.
Наверное, боль входит составляющей в любое сильное чувство – потому что, когда притерпишься к ней, другие чувства уже так не захватывают.
Если боль прошла и ничего не изменилось в ее причинах, что-то изменилось в тебе самом. Для радостей это правило почти не годится, – ненасытность в природе.
Душа сама себе устраивает, где надо, местную анестезию; впрочем, болезненность прикосновений к этим местам стоит иногда боли.
Тягостная мысль выжигает в мозгу каналы, по которым приходит, и делает его в этих местах нечувствительным. Но случайные обходные пути оживляют его снова.
Болезнен страх чего-то несуществующего, но и страх неизбежного точно так же...
Страх смерти, когда она не грозит непосредственно, не менее патологичен, чем страх привидений; тайна
бесконечности терзает, как любая навязчивая идея.
Какая смелость все-таки – наделить живое разумом: обречь его на всевозможные предвидения. Как это получилось? Бог хотел, наверное, чтобы мы изобрели себе какое-нибудь колесо, и все увеличивал наш мозг, а мы, по причине консерватизма, так долго этого не делали, что не уследил и передал лишку.
Человек уже издавна осмысляется как животное, проведавшее и не могущее вместить то, чего ему явно знать не положено.
Защитная тупость: иная болезнь делает умнее, ломая механизмы в психике, предохраняющие ее от боли
вечных вопросов.
Здоровый не столько мучится этими вопросами, сколько сознает, что они должны бы мучить.
...С другой стороны, смирение с неизбежным – логично, и мудрость приходит здесь к тому же, что
изначально открыто тупости.
Душа может быть богата не меньше тем, в чем ощущает нехватку, чем тем, чего ей вдосталь.
Душевное равновесие – скорее баланс, равновесие неустойчивое.
Жизнь – бесконечное чудо и бесконечный кошмар; душевное равновесие – немыслимое среднее арифметическое этих двух бесконечностей.
Радостное мировосприятие или мрачное мировосприятие нельзя обосновать, точнее, можно обосновать то и другое, – так что это целиком дело настроения.
Нам подарена жизнь, но не всем поровну и не одинаково счастливая: грех не радоваться и грех радоваться.
Оптимизм, правда, бывает бессовестен, но и пессимизм точно так же.
Неприятнее пожирающего – только зажравшийся. Либо эти категории вообще не нужны, либо – всему
свое время, свои условия.
Оптимизм или пессимизм не суть выводы из нашей жизненной ситуации; оптимизм, в норме, вырабатывается на каждый день особой железой организма, ради самой возможности жить, а пессимизм есть недостаточность этой железы.
Бытие непостижимо, но в этом бытии еще непостижимее грядущее небытие.
Две тайны есть в мире (об этом писал еще Паскаль): начало и конец. Все остальное как будто познаваемо.
И бытие и небытие таинственны особенно в свете одно другого.
Небытие входит в бытие и порождает несовершенство.
Вообще-то, небытие логично определить как то, чего не существует.
Это радует, но не слишком: по опыту известно, что очень дорогие нам вещи запросто
могут прекратить свое существование. И можно ли надеяться, что душа к ним не принадлежит?
Разрушению подлежит все, уничтожению – ничего.
(Из этого соображения, кто какие хотел, такие и делал выводы.)
Философии нечем было бы заниматься, если бы все существующее отвечало своей идее.
Впрочем, об идеях природы мы ничего не знаем. А наши – сами по себе далеко не совершенны.
Нецелесообразность и несовершенство в творениях скорее могут убедить в существовании творца – как его понимают, – чем абсолютные совершенство и целесообразность.
Природе плевать на добро, но она устраивает нас так, что нам на него не плевать.
Вечные темы сами захватывают и сами отпускают. Ими заболевают, а не занимаются.
Чем глубже западаешь в жерло вечных проблем, тем они только мучительнее. И чем усердней отвлекаешься от них, тем страшнее, временами, их жерло.
Мы смертны, и это ставит все вверх ногами: бессмысленней всего – предусмотрительность, расточительней – корысть, ненадежней всего – прочность и т.д. –
Надо признаться, нас не столько занимает смысл и оправдание жизни, сколько смысл и оправдание
смерти.
Когда забываешь о смерти, о смысле жизни не размышляешь.
Если смерть и не конец, то все же – разлука.
В той мере, в какой удается постичь, что мир с тобой не умрет, ужас представления о смерти сменяется грустью.
Когда-то надо суметь почувствовать, а не узнать только, что ты не пуп земли; когда-то надо ощутить, что в привязанностях важнее не эта твоя привязанность, а то, к чему привязан.
Смерть – и кара, и прощение.
Бессмертна душа или смертна, в жизни находится смысл.
Жизнь, – можно сказать, – несмотря на все ужасное, что с ней нерасторжимо, сама по себе есть благо и
потому – ценность.
Жизнь, – возражают, – не есть благо и не представляет ценности.
Если кто-то в светлом находит сколько-то черных пятен, а вы меньше или больше, вы можете спорить.
Но если кто-то вообще белое провозгласит черным – спор бессмыслен: это – его способ видеть белое, у вас
он иной.
Из того, что параллельные не пересекаются, выводится уйма самых неожиданных истин, но одной только вывести нельзя: что они когда-нибудь пересекутся. – Раз уж человеку неохота расставаться с жизнью, сколько ни морочь себе голову, жизнь останется для него главной ценностью.
Жизнь наполнена страданиями, которые потому и страдания, что стесняют жизнь.
Выясняют смысл жить, поскольку, видите ли, предстоит умереть. Логики в этом нет. Это вопрос отчаявшейся жадности: все или ничего.
Конец жизни и ее итог – вещи, все-таки, разные.
В конце – пожалеешь только, что думал о нем раньше...
Жизнь говорит: радуйтесь пока что.
«Бессмертные на время» (как выразился Пастернак), будем спокойно принимать то, чего нельзя изменить, и не загадывать ни о чем до срока.
«Memento mori».
Что говорилось людям очень легкомысленным, для нас, серьезных, приобретает мистический и
зловещий смысл.
Мудрость старика – в сознании, что перед лицом смерти ничего нет значительного, а в самой смерти, в старости, ничего нет ужасного.
Старый и малый.
Плохо, если унизительную неполноценность ребенка приходится испытать старику – испытать, но не
пережить.
После рабочего дня мировая скорбь не так мучительна.
Бывает избыточное нервное давление, вроде артериального. Интересы снимают его, как полезная нагрузка, обязанности – как кровопускание.
Есть усталость, когда делать можешь лишь то, что хочется; и есть еще большая, когда делаешь кое-как лишь то, чего от тебя хотят другие.
«Сопротивление материалов»: нечто похожее на то, что испытываешь в состоянии утомления.
Иногда обнаруживаешь усталость, лишь принявшись за работу.
Загнанность – какое-то межвременье: только завершаешь что-то или что-то намечаешь, но не живешь сейчас.
Чувство, что гонишься и не успеваешь за жизнью.
И чувство, что гонишься за временем, а жизнью оно не обеспечено, не успеваешь его наполнить; что
жизни еще не было.
Даже удовольствия приходится иногда получать через силу, как деньги откладывать – впрок.
Усталость нужна, – только усталость сил, а не души.
Обязанности требуют телесных сил, желания – душевных.
Трудно заметить, что обязанности утомляют меньше, тому, у кого в желаний избытке. Для него оно и не
так: невыносимы усилия против воли.
От физической и умственной усталости хочется спать, от душевной – будто умереть.
Суицидные мысли (как такие мысли называют в учебниках) – не намерения, по-видимому, а угрозы себе, попытки подхлестнуть теряющееся в опустошении Я.
За упадком энергии следует упадок надежды.
Усталость открывает бреши сомнениям.
Отчаяние – сомнение: в ценностях, на которых стоишь, или в надеждах, без которых не можешь.
Больные нервы кругом находят одну безысходность.
(Препятствия, лучший способ преодолеть которые – попросту не заметить, вырастают с горы, и т.д.)
Нервы здоровы, если усталость сама по себе не портит настроения.
Бессонница – непрошенное второе дыхание нервов.
Кому тревожно ночью, еще не так плохо – хуже, если ночь в этом не разнится ото дня.
Настоящий пессимист не тот, кто замечает мрачное, а тот, кому свет мрака не заслоняет.
Духовная потребность – это, наверное, сон.
Когда контроль над подсознательным ослабевает, мир внешний начинает казаться частью этого внутреннего подсознательного мира. Сознание ищет место Я в мире, подсознание – место мира в Я. (Так сумасшедший верит, что им занимаются и бдят неусыпно целые организации шпионов, масонов, телепатов; мания преследования неотделима от мании величия, которая – в подсознании.)
Может быть, сумасшествие – это неверно толкуемое сознанием ощущаемого подсознательно единства Я со всем сущим.*
Психическое неравновесие выражается еще в характерной потребности радовать себя – напряженном искании стимулов жить.
Пусть мелочи не огорчают, но радуют.
Ничего не хочется и хочется всего сразу – почти одно и то же.
Ничего не хочется означает: ничего не хочется настолько, чтобы преодолеть трудности и прийти к
удовлетворению; желания, не связанные трудом по удовлетворению, скачут с одного на другое – хочется
всего сразу.
Каприз: такой недостаток желания, когда нужно для остроты, чтобы другие включались в упрашивание
или отговаривание.
Или, что примерно то же: непоследовательность, неустойчивость желаний.
Или, просто: единственное желание – противоречить.
Фантазии, как сны, неуправляемы, и вертятся вокруг Я. Может быть, все они – те самые сны наяву.
Воображение то ласкает не в меру, то бьет не в меру.
Подъем или спад? Здесь рябь на волне принимаешь за саму волну, – малое заслоняет большое и обманывает.
Сомнения, тревога, страх – западая в душу, раскачивают еще сильнее никогда не останавливающиеся качели настроений, бросая их от оптимизма к пессимизму и обратно. И кажется, такое же действие производят преувеличенные надежды.
Мечты отдают болью, предвкушения горчат: это – возраст.
В том, что слишком важно, очевидность не отличишь от подозрения, подозрение – от очевидности.
Ни в чем так не бываешь уверен и ни в чем столько не сомневаешься, как в том, во что вкладываешь себя.
Сомнения – там, где заинтересованность; но, правду сказать, не в самой истине, а в своем отношении к ней.
Сомнение – мысль, вышедшая из повиновения, переставшая тебя защищать.
Рассудок за насилие над собой мстит сомнением.
Вера предполагает сомнение – иначе то была бы не вера, а знание или надежда. Она предполагает борьбу с ним, а следовательно, и с рассудком тоже.
У сомнения, или подозрения противоположного какому-либо желанному тезису – вообще говоря, не
больше правоты, чем у самого этого тезиса.
Но всегда право сомнение постольку, поскольку всегда не прав догматизм.
Возможно, коробясь от несомневающихся изъявлений веры и почитания, Бог-личность скорей предпочел бы им мятущееся неверие.
Бог не ничтожнее человека, надо думать (и на что уже давно обращают внимание) – человека, уже почти научившегося не карать за взгляды, не жаждать власти, ценить дух выше буквы, прозревать в иноверце такую же, как у себя, душу и т.п.
Грехов разума не существует.
Пусть жизнь как можно реже ставит нас в ситуации, когда приходится «бороться с сомнением», не смея признать за ним права голоса.
Самое короткое определение фанатизма: убежденная борьба с сомнением.
Страшно задумываться, потому что наименее желательное кажется наиболее вероятным. Не заиметь бы второго и скрытого мировоззрения, прорывающегося вдруг в опасениях.
В прочности основания легко убеждаться по величественности здания, и сомнения давить все новыми надстройками...
Воздушные замки рушатся от взгляда в упор.
Кому спокойней с открытыми, кому – с закрытыми глазами.
Жить было бы невозможно, если бы к своим переживаниям мы совершенно не умели относиться
«эстетически», и не могли бы, хоть отчасти, обращать горесть в радость.
(В людях есть заметные различия по степени и характеру этой способности.
Вариант переразвития ее – истеричность; слишком малое развитие, кажется, не имеет названия, кроме
«трудный характер», «суровый», «страдающий» и т. п.)
Сгущают печаль и хмелеют от этого концентрата, и в хмелю находят утешение.
Окружающий мир насыщает дух своими испарениями, дурманит его, и мы воспринимаем все сквозь этот дурман. Кто-то из нас более трезв, кто-то – менее; кто во хмелю добр, кто – зол...
Всякое отношение к событиям в чем-то противоположно трезвости, в том числе и моральное отношение.
Сама трезвость может быть патологичной.
Больная трезвость убивает ощущение связи, смысла, значимости всего происходящего – что
невыносимо.
Надо думать, ощущение гармонии может и ошибаться, но само по себе объективно.
Эстетическое познание: искусство – это плод опьянения жизнью, и – «in vino veritas!»
И чувство и мысль постоянно находятся в одной и той же работе – по приведению разрозненных
впечатлений в некую гармонию, хоть как-то, но удовлетворяющую нас.
Кому эта гармония тяжелей достается, приходит к более глубоким и объемлющим результатам. –Почему
люди искусства, как правило, так характерно трудны для себя.
Что говорить о происхождении и цели искусства, когда выработкой эстетического стимула жить – гармонии в душе – мы заняты неотступно.
Реакция на подлинное искусство, в чем бы то ни было – желание жить.
Впрочем, бывает, что и – «умереть на этом самом месте!» – Но это от того состояния души, когда
восторг поднимает выше, чем она в силах подняться, исполненность больше, чем она может вместить.
И в горести выплавляется радость, что законно, но без момента горести безоглядной не имеешь на радость права.
Именно самое светлое в искусстве, для одних, на других нагоняет наихудшую тоску – можно разрешать и изживать скорбь, можно и попросту от нее отвлекаться.
Что пройдет, то будет мило.
Не все, разумеется, – кое-что так и должно оставаться незаживающими ранами. Но в большинстве
случаев память довершает эстетическую работу преобразования впечатлений, и ее образы особенно
гармоничны.
Ностальгия по прошлому.
Да, грусть, содержащаяся в памяти – это ностальгия. Каждый миг, и каждый год, и каждый возраст
теряешь то, в чем едва успел, или не успел еще вовсе, ощутить себя – дома.
Памятные места для нас – в особенности те, что отмечены непривычностью ситуации и задушевностью встречи.
Драгоценные и пустяковые кадры жизни, и те, от которых рад был бы избавиться, всплывающие или вспыхивающие по временам в сознании, – все это отснято душой внезапно, без предупреждения, и точно, что ты для них не позировал.
Грусть памяти похожа еще на ту, то навевают многолюдные обычно и докучающие этим, но вдруг почему-то опустевшие места.
Наверняка кто-нибудь уже высказывал предположение, что воображение должно было родиться от
памяти.
Вызывая образы прошлого и будущего, память служит и для того, чтобы забывать, – забывать
настоящее.
Однообразная жизнь в воспоминании короче, повторяющееся сливается в одно – а ведь ничего
одинакового, понятно, не существует. Это чудесный и необходимый механизм памяти, которая не может не
манипулировать тем, что в нее попадает, хотя бы в целях своей компактности.
Никогда не упускать из виду, что память - манипулирует.
Чем человек впечатлительней, тем, понятно, больше хранит его память, но и больше врет: угодливо или злобно.
Память подкуплена – тобой же, – но, как от продажного создания, от нее можно ожидать подлостей. Обычнейший ее грех – то, что называется «медвежьи услуги».
Обучение: поскольку знаешь, постольку не загружаешь память. Чтобы не запоминать, понимать.
Памятью в обиходе называют ту ее часть, которая доступна для пользования; вообще же доказано, а до
того, конечно, не могло не замечаться, что не забывается ничего.
И между действующей и забытой памятью – свои связи.
Память – резервуар для всего чуждого, и можно было бы надеяться на течи, которых в избытке, если бы утекшее не продолжало «химичить» – коварно.
Память – не друг, но точно, «alter ego».
Избирательность памяти – как, впрочем, и другие ее фокусы – призвана помочь нам кое-что понять в себе. Отделить важное от неважного, например, или прирожденное от привитого.
Иной раз что-то подскажет вывод, и кажется, все предыдущее только к нему и вело – как в знаменитом примере сна, когда прозвонит будильник, и завершаешь длинное сновидение, по ходу событий предполагающее звонок в дверь.
Живое – это многозначное.
Поэтому толкуемо оно может быть лишь задним числом.
Последующее придает свой смысл всему предшествующему – так что мистически настроенному
человеку покажется вдруг, будто это «время бежит навстречу», от следствий к причинам, от божественных
планов на тебя к твоим продиктованным нуждой поступкам, от смысла сущего к лишь по видимости
царящему случаю...
Кого только это не потрясало: окружающее подыгрывает внезапно занявшим ум идеям, опасениям, сложившимся вдруг ситуациям, – подавая им пищу, отвечая чему-то в них, угрожая или успокаивая.
Фатализм – это сумасшедший детерминизм.
Судьба – связная картина из несвязанных событий. Впрочем, одно связующее есть – характер.
Каждая судьба – цепь поразительно счастливых и поразительно несчастливых совпадений.
Что я могу поделать?
Но судьба, так или иначе, делается.
Бываешь похожим на человека, боящегося самому вступить в опасный брод, но спокойно пересекающего
его на плечах кого-то, может быть, еще менее ловкого.
Мелочь при себе, капиталы в банке: в пустяках каждый распоряжается сам, а в главном полагается на какое-то нечто.
На будущее обычно надеются, но мало о нем заботятся. Не мудрее те, кто, не зная, что делать с жизнью,
ведут непрерывную подготовку к ней.
(Последнее, в нашей стране, явлено в масштабах не только личных – в социальных!)
Вообще-то потом не важнее, чем сейчас, но лучшее приятней обеспечить на потом.
Прав умеющий жить так, как хочет, и никого не обижая: сегодняшним днем, завтрашним или теми, что после него – не имеет значения.
Жертвовать своим завтра ради сегодня, целями ради удовольствий – единственный случай, когда «если очень хочется, то можно».
Как надо жить, чтобы в последние дни не сказать себе – жить надо было иначе?
Вероятно, счастливо.
В том, что хоть сколько-нибудь зависит от самого человека, это значит – как тебе свойственно.
Не оглядываться на себя – не жить и вполовину.
Оглядываться на других – не жить как будто вовсе.
Люди порознь лучше, чем люди вместе.
Рисунки (портреты Л. Толстого и Ф. Достоевского) Л. Левченко
