
Альбомы Л. Левченко (рисунки, наброски), акварели, скульптура, гравюра, архитектура • На главную

Не могу сказать, что, составляя эти заметки, выполняю «долг памяти». Я и не рискнул бы спросить Людмилу – можно, я о тебе напишу? Она не терпела «стриптиза». Наверняка есть в портрете и искажения (они неизбежны), – а что может быть неприятнее этого для оригинала. Чувствую, что совершаю большое прегрешение против нее. Кроме того, мне самому тяжело погружаться сейчас в эти осмысления. Но и не делать этого слишком трудно.
…И правда, не стоило бы выкладывать этот текст в интернет. Но есть одно извиняющее меня обстоятельство: как бы ни относиться к тому или иному в Людмиле, но буквально все в ней, от бытовых привычек до ее художественного дара, было так или иначе удивительно, а то и уникально или феноменально. Все наши с ней 40 лет, от первого дня знакомства до дня расставания, я ощущал это вживую. Немыслимо дать всему этому просто забыться.
Она не раз говорила, что человека надо помнить живым, не признавала культа могил, никогда не ходила на похороны, считала, что не нужно ставить памятников на кладбищах (хотя какое-то время и лепила для архитектора-реставратора В.Я. Либсона, проектировавшего иногда надгробия, рельефы-портреты)… Не признавала поминки, а мне много раз завещала (точнее сказать, требовала от меня), чтобы «никому не сообщал, никого не звал», и развеял ее прах в лесу над ее любимым озером, что рядом с нашим домом… На это последнее мне не хватило духу.
Вообще, в течение жизни, смерть – как бы сказать? – не принимала, отторгала. Внутренне не смирялась с ее возможностью – ни для себя, ни для других. Ее неприятно изумляла способность людей деловито составлять завещательные распоряжения, или, в особенности, бронировать себе места на кладбищах (помню, в какое недоумение привел ее поступок одной нашей одинокой соседки, заказавшей и установившей себе доску для колумбария, на которой оставалось только проставить дату ее смерти). «Как будто уже неживые!» Одна подруга рассказала ей как-то, что во время последней болезни матери, перебирая семейные фото, присмотрела и фото матери для ее будущего памятника – «с дальним прицелом». Это Людмилу потрясло.
…Как не понравилось ей высказывание одного близкого мне человека: он поставил памятник своему отцу потому, что при жизни многого ему «недодал»!.. Не то чтобы она вовсе не верила в существование душ после смерти и наши связи с ними; имела и знаки, субъективно достаточные для того, чтобы в это поверить. А значит и в то, что можно восполнить оставшиеся перед умершим долги… Видимо, Людмила считала, что лучшее, что можно сделать в такой ситуации для ушедшего – это сознать свою перед ним вину.
88 лет немало, но, мне кажется, – это был совсем еще не ее срок. Обе ее бабушки жили почти по 100 лет, а сейчас я с тревогой жду звонка ее тети Любови Григорьевны, старше ее на 6 лет, и придется сообщить ей это известие... Боюсь, исход наступил в результате врачебной ошибки, или, может быть, не оправдавшегося врачебного риска: за день до принятия тех злосчастных таблеток, ни о чем худом и не думалось. Каких только стихов она не прочитала в тот день наизусть, решали, какой фильм будем смотреть вечером!.. Много лет Людмила не принимала не единой таблетки, категорически отказывалась от врачей; когда контакт с медициной оказался неизбежным, он оказался и последним… Были, с ужасом вспоминаю, и мои собственные просчеты, когда в течение двух месяцев я отчаянно пытался ее спасти. Встретила свой конец в полном сознании и предельно мужественно, не пытаясь его приблизить, как бы выполняя весь оставшийся долг перед жизнью, и бесстрашно замечая явные признаки его приближения.
* * *
Облога – это ее материнская фамилия, которую она хотела бы считать своей, ибо мать с отцом были с раннего ее детства в разводе, а мать она любила бесконечно. Означает эта фамилия, по одной из версий, «отдыхающее поле», и очень ей этим нравилась. Людмила убеждена была, что человеку вовсе не обязательно как-то в жизни «проявиться» – главное, чтобы он содержал что-то в самом себе.
(Подпись «Левченко», проставляемая в т.ч. под ее рисунками здесь на сайте – это фамилия ее первого мужа, по ошибке оставленная ей в паспорте милицией, которую она много лет носила без права и без желания.)

Интересной личностью был дед по матери – Григорий Васильевич Облога. Почти неграмотный, до революции (кроме службы в армии) он был актером передвижного театра, пел и зажигательно танцевал, а после революции – кем только ни был, от продавца в скобяной лавке до кочегара паровоза; уходил от семьи с каким-то театром и актрисой, но вернулся… В конце концов, работая рабочим-рационализатором на бондарном заводе, руководил азовским самодеятельным театром. Был невероятно вспыльчив, ревнив и прямо деспотичен, – однако и героически добр: первым, под немецкими бомбежками, выбегал откапывать людей из-под завалов (а не растаскивать продукты из разрушенных магазинов, как это делали многие), на всякий крик о помощи не раздумывая выбегал с «друкопелом» (колом) спасать, принимал однажды и роды у соседки, когда ей помочь было некому; также нельзя было представить – касаемо физической жестокости – чтобы он держал скотину, хотя бы курицу, на мясо. Мяса в доме никогда и не было. Был бескорыстен: замечательно владея многими ремеслами, чинил соседям металлическую посуду и пр. всегда бесплатно. Выжили в войну благодаря нему: он делал из ненужных жестянок «крупорушки», за которые бабушка выручала на рынке по полбаночки кукурузной крупы… Был, по мнению Людмилы, невероятно талантлив, не только как актер, постановщик, гример и изготовитель театрального реквизита (например, это был кинжал с западающим клинком, наполненный клюквенным соком…), – но и во всем, что делал. На актеров своих во время репетиций, добиваясь совершенного воплощения своих замыслов, страшно кричал. Репертуар – в т.ч. Чехов (юмор), Горький, украинские пьесы; в «Жидивке-выхристке» (если не ошибаюсь) маленькая Люда исполнила единственную в своей жизни роль – вот она вся: «Рятуйте, люди добрые, тетка Наталка в кринице утопилась!». Кино, кстати, не признавал… Он владел гипнозом, Людмила помнила его удивительные сеансы. Одно время занимался даже чернокнижием, пока, видимо, что-то страшное не произошло, и он не отнес в лес и сжег все эти адские пособия… Говорил «Бога нет, но что-то есть» (высказывание это достаточно неопределенное, скажу от себя, но Людмила подозревала в нем бездну смысла)… А с возрастом будто погрузился в какую-то мрачную неподъемную мысль, практически перестал с кем-либо разговаривать, отстранился от всех домашних, уединился в саду дома в специально построенной им для себя «будке», днем и ночью непрерывно курил любовно выращиваемую им в саду махорку (которая его и погубила)… Но однажды, во время одной из размолвок с Женей, своей первой любовью, которые Людмила переживала ужасно, она заметила из сада полный невероятного сочувствия его взгляд…
«Бабушка Маня», бабка Людмилы по отцу (ее девичья фамилия Шевченко) говорила, что «Людочка потому так хорошо рисует и знает так много стихов, что ее предком был Тарас Григорьевич Шевченко». Если учесть, что эта бабушка также была, как и все старшее поколение обеих семей, почти неграмотной – письма писала, но все слова слитно – то, возможно, так оно и было, ибо в ином случае она вряд ли что-нибудь знала бы о Шевченко. Кстати, в отличие от другой Людиной малограмотной бабушки, понимала достоинство ее рисунков – то есть вообще понимала рисунок (как ни странно, эта способность требует какого-то особого развития, ее лишены и многие вполне образованные люди), и его преимущества перед фотографией.
Отец Люды, Петр Константинович, сторонник новых форм жизни, не желал ее рождения («детей имеют только дураки»), затем, после ее появления на свет, смирился, дал даже Людмиле это ее имя, что было воспринято как добрый знак. Но не хотел жить с семьей под одной крышей, на что мать Люды не соглашалась, и после скорого развода так и устроил свою жизнь: он с обожающей его матерью (бабушкой Маней) жил в крошечном доме в Азове (куда входил, при его огромном росте, согнувшись), жена с тремя их детьми – в Ростове. Люду, приходившую к бабушке Мане, встречал всегда одним и тем же, едва отрываясь от всегдашнего чтения лежа: «а, рыжая…». Погиб вместе со всем партизанским отрядом при освобождении Азова, когда входившие части по ошибке приняли их отряд за немецкий, в отчаянной перестрелке…
Мать, Юлия (Иулиания, Ульяна) Григорьевна – старшая дочь в семье, удивительно, как сейчас сказали бы, «позитивная», скромная, уравновешенная и смешливая, достаточно волевая и всегда и во всем здравая (несмотря на выраженную «болезнь чистоты») и притом самоотверженная женщина – всю себя, от рождения Люды и до собственной смерти, посвятила дочери. Без этого Людмила, с ее тяжелыми болезнями и непрактичностью, безусловно, не выжила бы. К Юлии Григорьевне питали особое, почтительное уважение в семье (даже дедушка на своих репетициях на нее не кричал – она играла в его театре), а везде, где она работала (в основном учителем), ее бесконечно любили. Кажется, в хуторе Юшкине (где во время беременности ей пришлось укрыться от настояний мужа, не желавшего ребенка), всех рождавшихся детей обоего пола называли в ее время Юлиями! В детском доме в Маргаритовке, будучи его заведующей, наладила питание, поборовшись с воровством на кухне (нажив и врагов, но еще больше, конечно, друзей)… В школе в подмосковном Жилино, где в одной комнате в крошечном деревянном домике жили Людмила с мужем и она, – все двоечники, второгодники, неисправимые лентяи и хулиганы оказывались славными и увлеченными ребятами; между прочим, ставили на школьной сцене «Золушку» (Людмила записала по памяти сценарий, делала декорации)… Легких периодов в ее жизни не было никогда. Живя по разным «углам», не имела ничего своего, кроме покрытого какой-нибудь симпатичной тряпочкой ящика – вместо стола. Не понимала разговоров, как это какая-то еда могла быть «вредной»: в ее жизни всякая была полезна, вредным бывало ее отсутствие… Когда Ю.Г. узнала о своей неизлечимой болезни, она сколько могла скрывала это от Людмилы, а все силы направила на то, чтобы купить ей кооперативную квартиру – избавить от соседства с буйной Машкой, а главное от необходимости продолжать жить в той комнате, где ее смерть должна была произойти… Это событие едва не свело Людмилу, в буквальном смысле, с ума.


И был в жизни Людмилы еще один исключительно важный в ее судьбе, необычайный человек – ее отчим, с которым Ю.Г. познакомилась во время учебы в Ростовском педагогическом институте, – Тимофей Васильевич Анпилогов. Благодаря ему маленькая Людмила вышла из какого-то тяжелого психического состояния, страхов, видений, ночных кошмаров, преследовавших ее в Азове… Так повлияла на нее его товарищеская, будто на равных, любовь, бесконечные выдумки, сказки с продолжениями про благородного отверженного «дьявку» и властного негодяя «фон-барон-граф-князя», смешные словечки («скажи "цубуду"!»), пионерские песни (из-за «Милой картошки» Люда звала его «Кар»), главное же – его изумительные оптимизм и жизнелюбие. Эти свойства были в нем изумительны поистине: оставленный родителями, детдомовец, он был от рождения совершенно слепой… Во время его с Ю.Г. работы по распределению в Сибири, в Шипуново и Барнауле, Людмила впервые увидела лес, который до этого представляла в мечтах, покаталась со слепым «Каром» на санках с опаснейших крутых спусков… Увы, там же он, не сумев отказаться от дружбы одного непутевого товарища-учителя, стал приходить домой пьяный, растерял любовь и Ю.Г. и Люды, дело кончилось расставанием… В дальнейшем он работал институтским преподавателем в Ленинграде, был женат. Студентка Люда однажды его там навестила. «Пришла Люда». – «Какая Люда – маленькая?..» Люда была уже значительно выше его. Гуляли по городу; гладя ладонью колонну Исаакиевского, и как бы ища у Люды подтверждения, он восторженно спрашивал ее – «красиво?..».
* * *
Хорошо это или нет, но факт: в Людмиле не было ничего, что называется, ординарного, широко распространенного, сразу узнаваемого.
Даже внешность.
Она была ярко, красно- или медно-рыжей; воспитательница в детском саду называла ее «огонек», а преподаватель истории искусства Сарабьянов, в институте – «мировой пожар». В ее родном Азове все, включая взрослых, это находили большим недостатком (а дети на соседних улицах даже бросали камни), в Ростове же взрослые этим самым восхищались («вы красите девочке волосы?»). Это, говорила она, с детства научило ее не доверять оценкам взрослых, то есть ничьим.
(Фольклор о рыжих и особенно красно-рыжих, вроде «рыжий красный – черт опасный», ей был хорошо известен, но не смущал, а воспринимался как особое указание на то, что пытаться «нравиться всем» ей вовсе не нужно.)
Глаза у нее были скорее зеленые – не карие и не серые.
За явным исключением медно-красной рыжести, многое в своей внешности ее не удовлетворяло. Это внимание к своей внешности объясняла, кстати, тем, что она – художник (не тем, что женщина). Считала себя некрасивой. Это было, конечно, далеко не так. – Считала также свою внешность (лицо) «незначительной»: «если меня увидеть, меня трудно услышать».
Роста довольно, по времени ее молодости, высокого, и склонна худеть. От длительных неприятностей не полнела, как это часто бывает, пытаясь их, как говорят, заесть, а теряла аппетит и «высыхала» совершенно. Веселила ее реплика Гурченко: «Как вы сохраняете такую фигуру? – Стараюсь есть как можно больше мучного и сладкого!». (Того и другого, впрочем, не любила.)





* * *
У нее было много редких, хотя и встречающихся, психических особенностей.
Она помнила себя едва не с рождения. Во всяком случае, она помнила такие вещи, которых еще не могла понять и которых наверняка не хотели бы, чтобы она их запомнила, взрослые, и которые могли происходить точно до ее года. Помнила эпизод ухода ее матери от отца – она на руках у мамы, мама плачет, и проходят они мимо – судя по запечатлевшейся в ее памяти картинке – трансформаторной будки с проводами на керамических роликах…
Очень рано начала говорить.
Она постоянно что-то видела с закрытыми глазами или в темноте, в частности знакомые и совершенно незнакомые лица, беспрестанно менявшие выражение; картины эти были столь детальны, что она не успевала их рассмотреть – жалела иногда, что их нельзя было сфотографировать. У нее никогда не было «пустых глаз», как это названо в одном грузинском фильме, и это бывало для нее и отрадно, и иногда мучительно.
Сны ее бывали яркими, запоминающимися, слишком часто тяжелыми, а иногда прямо мистическими, особенно в самые тяжелые периоды ее жизни, – это было и тесное общение с умершими близкими, доходящее до буквального осязания их прикосновений, и даже однажды видение Христа в облике прекрасного юноши в фокусе света – о том, что это Христос, она догадалась по наполнившей ее невыразимой радости… «Мы ничего этого не видим, – удивилась как-то одна из верующих ее знакомых, – и верим; а ты все это видишь и не веришь!»
Буквы и цифры имели для нее цвет. Причем, если это была цифра, то соответствующее числительное имело цвет другой. Видимо, последнее связано с тем, что имели разные цвета звучания и очертания письменных знаков (но звучание было определяющим, что и понятно, ведь с очертаниями букв и цифр человек знакомится позже, чем с их звучаниями). Имели цвет слова – здесь он складывался в основном из цвета первой буквы слова или его ударного слога. Слова, обозначавшие цвета, сами оказывались другого цвета: например (если не ошибаюсь) слово «голубой» было розовым. Ошибиться в цвете слова она не могла, не мог он и никак в течение жизни измениться – если какое-то нужное название, например улицы, забывалось, она нащупывала его, в памяти, «по цвету». А если чьи-нибудь имя и фамилия составляли по цвету неприятное сочетание, это мешало ей их запомнить. – Относительно принципа, по которому все это окрашивалось, у Людмилы была своя теория: первое зрительное впечатление, которое получал явившийся на свет человек; так, «с» было у нее светло-желтым – как солнце. Но развить эту теорию сколько-нибудь подробно не удавалось. – Таким же свойством обладала ее мама, но окрашивали они все по-разному. – «Окрашивала» ли Людмила музыкальные звуки, не могу сказать.
Она была в какой-то мере лунатик: ее тревожила полная луна, иногда лунной ночью она вставала и что-то произносила или кричала, а потом не помнила этого.
Ее нельзя было будить, в особенности тихонько называя по имени: это вызывало в ней испуг и бурную защитную реакцию. Вообще просыпалась всегда в тяжелом настроении, будто еще во власти «темных» ночных сил.
Запредельно высокое артериальное давление (насколько это имеет отношение к психике) считала своей нормой, никогда не лечила.

Людмила совершенно не боялась высоты – ходить с нею по строительным лесам (мы были архитекторами-реставраторами) было вдвойне страшно: приходилось смотреть не только себе, но еще больше ей под ноги. Могла взбираться по лесам и без настила; когда в такой ситуации ее (первый) муж вызвался ей помочь, в архитектурных обмерах, его всего трясло от страха, и больше его Людмила к этой работе не привлекала… Не привили ей никакой опаски и серьезные падения, их было минимум два: одно в Новгороде, во время студенческой практики, в открытый люк на верхнем ярусе какой-то башни (лишь случайно оказавшийся внизу мешок с цементом спас ей жизнь), другое – на церкви Флора и Лавра на Зацепе в Москве, с вертикальной железной лестницы, с высоты метров четырех. Травма была тяжелой, с длительными последствиями… В детстве забиралась на такие огромные деревья, со своим другом Витькой Беспалько (вообще водилась больше с мальчишками), что мать, увидев ее в очередной раз на смертельно опасной высоте, не могла и слова вымолвить от страха… но запретить этого Люде было невозможно. (Лазать по веткам помогали босые ноги – в сандалиях летом ходили только приезжие ростовские девочки, смущая и восхищая Люду своими гладкими и розовыми, не «порэпанными» пятками.) Забиралась с Витькой и на заброшенную, разбитую и шатающуюся на ветру парашютную вышку; когда однажды к ним напросилась подружка, то на полпути наверх села на какую-то оставшуюся целой ступеньку, оцепенев от страха, и никак не могла спуститься… Во время короткой остановки, проездом, с мамой и отчимом в Москве, собиралась прыгнуть с парашютом в ЦПКиО (была тогда в парке Горького вышка, ее Люда приметила с Крымского моста), – служители на вышке этого ей по малости лет и веса не позволили, дали только скатиться с самого верха вышки по винтовому пандусу, что она и сделала, сильно содрав кожу на руке… Фобии высоты не было близко, но были другие: боялась воды и замкнутого пространства.
(Боялась также грозы – но это было не врожденное. Однажды в ее детстве в ее азовский дом залетела шаровая молния, прямо в ту комнату, где находилась маленькая Люда. Светящийся желто-оранжевый шар, размером с небольшой мяч, выплыл из самодельного детекторного приемника на открытом в сад окне, превратив приемник в трухлявый остов, и медленно, подрагивая, периодически зависая на месте, как бы раздумывая, проплыл по всему дому, «заглядывая» во все комнаты, пока не вылетел в дверь на противоположном конце дома. Все бывшие в тот момент дома застывали при его виде, это их и спасло, и впечатление конечно для всех было незабываемым.)
Ничто социальное ее просто не заражало. Никакой «общественности» – ни самой широкой, ни самой узкой, ни консервативной, ни прогрессивной, ни возрастной, ни «гендерной», ни профессиональной, ни уж конечно политической, и т.д. – с которой бы она заведомо была, хотя бы только желала быть согласной, или которая сама могла бы признать ее своею, не существует. – Ни с кем она не могла бы оценить что-нибудь «заодно», даже с самым близким ей человеком.
По классификации Юнга, которую она очень глубоко восприняла, она была резко выраженным «эмоциональным интровертом», так определяла себя и сама.

* * *
Самостоятельной была с раннего детства. Ограничить ее домовым участком родителям и в голову не могло бы прийти. Ходила с другом, полу-беспризорным Витькой, по всему Азову, например с целью «посмотреть на облака» – в перспективе горбатой, спускающейся к Дону Каменки облака казались совершенно доступными; в не близкой от их дома, еще не снесенной тогда церкви «ели (с Витькой) камунчик и целовали книжку»; доходили до школы к ее маме, оставаясь там до конца уроков… Не раз им случалось и заблудиться, но на этот случай у Люды было, чем помочь обеспокоенным взрослым: «Я – Людмила Петровна Еременко Облога!». Деда Облогу в Азове знали, и детей благополучно возвращали домой.
* * *
У нее была потрясающая, без всякого преувеличения феноменальная память на стихи. В детстве и молодости ей достаточно было прочесть или услышать стихотворение один раз, чтобы она запомнила его наизусть, навсегда. (Она считала, что это свойство развила в ней ее мама, тоже знавшая множество стихов наизусть, – когда помогала мучимой ночными страхами маленькой Люде успокоиться и заснуть.) А позже, когда я узнал Людмилу – может быть, прочесть раза два-три. В последние годы и месяцы она могла часами рассказывать стихи, классические, «советские» и «модерновые», включая и поэмы, великого множества самых разных поэтов, помнила и такие стихи, которых не найти в интернете. Причем авторов их, как правило, не помнила – никогда этим специально и не интересовалась.
…Все, как будто бы все от волшебного полного собрания Пушкина в одном томе в две колонки, до «Облака в штанах» или Симоновских «Пяти страниц» и «Открытого письма»; от «Оды "Бог"» до «Мистера Твистера», «Мухи-цокотухи» или «Миши Королькова»…
Вот только Гомера, Вергилия, Данте и (если не ошибаюсь) «Фауста» Гете никогда не цитировала. Видимо, познакомиться с этим на слух она нигде не могла, и собственного живого интереса у нее это не вызвало, а читать что-либо единственно с тем, чтобы оправдать звание культурного человека, никогда не стала бы.

Когда мама читала ей что-нибудь в детстве, то должна была, по договоренности с Людочкой, тщательно пропускать «жалкое». Впрочем, отступления от правила видимо были: а как же «Боярин Брянский» (наизусть)? Надсона дома или в библиотеке не могло быть… «Жалкого» Людмила знала предостаточно, на собственную беду… «Смерть пионерки», может быть, даже «проходили» – мне наизусть однажды прочитала.
Думаю, ни одного известного ей стихотворения она за всю жизнь не забыла. Но этого никто не смог бы проверить.
Белые стихи, для ее памяти, исключением не являлись. Как и стихи сколь угодно сложные по форме, и со сколь угодно вычурной лексикой. Также и ритмичная проза: например, знала наизусть все ранние рассказы Горького. Приводила длинные пассажи и из обычной прозы. Знала наизусть и некоторые фильмы – в частности, упомянутую «Золушку», в том варианте, в котором с ним и познакомилась в кино – а не в «каноническом» печатном… Далеко не только «Золушку»: когда слух у Людмилы ухудшился, нам пришлось ограничиться фильмами, которые она помнила наизусть или почти наизусть; их хватало…
Однажды в ее комнату в студенческом общежитии зашел будто невзначай посторонний «мальчишка» с толстым томом Пушкина в руках, раскрыл его наугад и зачитал первую строчку какого-то стихотворения. Людмила, по своей всегдашней, хорошо мне знакомой привычке, тут же продолжила… И вспоминала со смехом его неожиданное безмолвное потрясение. Оказывается, это была проверка: он прослышал, что «Людка» знает всего Пушкина наизусть. (Если бы только Пушкина!)
Интересно было знакомиться с МАрхИ того времени – она помнила весь институтский фольклор, который тогда еще существовал, богатый, веселый и остроумный (уже к моему времени его не стало – считалось не «комильфо»).
Любила и пела многие прочно забытые к настоящему времени песни – например, из репертуара Эдит Утесовой («Дни хожу, вздыхаю, ночи все не сплю / Я его не знаю, но уже люблю», «Полюбила я парнишку…», «Расстались мы…», и другое). Часто воспроизводила забавный и трогательный «Дуэт Абрама и Розы» (нашел! – это из оперетты «Взаимная любовь», пластинка вышла в 1940 году): «На мне был новенький сюртук с отцовского плеча – Ты был красив в отцовском сюртуке!»… В азовском ее доме был патефон, к тому времени относится и ее знакомство с этими произведениями. – Она и не знала в точности, что именно публикой забыто, а что – классика. Пела, конечно же, и весь репертуар Марка Бернеса, за исключением разве что «Шаланды полные кефали», – к нему у нее было особое отношение; Георга Отса и Анны Герман (в ее «Колыбельной» – опуская слова о Сталине, а также обходя ту песню, где влюбленная девушка, «когда цвели сады», «платье шила белое»). Многие романсы (хотя «цыганский» стиль не любила). То, чего не пела, но что когда-то ей было услышано, все равно конечно знала наизусть – если спросить, процитировала бы с любого места.
Куда больше характеризует Людмилу то, чего она не любила или к чему была равнодушной, и не пела. Заметно, что она не поддавалась, а скорее и внутренне противилась общим увлечениям. – За исключением антифашистской сатирической версии «Прекрасной маркизы» («Все хорошо, хайль-хайль любимый фюрер, и хороши у нас дела…») никогда, кажется, не воспроизводила песен Утесова (если только они не переходили в репертуары, скажем, Отса, как «У черного моря»), – его дочери повезло в этом смысле много больше! Прямо-таки не выносила Юрьеву; «Саша, ты помнишь наши встречи…» разумеется имелась в числе пластинок к азовскому патефону, и со страстью исполнялась, под гитару, старшими девушками, с заменой «в Приморском парке» на «в Азовском парке»… Не оценила, видимо, и пластинку Козина – не любила цыганские романсы (однако Дина Дурбин, исполнявшая их на русском языке в фильме «Сестра его дворецкого», ее трогала). Хорошо относилась к Шульженко, – если видела ее по телевизору, то точно не выключала – но из ее знаменитого репертуара никогда ничего не повторяла. К обыкновению «мальчишек» (сокурсников) «со значением» напевать что-нибудь из Вертинского – тот как раз вернулся из эмиграции и стал, как это сейчас называется, «культовым» – относилась весьма насмешливо.
Какие-то литературные произведения можно было бы спасти от несправедливого забвения, записав их за нею – бывали у меня такие порывы, но, увы, так ни разу и не собрался. Например, действительно талантливый фельетон (в прозе) из журнальчика, лежавшего на столике в какой-то конторе. «Она не поцеловала – клюнула Шурочку… Вчера – обхохотаться! (о посещении театра). Прогресс заедает! так в одном боте и потопала!..» (В какое время молнию еще называли «прогрессом»?..)
Говорить, в силу этой ее восприимчивости к самой разной поэзии – притом, что Людмила помнила и те стихи, которые ей совсем не нравились – о ее явных поэтических предпочтениях довольно сложно. Пушкин, Лермонтов… Некрасова ставила явно выше, чем это сейчас принято… Некоторые стихи (и романсы на эти стихи) Алексея Толстого («Когда природа вся трепещет и сияет…», «Благословляю вас, леса…», «То было раннею весной…»)… Потрясла только что «разрешенная» Цветаева… Многое из Пастернака (в особенности, кажется, стихи из «Доктора Живаго»)… Кое-чего из ее любимого «репертуара» я не могу и идентифицировать – например, балладу о том, как некий сельский знахарь помог девушке распознать в себе влюбленность в парня, до того только пугавшего ее постоянными взглядами, – нигде этого не нашел. А в последние недели, порадовав медсестру, по моей просьбе, тремя или четырьмя сказками Пушкина, песнями из «Чародеев» (этот фильм «берегла» на приближавшийся Новый год), спев и «Выхожу один я на дорогу...», Людмила часто вспоминала Тютчева «Есть в осени первоначальной…»; Есенина «Сукин сын», «Я обманывать себя не стану…», все «Персидские мотивы» («Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Свет вечерний шафранного края…», «Я спросил сегодня у менялы…»), «Ты жива еще, моя старушка…», «Мы теперь уходим понемногу…», что-то еще... Много раз воспроизвела «Отговорила роща золотая…» (такой тогда и была роща вдали у нас за окном)…
Кстати о предпочтениях. – Не понимала и ненавидела «эстетизм» – «поклоняйся искусству, сам же себя возлюби…». Эстетическое целое не могло, для нее, включать в себя «цветы зла». «Чахоточная дева, на смерть осуждена», уже не воспринималась ей «эстетически».
Известно, что в «преклонном» возрасте первые, детские и юношеские впечатления вспоминаются лучше взрослых и последних. В случае с Людмилой это проявилось по-своему ошеломляюще: различима стала новая волна совершенно незнакомых мне, никогда раньше не слышанных от нее (за сорок-то лет!) стихов.
В последние годы ей стали забываться события (впрочем нет! – не столько сами события, сколько их последовательность), стал жестче характер, непреклоннее суждения… Но в главном, ее внутренний мир ничего, мне кажется, утратить не мог бы ни в каком возрасте. Благодаря, в том числе, этой ее феноменальной памяти на стихи. Дело не в том, конечно, что память может что-то в сознании подменить. Но это был «нижний» его рубеж. Весь безграничный эмоциональный, интеллектуальный и языковый спектр живой для нее поэзии был в ее сознании постоянно актуален.
…Ей никогда не могло быть скучно: она постоянно видела (детальнейшие и меняющиеся образы в глазах) и слышала (стихи, песни). То и другое могло ее и терзать, потому что выбор не был в ее воле; образы могли быть и кошмарными, стихи – это могли оказаться и, например, «Саша» – «Плакала Саша, как лес вырубали», или «Мороз, красный нос» – «А Дарья стояла и стыла»…
* * *
И вот – не знаю, согласилась бы она с этим – главное.
Художник.
Мало сказать, что она «хорошо рисовала» – у нее была, если это выразить точно, абсолютная способность рисовальщика. Эта «абсолютная способность» выражается в умении портретировать. Не все это знают, но знают художники – не каждый, даже справедливо признанный художник может создать настоящий портрет, – это способность исключительно редкая. Художники, наделенные этой способностью, есть и среди прославленных, и среди малоизвестных, и (наверняка) среди вовсе неизвестных, но это – на самом деле – олимп. То есть теми, кто этой способностью не наделен, лицо может быть нарисовано формально точно, пропорции соблюдены, характерные признаки портретируемого представлены, а оно тем не менее остается неузнаваемым или почти неузнаваемым… Людмила же делала портреты так, что даже нельзя сказать, глядя на них, привычное «похож», а только: «это он (она)». Как-то раз наша общая знакомая увидела ее набросок, на котором изображен был я (увы, пока не могу его найти), весьма удивилась и горячо запротестовала: «мы Сашу таким не знаем!». Видимо, ей показалось, что она меня приукрасила. При этом ни о каком ее сомнении, кто именно изображен, не могло быть и речи.
Был еще случай, когда сделанный Людмилой портрет не понравился – жене оригинала. Людмила делала для В.Я. Либсона, как я говорил, скульптурные портреты и все лепные детали к его надгробным памятникам. Но однажды супруга какого-то высокопоставленного покойного деятеля написала жалобу в худсовет Новодевичьего, где злилась на то, что в портрете не отражена его «партийность, высокая принципиальность». Работа пропала.
Из этих работ сохранился в частности рельеф Ф.Ф. Плюща, гл. инженера Метростроя (Немецкое кладбище), который сама она считала удачным. Огорчительно, что лаковое покрытие бронзы от времени потекло, образуя в сухую погоду светлые, разбивающие форму вертикальные полосы – лишь утреннее освещение или дождь позволяют увидеть рельеф таким, каким он на самом деле является.

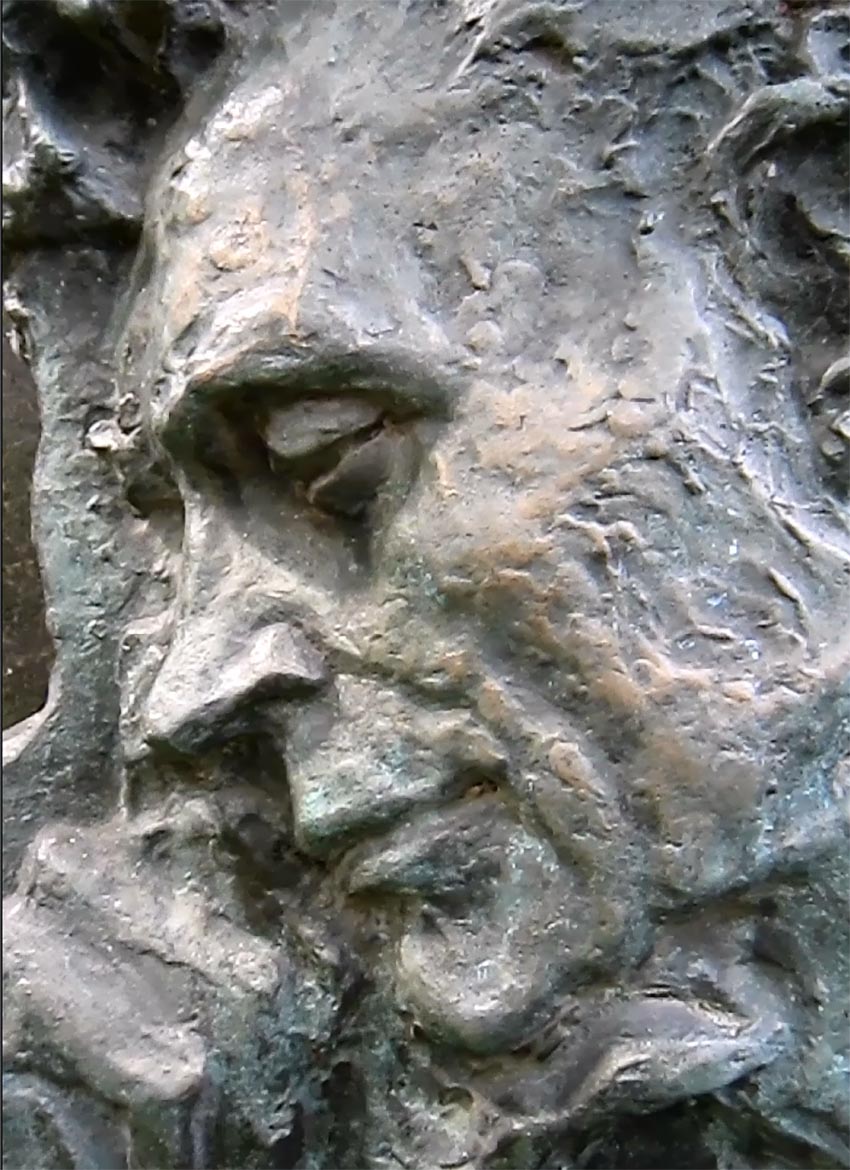
Ф.Ф. Плющ. Рельеф. Бронза
Даже увидев незнакомого человека на ее рисунке, хотя бы едва намеченном наброске, знаешь, что он «похож». То есть, что такой существует.




Однажды мы с Людмилой увидели на асфальте смятую обложку какого-то журнала, на ней едва виден был чей-то подбородок, по которому она тут же признала некую актрису. А ведь одна только маска на глазах делает человека, для большинства из нас, неузнаваемым! – Впрочем, похожими портреты делают не частности, а какое-то непостижимое целое. Она, например, утверждала, что на одном из своих автопортретов себя приукрасила – и показывала на нем, где сознательно исказила пропорции. Это действительно так! Но на узнаваемость портрета это не повлияло нисколько.
Асимметрию в лицах, которую замечала много лучше, например, чем я, считала необходимым передавать, говорила, что это делает портрет особенно похожим. (Если бы того же правила стал придерживаться посредственный рисовальщик, его работы казались бы плохо построенными.)
Лицо с мелкими чертами, или при относительно небольшом черепе, зрительно воспринимается бóльшим, как и наоборот. Хотя Людмила и говорила, что «не имеет глазомера» (якобы не могла провести на глазок отрезок заданной длины), но абсолютный размер лица (как и рук, стоп и других деталей фигуры) чувствовала очень остро. Лица, которые ощущались мной слишком большими, бывали иногда, как она называла это, «с кулачок». Она мне это демонстрировала, если такое лицо помещалось рядом с чьим-то другим, у кого оно действительно оказывалось «в три раза бóльшим». – Наверное, это ее свойство можно сравнить с абсолютным слухом, и несомненно, что оно составляет важную часть рисовального таланта.
Из всех техник, в которых Людмила оставила работы (не говоря о скульптуре, это карандаш, тушь – перо или кисть, фломастер, акварель, масло, линогравюра) она предпочитала карандаш – как самую быструю и, так сказать, непосредственную. В наибольшей степени от этого отличается гравюра: в этой технике художник фактически не видит того, что делает, вплоть до получения оттиска. Однако Эммануил Бернштейн, литографии которого (архитектурные пейзажи) нам с Людой понравились, увидев ее первую линогравюру – портрет В.Я. Либсона – сказал: «если это ваша первая гравюра, то вы гений».


По понятным причинам, я удерживаюсь здесь от таких эпитетов, как «гений», «гениально». Но сам для себя пользуюсь ими уверенно. Например, в отношении скульптурного портрета арх. В.Я. Либсона, вырезанного Людмилой в дереве – долго искомой ей специально для этого портрета, в рощах и болотах, «коряге». (Внешность этого, вообще невероятно обаятельного человека – похожего одновременно на Дон Кихота и на, как говорили, «доброго дьявола» – являлась для Людмилы настоящим источником вдохновения с самого момента ее знакомства с ним в 1963-м году.) Кстати, это единственное произведение, относительно которого Людмила жалела, что оно пропадет, когда ее не станет.

Если не слишком хороший портретист обычно утрирует недостатки внешности в портретируемом человеке, как более узнаваемые, то настоящий портретист и в том числе Людмила – видит и понимает достоинства, лучшее в лице, его, так сказать, Божий замысел и соответственно его собственную красоту. Одна из нарисованных ей заметила: «ты сделала меня красавицей». Люда удивилась. Выше приведен этот набросок («Соседка Нина»), на нем представлена отнюдь не красавица. Людмила просто поняла ее внешность, так, как ее понимала только сама портретируемая.
Рисовала в школе на уроках, в институте на занятиях… Как-то раз упомянутый уже Сарабьянов подошел к ней на семинаре, и потребовал: «покажи». А посмотрев, констатировал: «похож». Это весьма высокая оценка – именно портретируемые находят себя на портретах как правило совершенно непохожими. Они судят себя не по внешним формальным признакам; так точно видела их и Людмила.
Ее главным призванием в искусстве был, полагаю, быстрый портрет с натуры. В лучшую свою пору (когда была «набита рука») – она не нуждалась в том, чтобы ей хоть сколько-нибудь позировали. Достаточно было, чтобы занимались при ней своими делами. – А если хотела изобразить какое-то историческое лицо, то собирала максимум доступных фотографий или репродукций; результат, даже если воспроизводил ракурс какой-нибудь из них, на самом деле не опирался ни на одну; тут работала долго и трудно – идя не от слабого к сильному, а меняя один замечательный результат на другой.
«Создал я в тайных мечтах / Мир идеальной природы, – / Что перед ним этот прах: / Степи, и скалы, и воды!» – эти строки Людмила цитировала как нечто странное для нее. Сам я думаю, что если бы изобразить этот идеальный брюсовский пейзаж, он бы ни к черту не годился. Художник – это умение видеть; практически говоря, хороший пейзаж нельзя создать в мастерской, в этом Людмила не сомневалась. – Рисовала ли она портреты по памяти? Со зрительной памятью у нее точно было все в порядке. Но я знаю лишь один портрет, нарисованный ей не с натуры, – в нем она осмысляла характерности поразившего ее лица. Теперь я этого портрета в ее альбоме не нахожу.

Некоторые ее работы вполне, но своеобразно признаны и популярны – например, набросок (фломастером) Пушкина, оригинал которого безуспешно пыталась купить у нее некая итальянка, и который можно встретить во многих интернет- и печатных изданиях. (На самом деле этот «набросок» представляет собой плод долгих и упорных поисков, один из множества вариантов, в истоке которых лежит тщательно проработанный и замечательный карандашный рисунок – который, подозреваю, она уничтожила как чисто технический, увидев мой интерес к нему…) Так же своеобразно признан портрет Салтыкова-Щедрина, многое другое... «Своеобразно» потому, что почти всегда анонимно, без упоминания автора. Или даже, из-за небрежности редакторов сайтов, под чьим-то чужим именем (как например портрет Л.Ф. Окназовой). Кстати, упомянутый портрет Пушкина, как я в этом лично убеждался, «в народе» обычно приписывают самому Пушкину. Это нас с нею несколько смущало: Пушкин, при всей его гениальности, ТАК не рисовал.
Постоянно приходилось слышать, от увидевших ее работы впервые, одну и ту же непонятную фразу «я бы так никогда не нарисовал(а)!». Это Людмилу даже немного коробило – будто любой может быть художником. Но я, кажется, понимаю настоящий смысл этой фразы: научиться так рисовать нельзя.

Я допускаю – нет, я совершенно уверен, – что если бы ее рисунки каким-то образом оказались в папках лучших мировых художников-классиков (не дутых), то ни один искусствовед или художник не усомнился бы в том, что там им и место, а может быть, какие-то из них и прославились бы как лучшие из работ этих классиков… Этим я не хочу сказать, что художников, к которым было бы применимо такое предположение, более не существует. Но это, повторю, – «олимп».
Способность ее к скульптуре, как я выше уже продемонстрировал, была такой же абсолютной, как и к рисованию. (Странно, но эти две способности не всегда даются художнику вместе.) Материал – глина, пластилин, дерево, кость (пластмасса). Портретов в глине и пластилине не сохранилось ни одного, не сохранилась (подарена) работа и в пластмассе… Из известных скульпторов выше всех ценила, по крайней мере чаще всего вспоминала, Голубкину. Вспоминала, помнится, и Белашову, затем – Шадра, Андреева и, конечно, еще многих других. Смолоду очень трогали ее «Се человек» и «Не от мира сего» Антокольского. А первым ее детским «скульптурным» впечатлением была скульптура «Сатир и нимфа», увиденная в Третьяковке еще до войны – за те несколько часов, что ее мама с отчимом могли пробыть в Москве, успели и туда – думается, это был момент предощущения ее собственных возможностей в этой области.


Ее готовы были принять, переводом из МАрхИ, кажется, в Суриковку. Но Людмила передумала, а там не настаивали, понимая видимо, что учить ее нечему: «умеете лепить (она принесла показать скульптуры) – и лепите!». Так или иначе, она не могла бы сделать из рисования или скульптуры профессию, превратить это в деловую обязанность. Не только какие-то начальственные требования, но даже столь необходимая многим востребованность отбивала у нее всякое желание к творчеству. – Может быть, я приведу не слишком точный пример, но: однажды ее мама, увидев, как она лепит, пользуясь всякими негодными к тому инструментами, купила ей ко дню рождения стеки (что было конечно для них дорого). И Люда, столкнувшись с такой заинтересованностью в ее увлечении, долго не могла после этого начать лепить…
Если можно назвать «стилем» или «манерой» точность, уверенность и какое-то точное изящество штрихов или пятен – то, конечно, они у Людмилы были. Но я бы предпочел этих слов в отношении ее творчества не использовать: подражать такому стилю невозможно (а без возможности его перенять, стиль – не стиль), и слишком часто стиль и манера выступают прикрытием недостатка и мастерства, и таланта.
Когда я сканировал работы Людмилы, немного уже стертые, на пожелтевшей от времени бумаге, в том числе почти миниатюрные наброски из блокнота размером 10х14 см, возникло какое-то ощущение обнаруженного вдруг клада, найденного сокровища. Оказалось невероятно увлекательным – рассматривать ее рисунки под сильным увеличением, обнаруживая то, чего невооруженным глазом, в докомпьютерную эпоху, разглядеть было физически невозможно. Чего, стало быть, не могла оценить и она сама, когда их создавала. А именно: за малостью размеров не скрывалось ни малейшей неопределенности или неуверенности, никакого расчета на то, что «этого все равно не увидят». Об этом и говорить как-то неловко. Ты все видишь; видишь, как карандаш прерывается на зерне бумаги… рвется прямо там, где штрих должен передать почти соразмерные зерну детали… но, так сказать, художественная точность волшебным образом превосходит объективные физические возможности.

Еще о «zoom». – Обожала, на выставках, разглядывать картины – и особенно те, написанные широким мощным мазком, которые «положено» обозревать издалека – с самого близкого расстояния, вплотную. Хотела непосредственно осязать мастерство. Интересно, если бы кто-нибудь сказал ей тогда что-нибудь вроде «мастерство – это еще не талант», – как бы она реагировала? Наверное, заметила бы про себя (ее словами): «плетет черт-те что».
С натуры рисовала очень быстро. А рисуя не с натуры, Людмила так же быстро, чуть ли не сразу добивалась великолепного результата – так, что наблюдатель, я например, приходил в восхищение и считал, что работа совершенно закончена, и лучшего желать нельзя! Но она так никогда не считала, и работа многократно переделывалась (казалось, что, чем больше хвалишь, тем вернее работа будет изменена), переделывалась иногда кардинально, совершенно безжалостно, и порой затягивалась на долгое время, высасывая из нее все силы, до изнеможения…
Говорят, писателя можно оценить по тому, сколько он из своего произведения вычеркивает. То есть, видимо, насколько он способен жертвовать в т.ч. самыми удачными частностями ради целого. Так, не вошедшие в «Онегина» стихи сами по себе гениальны, и т.д. – Но писатель хотя бы оставляет отброшенное в черновиках. Не то художник. Наблюдать за физическим уничтожением замечательного произведения искусства, ради другого, которого ты еще и представить себе не можешь (да еще и без уверенности, выдержит ли, скажем, истертая бумага) – было совершенно невыносимо! – Например, большой портрет Салтыкова-Щедрина был готов, как обычно у Людмилы, невероятно быстро, и был несколько, и великолепно, утрирован. Пока я переживал свои восторги, все «анатомически» неверное было соскоблено лезвием (это рисунок пером); результат, которого еще пришлось со страхом ждать – не «эффект», а совершенство. Из всех «собирательных» (сделанных после жизни) портретов Щедрина, которые только я видел – это, с большим отрывом, лучший.
...Я привычно рассматриваю этот портрет на мониторе кусками, с большим увеличением – наслаждаюсь и изумляюсь невероятной красоте линий, их скрещений и переплетений (а ведь это «непоправимые» тушь и перо!), – красоте, о которой художнику явно нисколько и не думалось – важна была только точность!
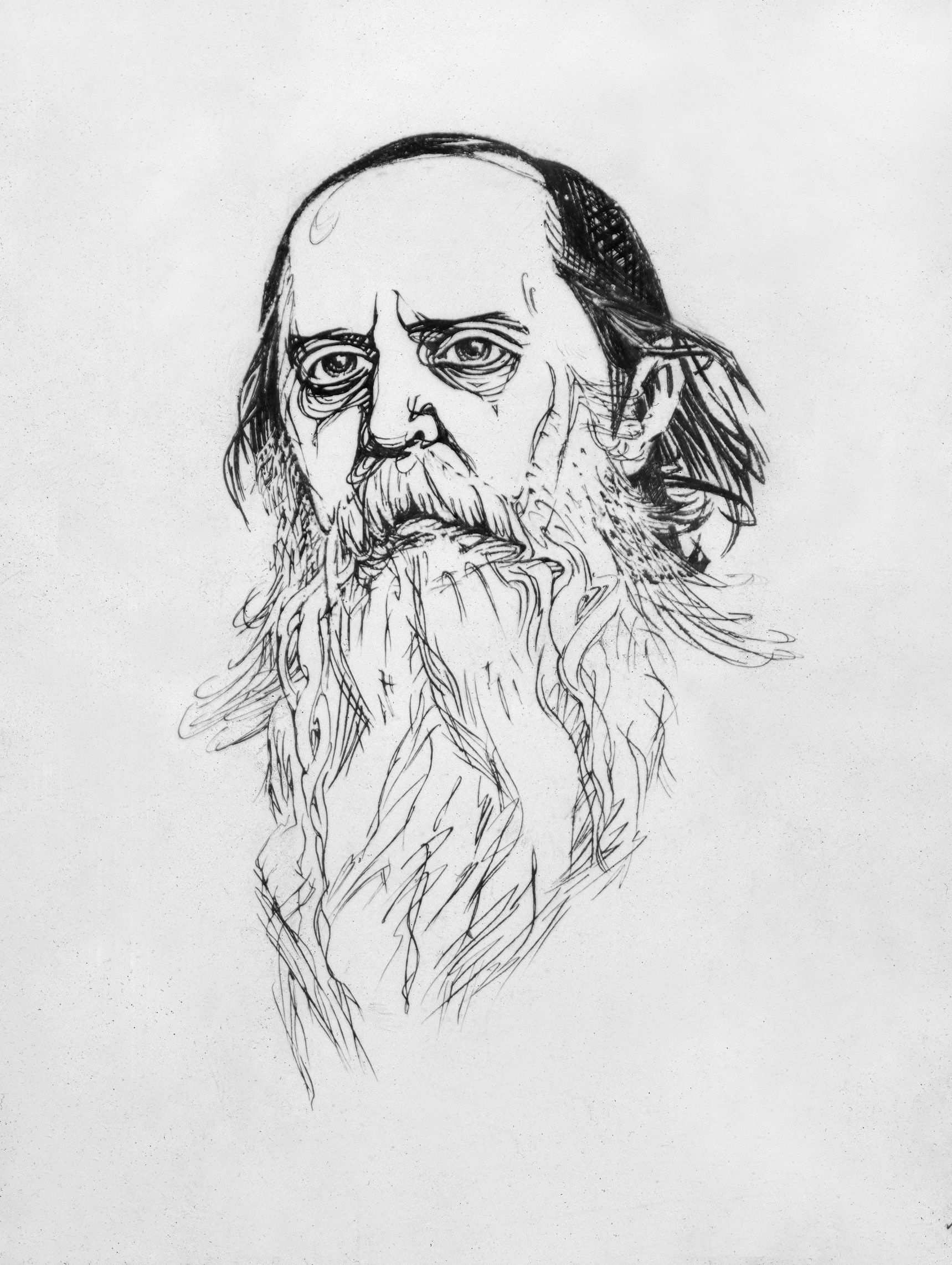
Достигнутое для нее ничего не значило в сравнении с тем, чего ей было надо достигнуть. Бывала так не удовлетворена тем, что делает, что даже я – не могу простить себе – иногда ей почти верил. Сейчас только обнаружил, в самом неожиданном месте, совершенно потрясающий портрет Ахматовой…


Страсть добиться от своего произведения именно того, чего исходно желалось, не удовлетворяясь самым замечательным «что получилось», была у нее совершенно бескомпромиссной, если не маниакальной. С детства. Людмила рассказывала, как еще в дошкольном детстве ее мучило следующее: всегда после дня упорнейшего труда над каким-нибудь рисунком, когда ей уже даже начинало казаться, что желаемое достигнуто, едва приходил сон (что было для нее всегда нелегко, мешали ночные страхи), как ей являлся в глазах яркий идеальный образ рисунка… И наутро – проводив на работу маму, «до синенького заборчика» – она все начинала сначала.
К вопросу о замысле и воплощении: часто говорила, что нельзя заранее точно представить, что и как нужно сделать (в виду своего идеала), для этого нужно видеть, что уже получается, и отвергать… Это касалось и такого неважного, вроде бы, дела, как композиций в доме – художник остается художником во всем. Дом должен был быть «не скучным». Этому посвящала невероятно много времени и стараний. А мне нельзя было привесить, по ее указаниям, картинку или полку иначе, как с третьего раза – на сколько-то сантиметров выше, ниже или в сторону. Такие мелочи, как попорченные дрелью и пробойником обои, для нее, как и положено художнику, значения не имели – вроде как помарка на бумаге.
…По ней видно было, что талант дается человеку не так, как, скажем, дается красота – даром; нет, талант – это заслуга, внутренний подвиг. На ее примере я убедился и в том, что даже только профессиональное мастерство не может возникнуть без страсти, стало быть, без таланта.
Специфически «детских» рисунков, отнюдь не «непосредственных», какими их принято считать, а скорее представляющих собой примитивные схемы изображаемого, у маленькой Люды, по-видимому, никогда не бывало. Она помнила свое удивление от того, как в первом или втором классе соседка по парте, отличница, изобразила на уроке рисования яблоко: аккуратно разделила контур яблока на две половины, а затем одну из них гладко закрасила красным, другую зеленым. И получила пятерку. Едва пришедшая в школу, после изнурительной, едва не убившей ее малярии, Люда считалась, видимо, по всем предметам безнадежно отставшей, и получила за свой рисунок чуть ли не тройку. – Наверное, это был ее первый опыт столкновения с разными учеными оценками произведений искусства – их она совершенно презирала. «Кроме (настоящего) художника, никто в искусстве ничего не понимает.»
…Как трех- или четырехлетняя Людочка усвоила перспективу. – Однажды целый день она промучалась над тем, чтобы изображаемый ей забор от угла «повернулся», упрямо протирала и протирала карандашом до дыр, на многих листах, край забора (Людмила есть Людмила!), пока вечером не пришла с работы мама и не провела от этого края две сходящиеся линии. И все стало ясно. – Уверен, что это был единственный случай, когда Людмила чему-то серьезному в искусстве у кого-то научилась – потому он ей и запомнился.
Нигде в своем довоенном и военном детстве, разумеется, не учась и не имея никаких самоучителей, Людмила поступила в Ростовское художественное училище, где прозанималась год, и затем в Московский архитектурный институт. Пятерки по рисунку на вступительных, которых (не знаю, как сейчас) в МАрхИ практически никогда не ставили, обеспечили ей поступление несмотря на провальное (в отношении аккуратности) черчение, немецкий, которому в ее школе учить было некому, и изгнание с экзамена по письменной математике за подсказки (к счастью, изгнавшая ее математичка после разобралась, по сданным работам, что подсказывала именно Люда, а не ей подсказывали). – А рисовала тогда, до поступления в училище, Люда именно таким способом, каким не рекомендуется этого делать в учебных пособиях: не все сразу, начиная с наметки композиции и общих объемов, а начиная с какого-то определенного места. Люда начинала с глаз. Также и в акварели – не прокладывая предварительно общие тона по всему рисунку, а точками. И тоже начиная с глаз.
Если Людмила чему-то в искусстве и научилась у других (кроме упомянутой перспективы и, может быть, рисованию «от общего к частному»), то только так: достаточно ей было, скажем, увидеть в ростовском музее картину, написанную широким и пастозным мазком, или исполненную по-сырому акварель, чтобы понять: стараться «прилизывать» совсем не нужно.
Но и «развязаны руки» у нее были по-своему. В ее акварелях, вопреки правилам акварельного «шика», работает и карандаш, и невозможны потеки. Ее потрясающая техника вызывалась к жизни задачей, а задачей не мог быть интересный лист сам по себе, но только заинтересовавшая ее натура.

…Объективности ради, скажу – был все-таки один полученный ею совет (от старшекурсника «Володьки» – Владимира Александровича Сомова), который она помнила. «Трудись над работой сколько хочешь, но в результате должно получиться так, будто это тебе ничего не стоило.» Но, точно, Людмила никогда и ничего не сделала бы в своей работе потому, что вспомнила бы какое-то правило. Или озаботилась бы тем, чтобы сознательно придать своему созданию какую-то видимость. Дело в том, что все совершенное само по себе выглядит просто и естественно.
Во время войны рисовать стало не на чем – шли в ход любые свободные поверхности исписанных страниц, старых тетрадок и книг; наверняка проблема была и с красками (если они вообще были), и с карандашами… Но и в обычное время Людмила пользовалась теми минимально годными материалами и инструментами, которые попадались ей под руку, специально и любовно не обустраивала рабочее место и т.д. Единственная, может быть первая ее работа маслом, которая сохранилась – портрет ее девятнадцатилетней, в голубом шарфике, который ей подарил после окончания школы друг Женя – написана на выгнутой крышке старого чемодана (впрочем замечательно ей загрунтованной – ничего не пожухло). Художники давно замечают за собой, как влюбляются в запахи красок (а это может быть и карболка), разбавителей, грунтов – все это объективно не слишком приятные запахи. Их очаровывает, так сказать, сам воздух искусства. Так вот – спрашивал и получил ответ – Людмиле эти запахи не нравились! В искусстве она занималась не искусством, оно в ее задачах оставалось только подручным средством.
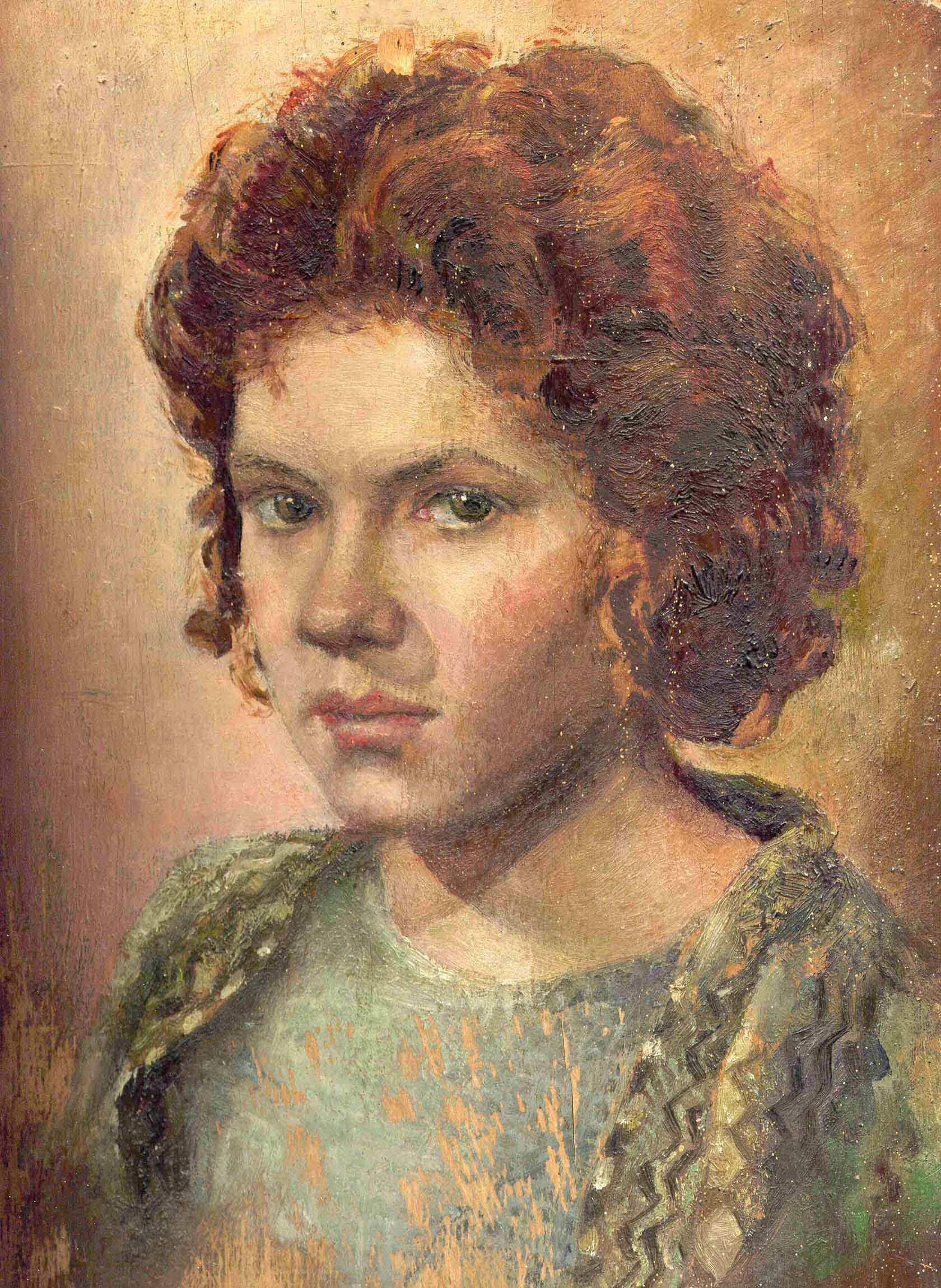
Ее всегда удивляло, когда ее просили что-нибудь для кого-нибудь «хоть кое-как» нарисовать, поскольку ей это не составит труда и в любом случае получится лучше, чем они сами бы нарисовали. «Кое-как» звучало для нее нелепо: рисование требовало напряжения, о котором просящие, конечно, и не подозревали. – Я думаю, что талант – это и есть способность подключить к делу все силы, главное, подсознательные или «надсознательные»…
Могла ли работать без вдохновения? – Никогда и не стала бы, зачем?.. Но ее вдохновение был самый напряженный труд.
Пейзажей она никогда не рисовала и не писала. Жаль… Она слишком любила природу, и ей важнее было ее воспринимать, растворяться в ней, ни на что не отвлекаясь. «Проявляться» на природе было ни к чему. Кавказ, горы, где по ее выражению «чувствуешь себя в гостях у Бога», или ее любимое Подмосковье – она запечатлевала на слайдах, простенькой «Сменой». Но пейзажную живопись (как и вообще живопись) любила – если только это было то направление, которое можно условно назвать по имени его, может быть крупнейшего, представителя – Константина Коровина. (Если пейзаж, уточню это – то пленэр, если портрет – то с натуры; форма лепится цветом; каждый положенный цвет остается ярким, но «знает» о том, какой цвет рядом и в любом месте холста; смелый мазок, без которого не передать неповторимость момента…) Это направление в общем и воспринималось ей как сама живопись, в ее полном выражении, а все прочее, с использованием холста и красок – как что-то другое, к чему никакого интереса не проявляла.
...Большие выставки Левитана и Шишкина (а не только Коровина) мы с ней посетили; конечно, в этих художниках есть то главное, чего она ждала от живописи, только зачем-то, как она говорила, они «связывали себе руки». Кстати, даже французский импрессионизм тоже воспринимался ей как только шаг к этой настоящей живописи. Тот факт, что пленэр, мазок и прочее – открытие этих самых французов, был для нее из разряда «сведений», «знаний», которые на ее непосредственное восприятие повлиять никак не могли.
Однажды мы с ней зашли на выставку художницы, которая, как позже мы узнали, была расхвалена Шиловым. На входе в зал нас встретили как «своих», словами – «заходите, это не мазня!». Людмила ответила – «а мне нравится как раз мазня» (свое отношение к тому, что ей было важно, она не скрывала даже из любезности). И потом несколько дней не могла отделаться от того, что видела мир глазами той художницы (такое всегда с ней бывало после выставок) – в данном случае жестким и бесцветным.
Разумеется, пастозный мазок был важен не сам по себе. Вспоминаю, каким диким ей показалось суждение, что «…зато у Ц. живопись хорошая». Сходили мы специально ее, эту живопись, посмотреть – когда знакомые ей сказали, якобы тот пишет, «как Коровин».
Средневековой (в особенности) и вообще «прилизанной» живописи, что называется «старых мастеров», с ее четкими контурами и локальными цветами, не ценила. Не помню даже, чтобы хвалила живопись Леонардо (в отличие от его рисунков). Историческая значимость этой живописи, никакие ученые сведения ничего, как только что сказано, изменить в этом для нее не могли. Впечатления ее могли быть только прямыми, непосредственными.
Вообще, если Людмила высказывала какое-то свое отношение к чему-то в искусстве, которое меня удивляло, я и сам стеснялся «лезть к ней» с рассуждениями или тем более чьими-то учеными оценками (насколько они были мне известны). Слишком чувствовалась неуместность всего этого – прямого ощущения в искусстве ничто не заменяет. Прав тот, кто больше одарен способностью ощущать. Это как если бы самый догадливый слепой пытался подсказывать дорогу зрячему – тому, кто ее просто видит.

Передвижники, жанровая и историческая живопись для нее, в общем, существовали. Поскольку это и портреты, и выражения лиц, причем в большинстве случаев, конечно, натурные. – Но то, как можно создать «Утро стрелецкой казни» (в этот зал Третьяковки вообще не входила), или «Иван Грозный и сын его Иван» (хотя Репина ставила очень высоко), у нее в сознании не укладывалось. Как и то, зачем на картинах Айвазовского всякий шторм украшается изображениями утопающих.
В конце 1970-х весьма оценила эстамп – в основном, лаконичную цветную и черно-белую линогравюру (например, пейзажи и цветы Татьяны Скородумовой, но и многое другое)… Этот замечательный и воистину демократичный жанр был «похоронен» современным рыночным обывателем с его пристрастием к многодельному и дорогому (или имитирующему дорогое).
Те общепризнанные гении (в кавычках или без), художники, начавшие в 20, 30 или 40 лет, в отношении которых понятие профессионального мастерства как бы неприменимо и чье бьющее в глаза неумение как бы и составляет особую примету их гениальности – для нее совершенно не существовали… «Отдать» ей Ван Гога мне было все-таки жалко: «все-таки он трогает…», начинал я, – но настаивать не решался. (Что до знаменитых примитивистов, то они, прямо говоря, вызывали у нее отвращение.) «Натурализм» с его посягательством на «как живое», а создающий мертвенное, конечно, нужной альтернативой «Ван Гогу» для нее не являлся.
Помню, как насмешил Людмилу рассказ одной интеллигентной дамы, у нас на кухне. Та, в отчаянной попытке лично ощутить великие достоинства Малевича, которые, по ее сведениям, всякому культурному человеку положено было ощущать, надеялась в черной, накрашенной из одного тюбика поверхности его «Квадрата» разглядеть какие-то цветовые нюансы – видимо, долженствующие составить гениальность этого произведения – и не сумела!.. Подходила на самое близкое расстояние, какое только позволено было – и никак! Не хватило у ее глаз, как она решила, соответствующей чувствительности… Желание принудить себя видеть то, чего не видишь, тем паче восхититься этим, было для Людмилы верхом нелепости. (Я иногда пытался смягчить эту ее позицию: «ну, а вот в детстве, когда человек еще только формируется, он может…» – «Нет, не может!».)
Между прочим, разительно неверное использование Малевичем материала – податливые холст и кисть, как и округлая столовая керамика, никак не подходят его монотонно закрашенным геометрическим фигурам – уже, что называется, «заставляет усомниться», – тут не помню ее точных слов. А вообще на соответствие материала и задачи всегда обращала внимание. Если материал «работал» на задачу сам по себе – например, в нужном месте на картине оставался незакрытым краской холст, или в скульптуре оставалось необработанным дерево или камень – это ее всегда радовало. Кроющие или прозрачные краски; хранящая следы пальцев глина, вечный мрамор или живое дерево «работают» каждое по-своему. У Коненкова, например, ей не нравилось то, что в его точеных деревянных скульптурах дерево использовано как мрамор.

Значение и возможности «чистых», ничего не изображающих цветовых пятен и линий чувствовала Людмила, конечно, в самой полной мере. Суждения вроде тех, что хорошую картину можно перевернуть, и она останется хорошей, или что палитры (у хороших художников?) сами представляют собой произведения искусства, и т.д., были для нее самоочевидными. В детстве, ничего, уж конечно, не слыхав об «абстракционистах», сама глубоко и надолго «западала» (ее слово) в рисование пятен, ничего не означающих композиций… Без этого не существует художника! – Кстати, декоративное искусство, по существу остающееся, несмотря на свое прикладное назначение, лишь в этой сфере «чистого искусства» (минус претенциозность), занимало Людмилу всегда. Невозможно представить себе, чтобы в ее быту появилась случайная, не радовавшая бы ее глаз вещь, будь то тарелка или простынка (причем угадать ее отношение к вещи, когда кто-нибудь, хоть и я, пытался что-то ей подарить, было почти невозможно – отношение было слишком личным). Она и сама многое делала в этом роде.
Любила балет – красоту движения. Помнила свое сильнейшее впечатление от первой встречи с ним – кажется, в Москве. Оставила чудесные – легкие и изящные – графические фантазии-композиции на тему балета (часть из них воспроизведена здесь на сайте, а часть оказалось невозможным воспроизвести из-за избранной Людой техники – они процарапаны иглой по какому-то прозрачному пластику). Но, после смерти (или гибели) своего старого друга Владимира Яковлевича Либсона, страстного обожателя гор и настоящего балетомана, уже не смогла его смотреть.


Нащупанный, стилем 1960-х, женский облик считала идеальным (ну, или наиболее адекватным женщине). Моду с ее изменениями – как необходимость чему-то подчиниться в ней, хотя бы на уровне «приличий» – презирала совершенно. «Красиво – то, что красиво!» Едва не разочаровалась в Плисецкой, когда услышала ее слова – «красиво то, что модно». – Действительно невообразимое, для артиста такого уровня, высказывание.
О ее отношении к специфически «современному» искусству. – Когда я, из любопытства к ее реакции, показывал ей какие-нибудь произведения Ш-на, могла здорово разозлиться. Не на Ш-на, а на меня. «Зачем ты это мне показываешь?!» – «Между прочим, он академик такой-то Академии.» – «Мне-то какое до этого дело?!» Как если бы я обращал ее внимание на чью-нибудь позорную оплошность, из тех, которых не следует замечать и тем более комментировать. Фамилии его она точно не запомнила. И, таким образом, никаких ее отзывов о его творчестве не было… Впрочем, вру! Один, косвенный отзыв все-таки был. Однажды нашу старинную добрую знакомую (надеюсь, она этого текста не прочтет), женщину-искусствоведа спросили при нас, нравится ли ей скульптура Ш-на «Петр I», и та с восторженным выражением ответила – «о-очень!». Вот это «очень!» вспоминала часто и язвительно, как пример полной непричастности «понимающей» публики к искусству («они знают только, что говорить»), и ее «стадных» (ее слово) реакций.
Можно, видимо, и не упоминать, что те публичные хулиганские и похабные выходки («перфомансы»), которые встретили столь восторженное понимание в интеллигентских кругах, вызывали у нее ту реакцию, которой они заслуживают. Жалко было только ее нервы. Да еще немного тех наших знакомых, которым случалось некстати похвастаться перед ней принадлежностью к «понимающим».
Не художник для правил, а правила для художника. – Однажды в мастерской, оформляя какой-то поздравительный адрес, применила дополнительные цвета. На что ей в бригаде (группе) искусствоведов тут же деликатно-высокомерно указали. «Успокойтесь, никто из вас ничего не понимает.»
Знает ли талантливый о своем таланте? – Знает! (Правда, само по себе такое «знание» еще не показатель – так бодрствующий знает, что бодрствует, но и грезящий может так думать.) – Видеть на выставках, что кто-то из знаменитостей далеко не так хорошо рисует (обладает способностью рисовальщика), как она, для нее было привычно и совсем не удивляло, это даже не обращало на себя ее внимания. Она могла оценить что-то в замысле картины или в каких-то эффектах. Но, если на это обращал ее внимание я, она не спорила, как с чем-то само собой разумеющимся. Свои возможности она вполне сознавала, но это не наполняло ее никакой гордостью, настолько они были для нее естественны.

Вообще, на удивление снисходительно могла относиться к чужому, совершенно несравнимому с ее собственным, рисованию, просто не сравнивала и потому могла искренне хвалить (хотя правдива бывала чуть не до грубости). Правда, лишь до тех пор, пока кого-нибудь, по примеру «жаль что незнаком ты с нашим петухом», не угораздит поставить ей что-то подобное – хоть и прославленное – в пример.
Настоящие чужие таланты очень ценила. Помнила, по Ростовскому училищу, «Юрку» (Юрия Михайловича) Атланова (его мы однажды увидели издалека рядом с ЦДХ у Крымского моста; не знаю, впрочем, как она оценила бы его «взрослое» творчество), и «Мишку» (Михаила Яковлевича?) Пономарева с его «фиолетовыми», как бы непохожими на натуру, но замечательными натюрмортами. Совершенно одинаково ценила настоящее произведение искусства, видела ли его в Пушкинском музее или на Арбате, «за трешку». У нас в квартире и сейчас висит один замечательный этюд с Арбата – правда, за 40 рублей. Точно также и в обратную сторону, одинаково отвращалась, как правило не комментируя, от не-искусства – наивного, на Арбате, или претенциозного – в ГМИИ. Даже неловко вспоминать об этом – настолько такое отношение было для нее естественно.
Отмечала печальный факт, что настоящий художник, даже самый признанный, работает в прямом смысле ни для кого – поскольку и самый лучший зритель не в состоянии охватить хоть малой части вложенного в его произведение. «На выставках слишком много картин»: того часа-двух, что человек может провести на выставке, не хватит и на то, чтобы рассмотреть одну… На выставках, в силу этого, очень уставала, было ей и обидно за художников, но в общем эта ситуация в особое отчаяние ее не приводила: сама она, по собственному расположению, работала только для себя.
Надо сказать, выставки посещала (для художника) редко – если только кто-нибудь ее «вытаскивал». «Художественные впечатления» получала везде.

Многие, даже великие архитекторы, как рисовальщики далеко «не тянут» на художника. – Пример отличия между «владеть карандашом» и «художник» был у меня перед глазами. Разница была такой же, что и между «хорошей памятью» и ее «паранормальной» памятью на стихи. (Кстати, сама Людмила считала природу любых выдающихся способностей именно «паранормальной».) Все это меня занимало, и, если Людмила вспоминала и хвалила чьи-нибудь студенческие проекты, я всегда интересовался: а рисовал (этот студент) хорошо? – и ответ всегда был: «не обращала внимания». За исключением одного случая. И то, я слышал об этом лишь раз, упомянутое ей вскользь. Однажды ее институтский друг, старшекурсник, всеми в институте признаваемый за великий талант, «закончил» ее рисунок к сдаче (она, как всегда в сессии, «зашивалась»). Тут только она заметила, что рисует он слабее ее. Вообще, чужого вмешательства в свою работу она совершенно не терпела – не представляю, как она ему это позволила! Скорее всего, рисунок был выброшен.
К пропаже своих работ относилась с непостижимым для меня спокойствием, зато к малейшему вмешательству в них – случающемуся в коллективной работе – абсолютно нетерпимо. – Вот первый по хронологии, известный мне пример. Однажды, когда Люда оформляла (рисунками) обще-школьную стенгазету (для класса это было гордостью, и ее освобождали от уроков для этого на два дня), девочке, которой было поручено вписывать в газету тексты, вздумалось в ее отсутствие украсить готовую газету виньетками. Стереть цветной карандаш, видно, не удалось, и Люда газету уничтожила... (О реакции классной руководительницы и всех прочих участников события она не рассказывала, видимо, вспоминать об этом ей было огорчительно, но, точно, никак не раскаивалась. Вообще же сознавалась – «у меня дурной характер».)
Если (по моим наблюдениям) вступающая в искусство молодежь постоянно находится в напряженном поиске каких-то абсолютных, но внешних и конечно же «современных» критериев того, как и что в искусстве «надо» и как ни в коем случае «не надо», то – нужно знать Людмилу, чтобы не сомневаться в этом – ничто такое ее не занимало, она вряд ли даже отдавала себе отчет в существовании каких-то подобных критериев. «Надо» от рисунка ей было всегда только то, скажу от себя, чего было остро надо достичь ей самой. – Это являлось, видимо, каким-то «камнем преткновения» для ее сокурсников, поскольку просто отринуть ее работы или оставить их без внимания, если что-то в них по их представлениям оказывалось как «не надо», было конечно же невозможно. Однажды Люда вошла в аудиторию и обнаружила, что ее блокнот с набросками был извлечен из стола и вся группа обсуждает их с преподавателем, причем так увлеченно, что она смогла незаметно ретироваться; когда она вернулась в аудиторию, блокнот был аккуратно уложен на место, и никто ничего ей не сказал… В другой раз она подслушала разговор своего товарища (Филлера), как он повесил «Людкин» автопортрет у себя дома на стенку, и как затем, в очередной раз что-то в искусстве «поняв», снял («теперь вижу – лажа!», цитировала она со смехом); вскоре он вернул его на место, и спустя многие десятки лет (он сам недавно рассказал Людмиле об этом), этот портрет в его доме висит…
«Искать себя» в искусстве – это было, что называется, не ее проблемой. Всегда делала только то и так, что и как сама хотела. Если что-то подобное и происходило, то, во всяком случае, само собой. Сделать что-нибудь в своей работе единственно с целью, сознаваемой или нет, не быть на кого-то похожей – такого за Людмилой и представить невозможно. – Скажу от себя: такой художник оригинален и в том, в чем по формальным признакам на кого-то похож, – поскольку истинный смысл слова оригинальность – подлинность.
Когда она рисовала что-то (кого-то) «по заказу» (на самом деле всегда только потому, что ей самой было интересно это лицо нарисовать), то заказчику можно было только посочувствовать. Сроков для нее не существовало, существовал только удовлетворивший ее результат, а удовлетвориться результатом ей было практически невозможно. – То же было, в какой-то мере, и на архитектурной работе – где срок святое – но ей прощалось.

Архитектором, как она часто говорила, она себя не считала, вообще находила эту профессию себе несвойственной – в том числе потому, что в ней зависишь в своем творчестве от многих людей и обстоятельств – но была им, внутренне, в большей степени, чем многие известные архитекторы. Я так думаю. И дело не только в ее способности вообразить и спроектировать, которая постоянно отмечалась «метфондами» в институте, и не только в восхитительной, хоть и не особо аккуратной графике с изящными легкими прорисовками, оригинальной и красивейшей серой или цветной отмывкой и пр. (Очень малое из этих работ, и в плохой передаче, можно видеть здесь на сайте. Особенно жалко огромную доску с разрезом по центральной части Странноприимного дома Шереметьева, ныне «Склифа», с многофигурными росписями Скотти в куполе. Другую великолепную доску с общим видом Дома Шереметьева и вовсе погубили – ее «срезали»…) Дело в другом. Она чуть не физически ощущала масштабность или немасштабность зданий, их соразмерность среде и человеку, и остро чувствовала создаваемое ими настроение, какими бы ни были их другие достоинства – а это, видимо, в архитектурном таланте составляет главное. Между прочим, знаменитая церковь в Дубровицах, ее, как она выражалась, «пугала» (сама по себе «пышность» значения тут не имела – нравились же Людмиле церкви в Уборах и Филях). Буквально терпеть не могла Гауди. Не помню, чтобы выражала восхищение средневековой европейской готикой. «Она у нас ренессансистка» (говорил ее преподаватель Т.И. Макарычев).
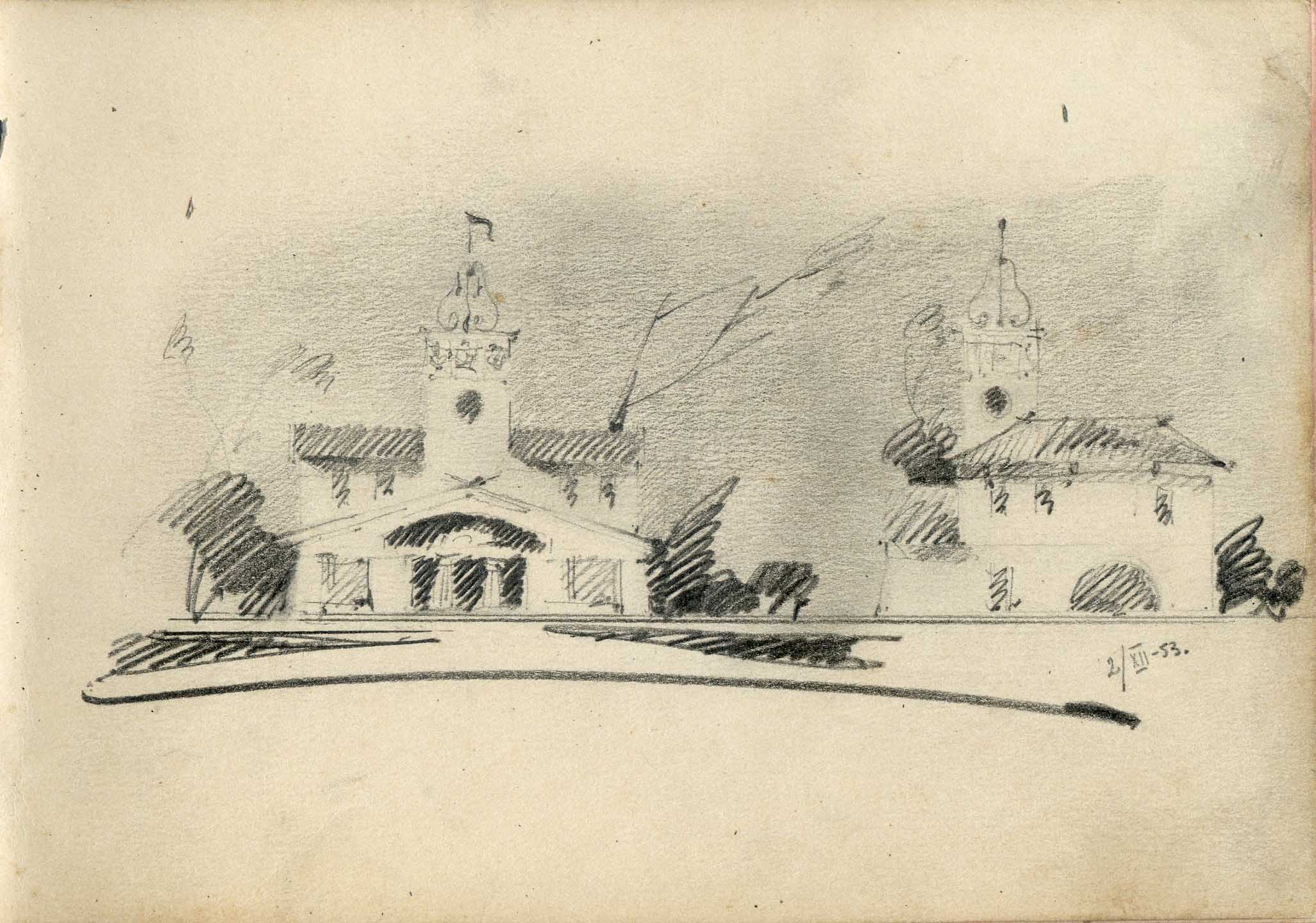

(Гауди – до отвращения и возмущения. Культ Гауди объясняла полной эстетической нечувствительностью питающих этот культ: они радуются, когда хоть что-то их явно «бередит». Чуть не поссорилась со своим давним институтским товарищем из-за его примирительных слов по поводу Гауди – «архитектор имеет право на эксперимент». Действительно, сюрреализм, «страшный сон» в архитектуре – вроде кривых шпилей – эксперимент, академически выражаясь, сомнительный: если живопись имеет здесь то явное преимущество, что, как говорила Людмила, «на картину можно не смотреть», то архитектура создает среду, в которой человек вынужденно обитает, которая должна быть поэтому во всех смыслах комфортной, уже хорошо по ее мнению – если незамечаемой, и которую можно отравить. Исторический испанский город с его средой был Гауди, по ее представлению, «уничтожен» – хуже, чем если бы подвергся бомбардировке. – Как был «уничтожен» Новгород творением другого ее институтского друга – эзотерически весьма признанным зданием Драмтеатра... Впрочем, продолжала этому другу очень сочувствовать, в его одинокой старости.)
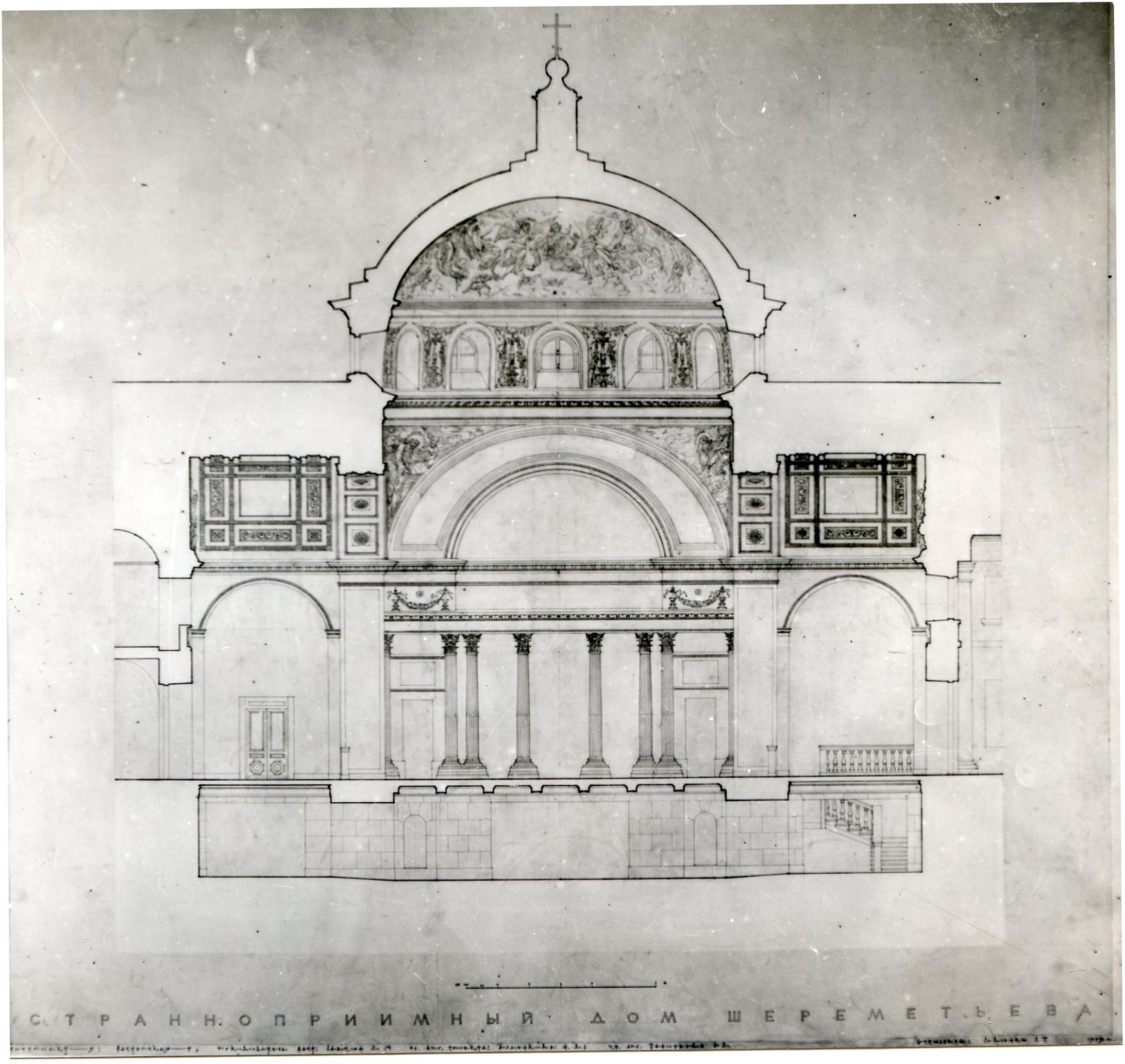
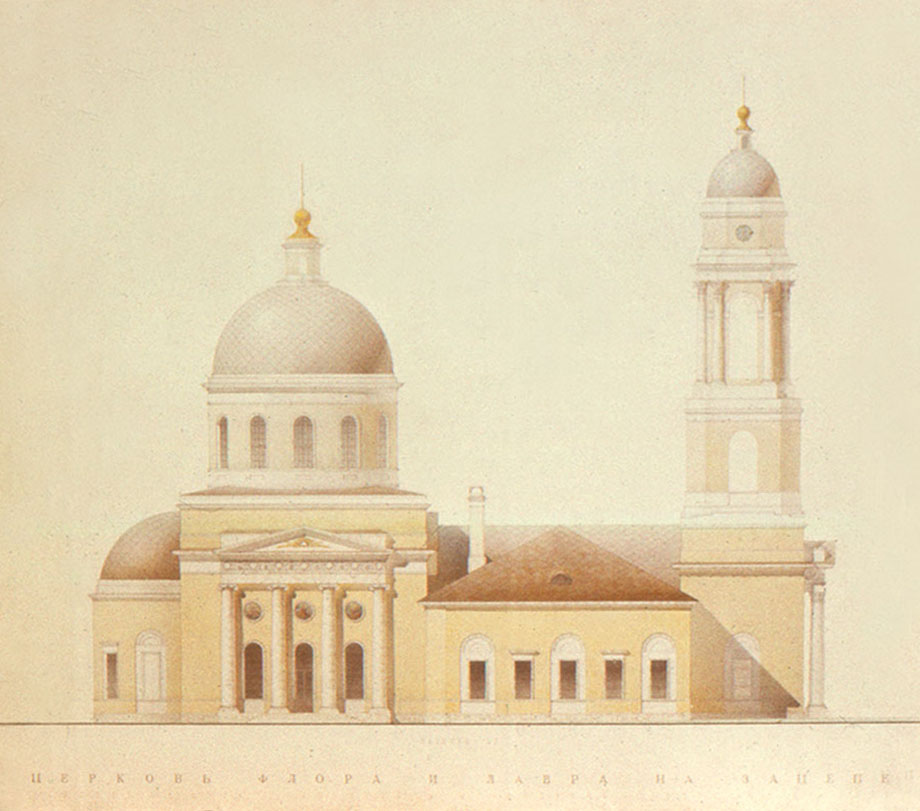
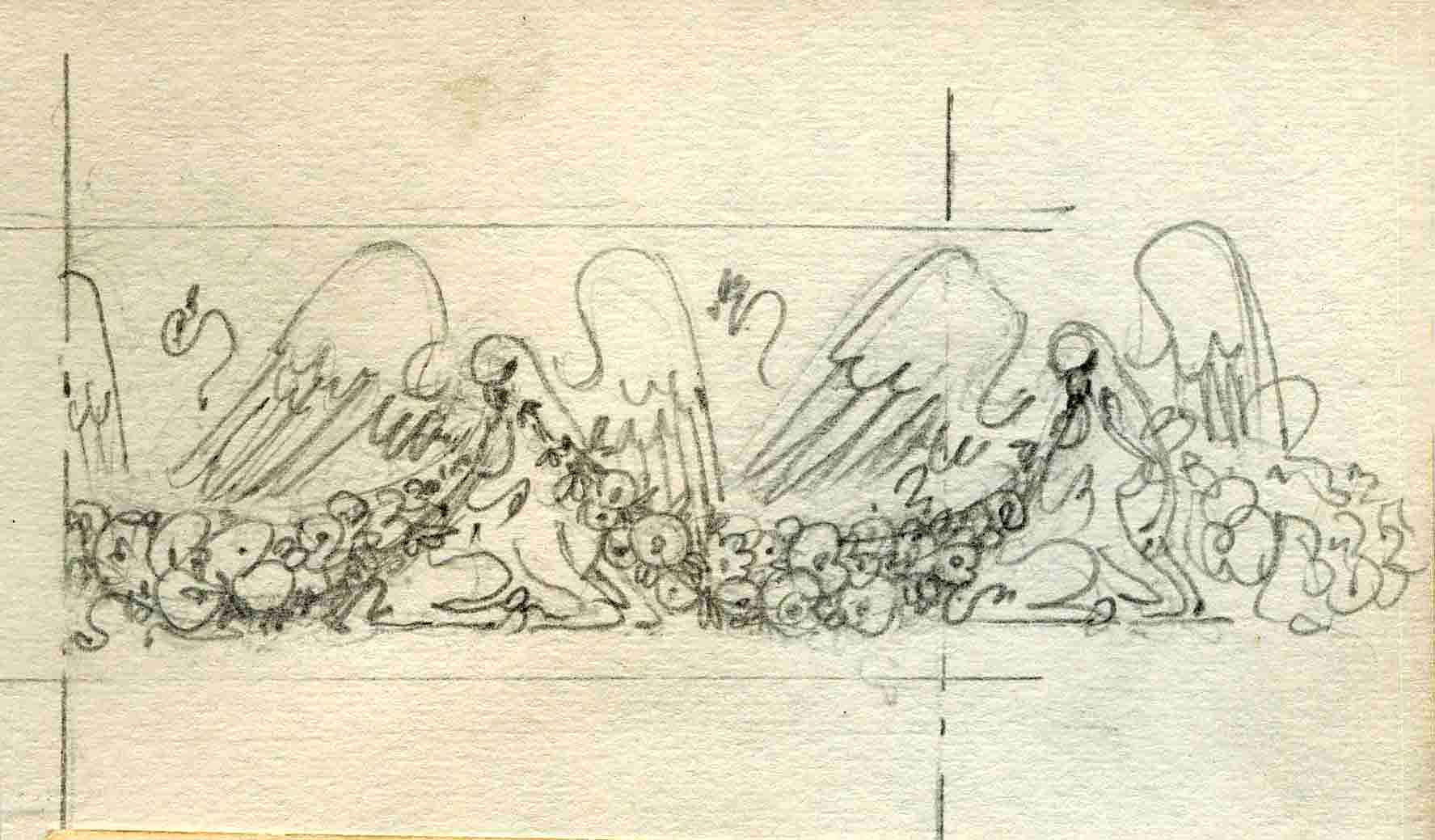
Если, в наших с ней разговорах, мне надо было сказать что-то вроде «лучший художник, какого только можно представить» – я говорил, для краткости, «Коровин»; если «лучший скульптор» – «Голубкина»; а если «лучший архитектор» – «Камерон» (как автор «Камероновой галереи» в Царском селе). – Специально о своих архитектурных предпочтениях Людмила почти не высказывалась, но явно это была вся русская архитектура (заграницей не бывала), всех времен, за исключением классической «готики» (не считая только баженовской церкви в селе Поджигородово), и ложно-национального стиля начиная от Тона. Об этом сужу, главным образом, по нашим многолетним воскресным поездкам по Подмосковью – идея их у Людмилы была всегда в том, чтобы подобраться к какому-нибудь памятнику архитектуры, усадьбе или храму, по возможности не кратчайшим путем, от электричек автобусами, а через «природу». (Мастером такого «подхода» был В.Я. Либсон, и его «желтенькие книжечки» из серии «Дороги к прекрасному» были растрепаны нами до крайности; иногда мы с Сергеем Малыгиным присоединялись к нему в его особенно трудных дальних поездках.) В этом отношении особенно, кажется, потрясает усадьба бабки Лермонтова Середниково – если подойти к ней издалека лесом, со стороны парка. Этой усадьбе сравнительно повезло, в смысле сохранности – в ней находился санаторий («Мцыри») – то же и любимые Людой Валуево, Петрово-Дальнее, Никольское-Гагарино... В основном же памятники архитектуры стояли без крыш и штукатурки, некоторые явно доживали последние годы. Полуразрушенные храмы и усадьбы видеть было хоть и больно, но привычно, к тому же, как говорят архитекторы, «хороша та архитектура, которая хороша и в руинах»… Но на впечатлениях от этих поездок останавливаться здесь нет возможности. Главным в них для Людмилы, как она говорила, была природа, но выбраться на нее было лучше всего, если была «задача» – памятник архитектуры.
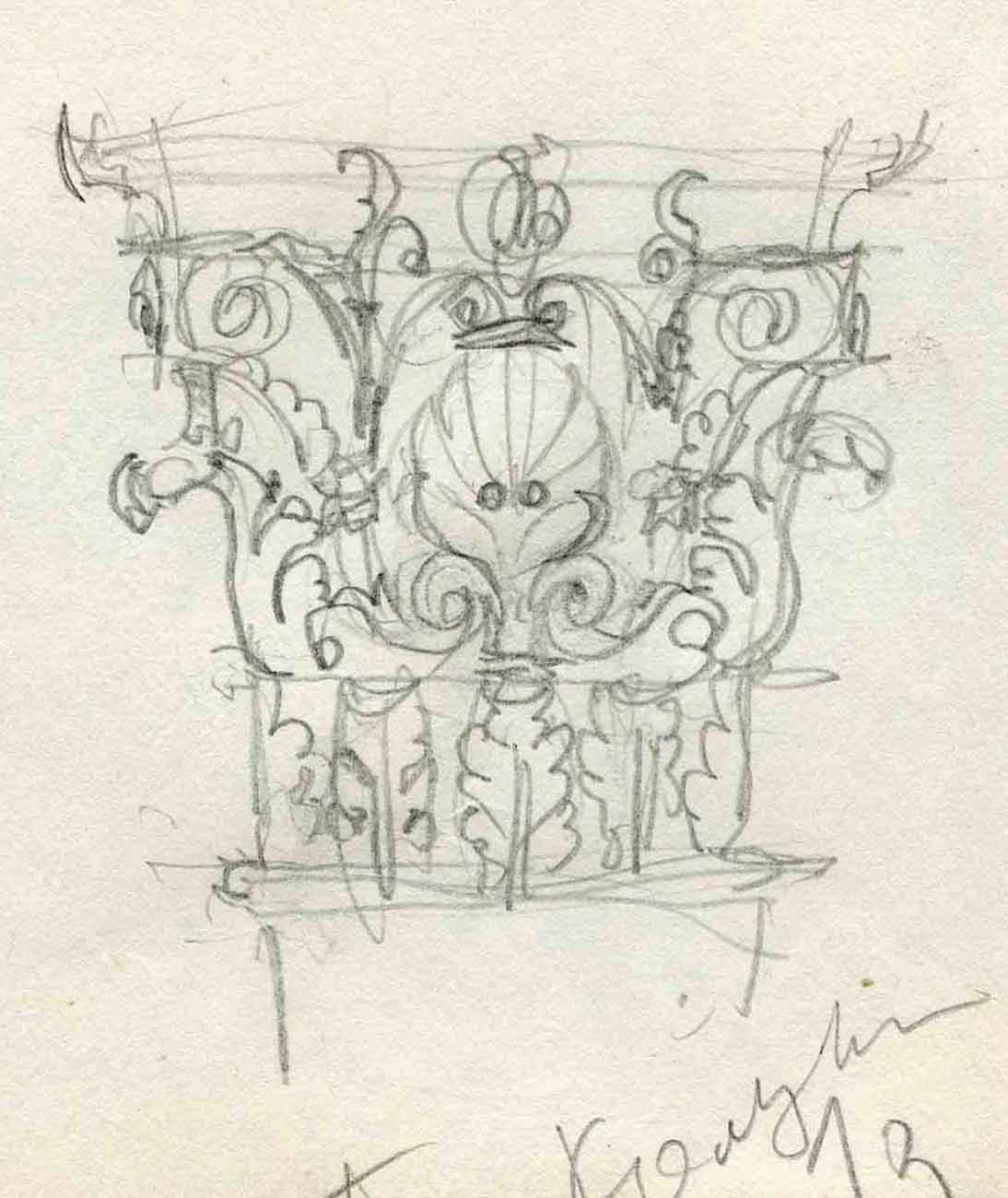
Кое-какие восхищенные или одобрительные высказывания Людмилы об архитектуре, кроме упомянутых, все-таки припоминаю. Стрелка Васильевского острова, вид от Эрмитажа. Церковь Вознесения в Коломенском, в проекции на дали. Дом Пашкова. «Провиантские склады» Стасова. Станция метро Кропоткинская (но заступилась и за пышную арочную Арбатскую, когда Малыгин эту станцию раскритиковал как «сталинскую»; тот даже пошел на попятную – «ну, она может нравиться…»). Кстати, возмущаясь выставленным напоказ телом Ленина, считала здание мавзолея и красивым, и необходимым на фоне огромной голой стены за ним. Нравился ей и Дворец пионеров на Ленгорах, и снаружи и внутри. – Направления в архитектуре могут быть разными, но красота в каждом, разумеется, одна. – Самые увлеченные студенты времени ее учебы копировали для себя чертежи классиков; Людмила этого не делала, но когда узнала, что ее институтский друг, порвав с ордерной архитектурой, выбросил все свои папки таких калек – была сильно в нем разочарована. «Какой же он архитектор.»
Часто подмечала, что по-настоящему хорошо изобразить архитектуру, хоть в самом обобщенном виде – ведь обобщать надо правильно – может только архитектор (хотя тот имеет тенденцию «пересушивать»). Скажем, допустимо ли обобщать антаблемент штриховкой наискосок?.. Недостаток архитектурного «глаза» мешал ей даже в Остроумовой-Лебедевой. А восхитили ее, и в этом и в других отношениях, акварели (архитектора) Натальи Титовой. – Тем не менее радовали и городские пейзажи (маслом) «чистого» живописца Николая Буртова, многих других.
В архитектурных архивах можно раскопать множество ее чертежей – те, что я видел, настоящие произведения искусства. Время от времени к ней подходил какой-нибудь сотрудник мастерской, нашедший что-нибудь в архиве, многолетней давности, и говорил с почтением: «видел твои обмеры» (чертежи памятников архитектуры на тот момент, когда они дождались реставрации)… Но не менее, если не особенно потрясающими были ее кроки (натурные зарисовки памятников и их деталей, какой-нибудь лепнины или освобожденной от штукатурки кладки, по которой «читают» историю здания, с проставляемыми затем размерами); делать кроки приходится в любую погоду в т.ч. под небом и на лесах, с папкой в руках (а не за рабочим столом)… Один из них остался у нас в шкафу, не могу его не привести здесь. (Это фрагмент стены с зондажами т.н. Палат Кушашникова.)
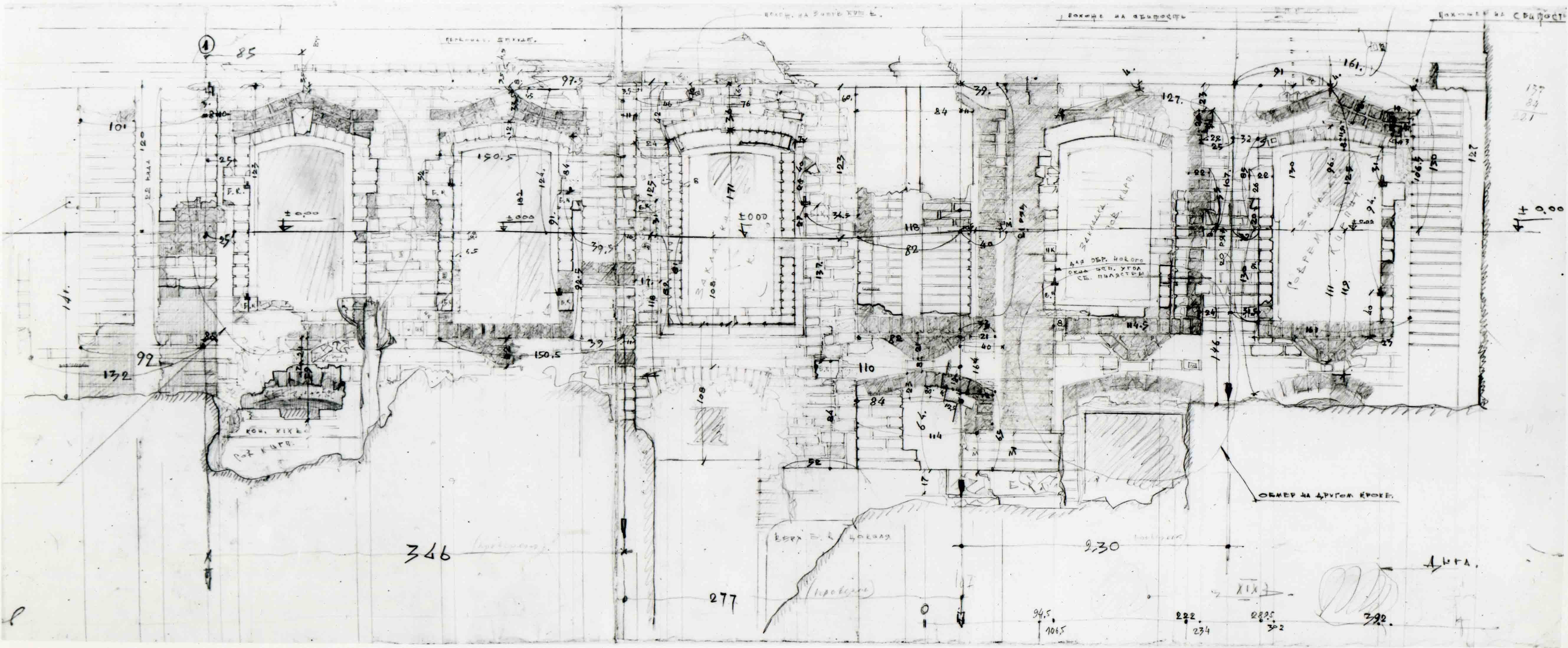
Однажды, к какому-то юбилею нашей мастерской (мастерской Либсона), один из его организаторов (Владислав Мексиняев) уговорил ее написать «Гимн реставраторов», на предложенный им популярный песенный мотив. Она долго отказывалась, ссылаясь на неумение писать стихи. «Если ты умеешь ТАК рисовать, – был его аргумент, – то должна уметь все.» Гимн она написала, по общему признанию, очень удачный – бодрый и оптимистичный. («Дерзаем всех / всех / всех / увлечь свой мечтою – / понятной и простою – / одеть земной наш дом / искусством, / трудом…») Но приведенное суждение Мексиняева показалось ей странным: сама она ощущала так, что способности к чему-то одному даются человеку за счет способностей ко многому другому. (Я думаю, своя истина есть в обоих суждениях, и именно по Людмиле это было видно: талант это своего рода страстность, которая может проявиться в самом разном, но одновременно отбирая силы у многого другого.)

Она забрасывала рисование и лепку иногда на годы – если что-то занимало ее больше. Ведь и в искусстве первое – не сделать, а увидеть, почувствовать… «Художник – тот, кто видит мир как художник» – часто можно было от нее слышать. В этом и состоит его главное преимущество, т.е. его счастье. А, скажем, чьи-то возможные восторги – ее к творчеству совершенно не стимулировали.
Строки «Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь etc.» ей не нравились своей полной, для нее, очевидностью; заключительные слова «нужно быть живым и только…» – тоже ее не впечатляли, не понимала их пафоса. Такой задачи для нее не было – не могла бы иначе. О том, что большинство из подвизающихся в искусстве, по существу, только к тому и стремятся, что по их представлениям обещает славу, и лишь исключительные из них способны ощутить проблему – как при этом остаться «живыми», – ей было знать неинтересно.
…Действительно, такое открытие, как «цель творчества» – «не шумиха, не успех», для большого художника (поэта) что-то уж слишком жалкое. Он мог думать, что «шумиха и успех»?.. Но и настоящая, по мнению Пастернака, цель творчества – «самоотдача» – мне, рядом с Людмилой, переставала казаться значительной. И это тоже было ей чуждо. Самоотдача, что это – самовыражение? служение людям? – Но в обязательность служения людям своим талантом Людмила не верила («никому ничего не нужно», «художник работает ни для кого»). Никак не стремилась и к самовыражению (достаточно вспомнить ее скептические «проявляться», «лезть с собой»); ей важнее было «воспринимать». Могу сказать совершенно точно, что, работая над чем-то, думала лишь о том, над чем работает. Больше ни о чем. Никогда не слышал от нее даже того, чтобы ей захотелось рисовать; только – «нарисовать» (кого-то конкретного). Цель ее творчества всегда была одна – воплотить в материале то, что ее вдохновило в натуре, или точнее – то, какое воплощение этого увидела в идеале. А если готовая работа ее удовлетворяла (и если это была работа из дерева или пластилина), то могла повесить ее на стенку или поставить на полку, и даже на выставки в Доме архитектора ничего не отдавала. Видеть это у себя в доме ей было важнее.
Обозначая свою принципиальную позицию в этом мире, чаще всего употребляла слово «обочина».
Не то, чтобы Людмила не знала о своем даре или не ценила бы его, – это и невозможно. И знала и ценила, была благодарна судьбе, что его имеет. Но это ровным счетом никак не было связано для нее с его внешним признанием – сказалась ее «социопатия». Умение «видеть мир как художник» было всегда с ней, и рисовать было необязательно, а если она кого и нарисовала – то уже, как она говорила, «присвоила» его, так что рисунок не страшно было и потерять. Те соображения, что достойное признания надо еще к этому признанию «приводить», точно такими же методами, как приводится к нему и достойное свалки, так чтобы оно в конце концов заняло свое почетное место рядом с этим последним – были ей абсолютно чужды и противны, она в них и нимало не углублялась. Больше чем «никому ничего не нужно» – я от нее по этому поводу и не слышал.
«А может, лучшая победа / над временем и тяготеньем – пройти, чтоб не оставить следа, / пройти, чтоб не оставить тени etc. » – эти стихи цитировала часто.
С высказыванием какой-то знаменитой женщины «чтобы женщине добиться того же признания в обществе, какого добивается мужчина, ей нужно быть по меньшей мере в десять раз талантливее», согласилась вполне, но никакого огорчения эта ситуация у нее не вызывала. Равноправие, конечно, должно быть, но «женщине самой ничего этого не нужно, у нее более крупное предназначение». – Это серьезное свидетельство! Ведь сама Людмила, несомненно, была в десять раз талантливее среднего занимающего любое положение, на которое она могла бы претендовать. (Впрочем, чисто деловых и административных способностей у нее не было – то ли от природы, то ли от полного пренебрежения к этой стороне деятельности.)


Отсутствие тщеславия – такого «топлива», тем более задачи для ее деятельности не было вовсе – привело к тому, что «оставила» она чрезвычайно, трагически мало. (Болезни и беды также сыграли в этом свою роль, но, подозреваю, главное было даже не в них.) О том, что и сколько она могла бы в искусстве сделать и не сделала – больно и подумать. Ее институтский товарищ «Юлька» (Юлий Исаакович Филлер) как-то ей предрек, что (в моей неточной передаче) «если тебе на пути не встретится человек, который будет тебя опекать, ты пропадешь»; она его не поняла. Видимо, он держался той установки, что человек обязан в этой жизни «осуществиться» и все данные природой таланты «реализовать» (до знакомства с Людмилой и я бы представить себе не мог, что подобную установку можно воспринимать как что-то мелкое и «немасштабное»), – тогда как «осуществлялась» Людмила только для себя и без того, чтобы себя к этому понуждать, а «реализовать» что-либо и вовсе было с ее точки зрения необязательно... Расточительство ее, в этом плане, было совершенно безумным. Идеи, что, если она не рисует и не лепит, то, значит, тратит время впустую или не лучшим образом, у нее и не ночевало; мои уговоры (я уже упоминал о том), что талант это долг перед людьми, казались ей несерьезными: «это нужно только самому художнику»... Но и из сделанного Людмилой почти ничего не сохранилось, кроме двух случайных альбомов набросков, нескольких портретов писателей и нескольких скульптур, представленных на этом сайте (еще не всех). Абсолютное большинство ее рисунков, акварелей, скульптур, декоративных поделок – причем, самого плодотворного ее периода – физически пропали. Все она отдавала тем. кто попросит, теряла, оставляла на старых квартирах и т.д. Это было досадно, печально, и великолепно… О некоторых работах потом и жалела: хотела бы увидеть. Во много, много раз больше жалею я.

…Любила вспоминать высказывание свой мамы, что «художнику достаточно за всю жизнь создать одно-единственное произведение». В каждом отражается он весь.

* * *
Об отсутствии у Людмилы всякого славо- и честолюбия. Чтобы быть уж совсем точным. – Спустя еще весьма долгое время после того, как появился интернет, когда я освоил самое примитивное «сайтостроение» и выложил, не без ее сопротивления, на своем сайте ее работы, они (в основном Пушкин фломастером) стали сотнями воспроизводиться на других сайтах, переходить и в печатные издания (без упоминания имени и, разумеется, без гонораров), показываться, как напр. Салтыков-Щедрин к его юбилею, по телевизору (случайно увидели на канале «Культура») и пр. В частности, ее Пушкина можно было, во время его юбилея, обнаружить едва не на каждом углу: в автобусе на подвесном экранчике, каких-нибудь билетах на выставки, грамотах, майках, плакатах… К своему удивлению, я ощутил в ней некоторую заинтересованность (не больше того) этим явлением. Анонимность и бесплатность она тоже замечала – как факт, – это вызывало в ней какую-то ироническую реакцию. Немного удивляли ее предпочтения публики: гравюрный портрет Пушкина (с брюлловским портретом жены на стене) сама она ценила больше, чем ставший популярным рисунок, также, в отношении мастерства исполнения, и «набросок» фломастером Дениса Давыдова (как бы отталкивающийся от манеры самого Пушкина), – настоящий, по моему ощущению, шедевр. Всерьез огорчала, убивала ее только небрежность в воспроизведении этих работ: срезанные поля, плохая композиция листа, неудачное стилевое соседство с другими портретами и прочее в этом роде. Когда акционерное общество «Марка» решило выпустить марку с ее Пушкиным, оно все-таки обратилось к ней (через мой сайт) за разрешением. Видимо, их волновали возможные денежные претензии автора. Я все за нее тайком подписал – малейшая шероховатость в договоре, заставившая бы ее волноваться за точность воспроизведения, обязательно повлекла бы ее отказ.

* * *
… А каких способностей у Людмилы не было? Это тоже достаточно интересно, само по себе. – Впрочем, наверняка к каким-то из ее слабостей приложим шуточный, но не бессмысленный диалог, который привожу с ее слов: «Умеете ли вы играть на рояле? – Не знаю, не пробовал». – При ее феноменальной памяти на стихи – даже только хорошей памяти на географические, исторические и прочие ученые сведения, названия, имена и даты у нее не было. – По математике и физике имела пятерки, но не без усилий, и некоторые ее друзья (Женя Соппа и Женя Миликовский) были в этом способнее. – При одном взгляде на ее рисунки невозможно было и допустить, чтобы ей не хватало пространственного воображения – но «начерталка» в институте давалась ей трудно; наверное, как и всякий перевод с живого на формальный язык… – Кстати о формализме: в юридических формальностях не ориентировалась совершенно, «провально», об этом я еще расскажу. – Имела хороший слух, любила и умела петь – но замечала за другими слух и лучший, чем ее собственный; не ценила кстати оперу, и классическую музыку «специально» не слушала, разве что «фоном». Совершенно не могла бы, как она считала, научиться играть на каком-либо музыкальном инструменте; ее потрясало, когда ее знакомые осваивали губную гармошку или гитару (А Мэри Славута – и скрипку) самостоятельно. – Не имела, но и не хотела бы иметь главной актерской способности (перевоплощения). – Не могла, впрочем и не пыталась, освоить компьютер; говорила, что если б компьютер существовал и был обязателен в ее детстве, то не кончила бы школы. – Считала, что никогда не научилась бы вязать, а в особенности освоить технику макраме – декоративная сумочка, оплетенные камни и кое-что другое в этом жанре, подаренные «Олечкой» – младшей подругой Ольгой Шелаховой – висели у нее над постелью и постоянно вызывали восторг. – Уверена была, что совершенно неспособна к языкам. (Ее институтская преподавательница видимо так не думала. Когда за последнюю ночь перед экзаменом Люда подготовилась и успешно сдала ей немецкий, та выговорила Людмиле: «как вам не стыдно, при вашей памяти, совсем не заниматься».) – Но, что факт – при ее «филологических» данных для меня в ней удивительный – определенную трудность представляло для нее правописание. Если не задумывалась, могла писать и с ошибками.
* * *
С детства она страстно любила кино. Билетерши пускали ее даже на поздние сеансы (однажды и на «взрослый» фильм, это был невинный «Любимая девушка», – т.к. оторвать ее от окошка кассы было невозможно); классный руководитель отпускала на фильмы с последних уроков (вообще, надо сказать, для нее часто делались исключения…). Понравившийся фильм смотрела всю неделю. Ходила в кино, конечно, и во время (или после?) войны – зимой, под снегом, когда в разбомбленном азовском кинотеатре еще не было крыши. Так посмотрела, в частности, «Большой вальс»… Люда хотела даже стать оператором, но для этого надо было представить приемной комиссии свои фотоработы, а на фотоаппарат у семьи денег не было. – Рядом с тогдашним барачным общежитием Архитектурного института, у ВДНХ, она встретилась воочию с эмблемой Мосфильма, с детства бывшей для нее волшебной, завораживающей, – мухинскими «Рабочим и колхозницей», и это было для нее особым впечатлением… (Понятно, что дело тут было не в художественных достоинствах этого произведения, о которых, впрочем, не высказывалась.)
«Золушка», увиденная ей еще в Азове, ее потрясла и очаровала. Долгое время ни о чем другом не могла и думать, точнее – ничем другим жить. Нарисовала акварелью портрет Янины Жеймо, и – вот единственный известный мне поступок в ее биографии, в котором я Людмилу не узнаю! – послала Жеймо по почте. О том, что ей направлен ответ, Люда узнала во сне. Правда, ответ оказался довольно формальным: актриса благодарила, но объясняла, что получает огромную почту, не может всем подробно отвечать и т.д.
Нравившиеся ей фильмы смотрела – не то что «могла» смотреть, а не могла бы иначе – совершенно не ограниченное число раз. Вообще говоря, настоящее художественное произведение неисчерпаемо, и категории «надоело», «устарело» и пр. к таковому неприменимы; когда она слышала от кого-нибудь эти слова, или хоть «я уже видел» и т.д., в отношении какого-нибудь хорошего фильма, то непременно осуждала «экстравертивность» (приблизительно, поверхностность) говорившего. Любимое это такое, которое ничем не хочется дополнить или разнообразить; у Людмилы не было и специального интереса увидеть что-то для нее новое, тем более только что вышедшее на экраны. А сама идея «ремейков», о которых я ей однажды рассказал, показалась ей отвратительной. – Если я «реанимировал» для нее, «онлайн», какой-нибудь слишком давно не виденный ей фильм, то он ее более или менее разочаровывал – к ее огорчению. При этом ей обычно казалось, что какие-то самые восхитившие ее кадры из фильма из ленты «вырезали»: например, заставку в начале «Большого вальса», которую описывала в подробностях. Перепробовав множество роликов, я подозреваю (хотя не стану утверждать), что ее там и не было. Впрочем, действительно вырезанные куски из фильмов отмечала сразу, с большой досадой.
«Баллада о солдате»… Войну, ее собственный детский опыт, переживала постоянно, так, как если бы все пережитое происходило непосредственно сейчас, у нее на глазах. Ни о чем себе напоминать, ничего для себя оживлять в этом опыте ей было не нужно. – Серьезных фильмов о войне, по крайней мере во второй половине жизни, не могла смотреть. Но 9 мая этот фильм надо было включать. Когда я сказал, что напрасно в его финале сообщается, что Алеша с войны не вернется, мол, это и так слишком вероятно, можно было бы оставить неопределенность – возразила резко: «Надо. Это правда». – Еще одним фильмом, который по этому поводу включался, был «Белорусский вокзал».
При всем ее нестерпимо прямом и беспощадном, для нее самой, взгляде на реальность – известные наивности в любимых ей фильмах, которые конечно не могла не ощущать – а ведь ее первые кинематографические впечатления пришлись на 1930-е и 40-е годы – критическим недостатком для нее не являлись. (Впрочем, то была и не наивность, а сравнительно бóльшая мера условности, предопределенная развитием киноискусства и исторической средой.) Таким критическим недостатком была жестокость. – Ну, и всякого рода «кино не для всех» презирала совершенно.
(То, что в «элитарной» публике считается хорошим тоном выражать презрение к, скажем, «Москва слезам не верит» – замечала с глубочайшим ответным презрением. Передразнивала брошенное кем-то, в адрес этого фильма, «клюква», как пример глупого «стадного» высокомерия...)
Замечательное кино «для всех» – «Впервые замужем», «Когда деревья были большими», «Москва слезам не верит», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ищите женщину», некоторые серии Холмса, даже такие «устаревшие» уже «Верные друзья» (между прочим, сколько я знаю, Галич от этого своего произведения не отрекался) мы с ней воспроизводили часто, а вот обаявший всех фильм с большими претензиями «Доживем до понедельника» ей очень не нравился. С легкостью забытая авторами, возможно убитая ворона, грубое высокомерие персонажа Тихонова по отношению к сочувствующей ему, но недостаточно прогрессивной учительнице – этого было достаточно. Чуть ли не все остальное уже воспринималось ей как фальшивое. Такие категории, как «оттепель» (которая явно представлена в этом фильме) магического влияния на нее не имели, точнее, не имели никакого. И то правда, что никакая, самая благоприятная социальная тенденция – искусства еще не делает.
Всего два, подаренных ей каким-то чудесным случаем относительно современных западных (американских) фильма, ей нравились – но нравились очень. Одно время мы воспроизводили их весьма часто. Это был, во-первых, «Человек со звезды» – где космический пришелец, поперхнувшись бутербродом с ветчиной и отметив, что человечество еще весьма примитивный вид, оживляет убитого на мясо оленя (игра исполнительницы роли его земной спутницы, при этой сцене, просто прекрасна, как и многие другие фрагменты, но здесь об этом говорить нет места). Характерно, что ни в США, ни у нас этот фильм популярным не стал. И второй фильм – «Привидение». Тут она умудрялась не замечать и некоторых отталкивающих «американизмов», и даже (долгое время) слишком жестоких эпизодов.
Полившаяся, в последние десятилетия, мутная информация о личной жизни знаменитостей «убивала» для нее и многих ее любимых актеров, и сами любимые ей фильмы, в которых они играли. Так пострадали, из числа многих, «Шурочка» Смирнова, Гурченко (а с этой последней и «Пять вечеров», и многое другое), Проклова (и «Звонят, откройте дверь», «Собака на сене»)… В студенческие годы она влепила кому-то из ребят пощечину за какое-то его фривольное высказывание о Валентине Серовой. Люди, создававшие прекрасное, сами должны быть прекрасными, иначе их творчество – ложь.
Фильмы занимали в ее жизни важное место, поэтому к этой теме я еще буду возвращаться.
* * *
В детстве и юности очень много читала. Есенина, Пастернака или Цветаевой, как и «серебряного века» (с которым, по памяти, ее замечательно ознакомила мама, бессонными ночами), в азовской библиотеке того времени конечно не было, но и того что было – было достаточно. Толстому не могла простить известного финального превращения Наташи Ростовой… Достоевского вообще недолюбливала, не могла в частности принять того, как это, в «Преступлении и наказании», способность к жестокому убийству могла быть хоть чем-то в характере человека искуплена… Очень любила тогда Горького, в особенности, кажется, его пьесы, да и в дальнейшем его не ругала. Взрослой, она почти перестала читать – за исключением, одно время, умной и провидческой философской фантастики – главное Рэя Брэдбери, – ну и попадавшихся стихов. То, что какое-то появлявшееся произведение вдруг начинали читать «все», скорее настраивало ее против. – Конечно же, все когда-либо прочитанное Людмила помнила в подробностях (могла лишь забыть автора). Во всяком случае, тот «литературный антураж», в котором она существовала, был многократно, несравнимо богаче, например, моего.
* * *
«На природе» для Людмилы, кажется, осуществлялось все, что ей было важно в жизни. Она даже удивлялась тому, что ей еще нужен при этом был спутник – и уважала тех, кого встречала в лесу или у реки в одиночестве, всегда это отмечала… Ей в голову не приходило брать с собой в походы или дальние поездки альбом, карандаши и краски: ни для того, чтобы зарисовывать лица (например, колоритных горцев), ни для (тем более!) пейзажей. «Проявляться», или, как она еще это называла, «лезть с собой» в присутствии природы было бы нелепо, мелко. «Смена» с пленкой для слайдов, которой пользовалась искусно без экспонометра, не отнимала ни времени, ни сил. Возможностей этого «школьного» аппарата ей, для ее целей, было достаточно; иногда и явно нерезкие или с оранжевыми засветками кадры вставляла в рамки, а «качественные» – нет.
Восхищалась Кавказом, который ей «подарил Либсон» (в горах как «в гостях у Бога»), но особенно любила среднюю, лесную полосу (а не степную, в которой родилась: там, повторю это, еще не видев леса, представляла его себе в мечтах). Если только можно сравнивать – природу любила больше искусства. Дерево, говорила она, производило на нее большее впечатление, чем самое замечательное архитектурное сооружение, и его могло быть больше жалко. Мечтала «умереть на тропе»…












Привязанность ее к Подмосковью не означала, конечно, нелюбви к Азову. Вспоминала мучительную ностальгию, охватившую ее в детстве в Сибири, и невероятную радость от встречи с Азовом – тогда все деревья стояли там в – нетипичном, наверное – волшебном инее… Раскидистые мощные «тютины» с черными и розовыми плодами; «жердёлы», белые и желтые – абрикосы с горькой косточкой; вишни; акации – не кусты, как в Подмосковье, а деревья; степной ковыль, дикие желтенькие тюльпаны – обо всем этом я хорошо наслышан…
* * *
Носила она обычно совершенно заношенные, подаренные или подобранные вещи – вот случай аскетизма, естественного для человека, как воздух! – но исключительно такие, которые ей нравились. А «нравится» и «не нравится», «мое» и «не мое» она вообще отличала предельно остро, так что никто не мог бы ее убедить, что ей что-то «идет» или «не идет».
* * *
«Ты можешь прийти в институт в разорванном чулке!» – сокрушался ее однокурсник (Олег Царапкин), которому Людмила, видимо, тайно нравилась вопреки его собственным установкам. Это она поняла, увидев, как хорошо и доброжелательно он ее изобразил в студенческой стенгазете. Кстати, и она его вспоминала часто и очень тепло. – «Ну вот, заХоворила!» – отмечал он каждое ее первое появление в аудитории… Так он передразнивал ее южнорусский выговор, которого она специально, как это делали другие «провинциалы», и не думала исправлять... Между прочим, дети в ее родном Азове дразнили тех, кто пытался произносить «г» по-московски, не слишком прилично, «интеллигузными» (с твердым «г»). Да и чрезвычайно интеллигентный Людин школьный друг Женя, родом из Днепропетровска, всегда отмечал в других такие потуги с неодобрением.
(«Столичное» произношение появилось у нее постепенно, само собой, и то не вполне. Однажды случайный прохожий, видимо филолог, повторил трюк Генри Хиггинса и точно назвал ей ее географическое происхождение. Некоторую южную «напористость» речи, какие-то «взрывные» интонации легко можно было приписать ее характеру – я до этого случая именно так и ошибался.)
Вспоминала свои шуточные пикировки с Царапкиным. «Ты – царапина на теле человечества!» – «А ты – рыжавчина!» Как ее комната выбирала самого красивого «мальчишку» в общежитии, им оказался Царапкин, и делегированные «девчонки» (Люды среди них не было) об этом ему сообщили. «Рыжая этого не ска-ажет», – подслушала она его реакцию. Лет через 50, на встрече выпускников, она ответила: «а я как раз сказала»… Кинула ему яблоко за столом – он и тут, как раньше, отметил ее нестандартную манеру: ну вот, даже угостить не можешь нормально…
* * *
Относилась к вещам (в частности к предметам мебели), как к чему-то одушевленному, чего было жалко не как имущества (сколько-нибудь «ценного» имущества у нее никогда, кстати, и не было, практически все у нас было подобранное или подаренное), – а жалко, именно, по-человечески. Несмотря на любовь к свободному пространству в квартире (множество зеркал отнюдь не имели задачей в них смотреться, в некоторые из них физически невозможно и заглянуть, а именно – раскрывать пространство, «пробивать» глухие стены), – несмотря на это, ей тяжело было что-нибудь просто выбросить; если вещь еще годилась к употреблению, мы ее выставляли так, чтобы какой-нибудь бедняк мог ей воспользоваться. Нередко мне приходилось обманывать Людмилу, мол вещь «уже взяли», в то время как я обнаруживал ее разбитой… Но особо трудно прижиться в нашем доме было вещам новым (и в том числе довольно дорогим), появившимся без достаточной ее инициативы. Такие выставлялись, конечно, с приклеенными к ним напутственными записками «новое!», «исправное!» и т.д.
Не признавала штор, ничто не должно было загораживать главного – света.
* * *
Нищим мы с ней всегда подавали – то есть я подавал. Говорю «я», потому что ходили мы всюду вместе, а сама Людмила предпочитала с деньгами никакого дела не иметь (имею в виду в периоды жизни, когда бывала такая возможность); «при мне», не различала деноминированных монет и бумажек от действующих. – Если бы кого-нибудь угораздило развить при ней популярные нынче идеи вроде «они (нищие) сами виноваты» – ему бы не поздоровилось. Однажды при нас водитель платного, полупустого в тот момент автобуса не впустил женщину, которая не могла платить. Когда я объяснил Людмиле ситуацию, у нее с водителем вышел «крупный разговор» (к счастью, до рукоприкладства дело не дошло). Потом часто цитировала и комментировала смешное оправдание водителя «они (бедные) тоже наглые!»: «тоже наглые, как мы»; «наглые: жить хотят!».
Считала правильным и достойным «жить на минимум», так, на самом деле, и жила. – Если я соблазнял ее на покупку какой-нибудь сравнительно дорогой нужной вещи, мне ничего не стоило убедить ее в том, что вещь дешевая – в ценах, конечно, не разбиралась.
Были в ее биографии случаи, когда крупным попрошайкам, с их отчаянными и явно придуманными историями, отдавала самые большие (для нее) деньги. «Лучше оказаться обманутой, чем сволочью.»
* * *
Цветы любила «трогательные»: полевые ромашки, а из культивированных – маленькие, еще не раскрывшиеся тюльпаны. В ее день рождения, 24 апреля, это могло составить даже некоторую проблему (тюльпаны к этому времени расцветают), но скоро, в нашем с ней союзе, эта проблема отпала: ей не хотелось, чтобы цветы срезали.
* * *
Она постоянно делала интересный и веселый («не скучный»), будто игрушечный или шутливый домашний интерьер. Дети, кстати, очень любили ее дом, что ей было приятно, а одна из близких знакомых (Н.Г. Крейн) даже посвятила ему дружескую шуточную оду – «Что там Коненков, что Эрьзя! Войдите в Людин дом: здесь не разахаться нельзя, так интересно в нем…». Никаких «раритетов», если не считать удивительных кавказских и крымских, а также наших, с Люберецкого карьера, камней; кроме коряг, декоративных фигурок из них, и ее некоторых работ, – в нашей с ней квартире нет. А прозрачных пластиковых бутылочек из-под газировки или банок из-под кофе здесь во много раз больше, чем приобретенных за деньги декоративных сосудов… – Со времен ростовского детского садика, милой и доброй воспитательницы «Ольги Палочки» (Павловны), благодаря которой она полюбила в конце концов и сам детский сад, Новый год был для самым главным и сердечно любимым праздником: к нему в этом садике долго готовились, вырезали из конфетных оберток, серебряных бумажек, елочные игрушки… А мама шила замечательные снежные платья… Постепенно Новый год вообще перестал уходить из нашей квартиры, даже на лето – все вокруг меня полно шариками, искусственными разноцветными елочками, снежинками… и все так больно бьет по сердцу. Через несколько дней Новый год, которого она уже не встретит.

…Нет, был еще один праздник, горький, который она не пропускала и по-своему отмечала – 9 мая.
* * *
Возможно, эта постоянно создаваемая веселость была какой-то ее инстинктивной самозащитой от внутреннего грозного фона слишком серьезных, гнетущих настроений. При ее любви к (остроумным) анекдотам, «оранжевым шарикам», ее озорной ребячливой повадке, отрицании всякой солидности и внешней серьезности, способности изображать собой смешного олимпийского (1980-х) Мишку-талисмана и пр., она говорила нередко, что «жизнь – это и есть ад»… А все свои легкие привычки определяла как «поплавки» (спасательные круги)… Избавиться от тяжелых воспоминаний она не могла, время ее, как она часто замечала, совершенно не лечило. Советы типа «а ты не думай об этом», «а зачем тебе это представлять», «не будь мазохисткой» и т.д. ее обескураживали – все тяжелое и невыносимое думалось, вспоминалось и мучило конечно «само»…
Вообще многое происходило в ней «само». Собственные реакции бывали для нее неожиданными. Также «само» ей и «загадывалось»: что-нибудь вроде «если такой-то скажет такое-то слово, то…». Можно было неожиданно для себя заметить изменившееся выражение в ее лице… «Что будет», она вовсе не «желала знать», но что-то заставляло ее иногда и сознательно гадать, например, по книжке: открыть наугад и прочесть первые попавшиеся слова. Перед опасной операцией ей попалось, таким образом, предзнаменование «…ком земли». («Ну нет уж!» – была тогда ее реакция.)
Отрицательные эмоции, оправдывая название «тяжелых», весили явно больше положительных. В ситуациях «кувалда мимо пролетела» (как их обозначала одна наша сотрудница, восхищавшая Людмилу чувством юмора) – итоговым впечатлением оставалась «кувалда», а не «мимо».
Говорила, что ее не раз спасало от смерти чудо. Несколько таких случаев хочу привести. – Во время фашистской оккупации шальная пуля, отрикошетив от кирпича в бордюре клумбы на участке, едва не задела расквартированного у них в доме немца; если бы задела – Люда слишком хорошо знала, чем это должно было кончиться для всей семьи. (Немец об этом случае никому не доложил.) – О падениях с высоты я рассказывал. – Попала раз и под машину – подарил ей жизнь институтский товарищ «Юрка» Светличный, схвативший в последний момент ее сзади за воротник, – она отделалась только падением и травмой, грузовик все-таки ее частично придавил... (О Светличном вспоминала с большой симпатией, он не однажды выручал ее из бед, в которые она попадала по невнимательности и неприспособленности. Между прочим, до института Светличный отслужил 5 лет во флоте и пел ту же «дембельскую» песню, что и «Савва» в «Покровских воротах» – «мы будем галстуки теперь носить, без увольнительной будем ходить» – эта сцена всегда давала ей повод лишний раз о нем вспомнить.) – А однажды Людмила оказалась «на крючке» у серийного убийцы, знакомого фотографа из реставрационной мастерской (в нем ее всегда удивляла особая застенчивость); его ухаживания, в общем, ее тяготили, но одиночество ее в тот период было полным, и согласиться с ним съездить куда-нибудь на его мотоцикле она могла бы; к счастью, он скоро был пойман. Потрясение ее было глубоким. Этот случай, конечно, доверия к жизни ей не прибавил.
С возрастом, к несчастью, фоновый мрак в ее душе только сгущался. В последние годы это был практически не проходящий, по видимости беспричинный стресс. И людям, и любимым художественным произведениям (как например фильму «Юность поэта»), переставала постепенно прощать те их недостатки, которые видела и раньше. Нарастала непримиримость к тому, даже только в словах знакомых, что она считала злом, и чего по малости того можно было бы, на мой-то взгляд, и не заметить или подойти снисходительно… Но если контакты с людьми (в том числе, увы, и со мной) все более этим затруднялись, в ее внутреннем мире все оставалось по-прежнему: суждения, оставшиеся любимыми стихи, песни и фильмы были только человечными, добрыми. И та же забота о веселом интерьере (также, как ее дед в самые мрачные свои годы продолжал обихаживать сад…), о елочных шариках… Последний фильм, который я для нее прокрутил раз пять, уже во время ее последней болезни, был «Дети Дон Кихота».
* * *
Была, в своих представлениях о судьбе мира, настоящим, как это называется, «алармистом». Во всем происходящем в политике, как и в сознании обывателя, в бездумии и потребительстве, видела признаки того, что раньше или позже мы, люди, «сорвем земную оболочку». «В руках паразита и зверя атомная энергия.» «Земной разум оказался самоубийцей.»
* * *
У нее не было детей, по причине болезни, изматывающей и многолетней, от которой она долго и мучительно лечилась. Возможно, в эту болезнь вложили свою «долю» и голод 1930-х, и голод, холод, ужасы и болезни военного времени… А от ранней смерти ее спас гениальный, молодой тогда врач Валентин Николаевич Серов, к которому она попала практически случайно. К этому врачу она затем устраивала своих знакомых.
* * *
Она ненавидела Гитлера, ненавидела фашизм. Не так, как все мы его ненавидим, – для нее фашизм не был отвлеченным понятием: в ее подростковые годы Азов оказался под оккупацией, а семья не имела возможности эвакуироваться. Я, как мог, отвлекал ее от этих переживаний, они накатывали на нее непроизвольно, в конце жизни – практически постоянно, и приводили ее в слишком тяжелое, опасное для ее жизни состояние. Вновь и вновь переживала бомбежки и «окоп» (убежище на участке, из отрытого дедом старинного турецкого погреба), где эти бомбежки пересиживали вместе с соседями, кто с истошным криком, кто застыв, а бабушка без конца повторяя молитву «живый помощи вышняго…»; чувство, которое она тогда испытывала, она описывала как «сильнейшее отвращение к жизни»... вспоминала, как однажды к ним в «окоп» ввалился несчастный «солдатик»-немец, и как его колотило от ужаса… Бомбы падали и прямо к ним на участок, был контужен дедушка (Григорий Васильевич), поврежден дом, были как будто ножом срезаны любимые мощные «тютины»… Вспоминала и замерзающего немца, встретившегося им с мамой по дороге из Азова, кажется, в Пешково, и спросивший – «сколько еще до Пешкова» – как он заныл, узнав, что еще в самом начале пути… Трагически погибали знакомые. Погибла и одна из ее подруг – красавица Танечка Иванова. (Бабушка Тани переехала с ней из Азова в Ростов, зарево от пожаров над которым было видно в Азове по ночам, к дочери – матери Тани, – это было очевидно безумным решением, и Таня перед отъездом объясняла Люде: «хотя бы погибнем все вместе»; но судьба распорядилась так, что бомба попала прямо к ним в убежище, и живой осталась одна эта бабушка...) Пропадали родители друзей (видимо, члены партии); расстрелян был безобидный городской дурачок, бородатый мужчина, считавший себя ребенком и боявшийся, что его украдут цыгане; пропадали целыми семьями евреи… Когда какой-то идиот-немец услышал, что ее зовут Люда, то переспросил с ухмылкой: юде? юде?.. Это было, как я представляю, страшно и отвратительно.
В первый день войны их с Леночкой Ходос, дочкой близкой подруги мамы «тети Фиры», чрезвычайно занимали подаренные им новенькие береты, желтый и малиновый, на который постоянно садились бабочки. Наверное, если бы не встревоженные лица взрослых, она бы про эти береты и бабочек мне и не рассказывала. – Отец Леночки «Эля» ушел на фронт, мать с Леночкой попытались эвакуироваться – но, видимо, поздно – никаких известий от них с тех пор не было.
Вспоминала с отвращением развешанные по городу плакаты – «Гитлер-освободитель», «Бей жида-политрука, морда просит кирпича»… То, что именно после этой войны в стране появился антисемитизм – когда, казалось бы, он должен был быть окончательно всеми проклят – ощущала как что-то непостижимое и чудовищное.

Со времени оккупации – она сама замечала это – евреи пользовались у нее удивительной безотчетной симпатией, одним только этим фактом: стоило ей разглядеть в чьем-то лице еврейские приметы, что при ее художническом глазе происходило моментально, как человек вызывал у нее расположение и доверие. Даже, если это был самого странного поведения крупный мужчина, изволивший с нею знакомиться на улице темной ночью. Если кто-нибудь говорил ей, что евреи и сами могут проявлять национализм – возражала: им, после Гитлера, это простительно! Евреи казались ей даже внешне красивыми, как она говорила, «нарисованными». Евреем был предмет ее незабываемой первой влюбленности, одноклассник Женя Миликовский, действительно неординарный юноша; были евреями многие главные люди в ее жизни… К эмиграции из России относилась резко отрицательно, но если еврей ехал в Израиль – терпимо; нетерпимо – если кто-нибудь переселялся в Америку или Европу, просто ради более благополучного существования. Совсем недавно я услышал от нее и такую фразу (пишу, поколебавшись): «он (Миликовский) был такой способный, какими бывают только евреи» (и это говорила «102-процентная» славянка, проявлявшая несомненные черты гениальности!).
Меж тем ее ненависть к фашизму не распространялась на «пушечное мясо», простых мобилизованных военных и в т.ч. двух младших офицеров, «Кляйна» и «Гросса» (по росту), расквартированных у них в доме. Солдаты, для ее бабушки Дарьи Кондратьевны, были такие же «сыночки», как и ее собственные двое сыновей, любимых Людиных дядей-братьев (с войны и особо любимый Людой Виктор, и старший Александр, как и отец Людмилы, не вернулись). Один из немецких молодых «солдатиков» запомнился ей тем, как растрогался простыми цветами на их участке: «блюме, блюме!». А Кляйн и Гросс подкармливали детей, демонстрировали семейные фото, подбадривали, что война через месяц-другой кончится (видимо потому, что возьмут Москву…). Однажды Кляйн, увидев Людину маму (Юлию Григорьевну) с каким-то довоенным изданием в руках, где был помещен портрет Сталина, и желая видимо ее предостеречь, заметил ей: «Сталин шлехт (плохо)». На что та без всякой опаски ответила: «Гитлер шлехт», а Кляйн резюмировал: «Сталин шлехт, Гитлер шлехт, шлехт война».
Это были люди как люди. Однажды Кляйн позволил себе вольность по отношению, кажется, к молодой Людиной тете или ее подруге, и та оттолкнула его так, что тот со всего маху грохнулся на пол. Страшно покраснел, но смирился. Никаких последствий не было.
Однажды какой-то немец, видимо выполняя комендантский приказ по городу, собирался застрелить соседскую собаку, забредшую к ним на участок – Тюльпана. Люда так закричала от жалости и ужаса, что тот ухмыльнулся и убрал пистолет. Так же, в другой раз, была спасена от голодного немца и чья-то курица!
Ненавидела, со времен этой войны, всякий национализм вообще. В том числе и нынешний украинский национализм (будучи сама, как она называла себя, «хохлушкой», что впрочем в ее понимании не предполагало, что «хохлы» – не русские). Считала (по-моему, совершенно справедливо), что литературный русский язык – общий культурный язык для русских и украинцев в частности, а «переводы» Пушкина, Крылова или украинца Гоголя на украинское просторечье – в моей мягкой передаче – нелепость. (Любопытно: знала не только Шевченко, но и кое-какие басни Крылова, наизусть, и на украинском – «На старість мавпочка недобачати стала» и пр.) Представить себе, что русский язык законодательно вытесняется на Украине из школьных программ, она просто не могла. «Образованный человек говорит по-русски.» Телесюжет о бомбежке в Луганске, нечаянно увиденный ею, привел ее в ужас, гнев и отчаянье. С тех пор информацию о происходящем в Донбассе я старался до нее не по возможности скрывать…
После Гитлера – ненавидела Сталина. С тех недавних пор, как в ее полюбившиеся смолоду фильмы (например, «Трактористы» или «В шесть часов вечера после войны») вернули исходные славословия Сталину (убранные в 60-х), не смогла их больше смотреть. (Тут только я заметил, что в некоторых из этих старо-советских фильмов ни единого слова непосредственно о Сталине нет: например, «Сердца четырех», «Небесный тихоход», «Антон Иванович сердится», «Подкидыш», кажется, «Весна»…)
«Глубокомысленное» замечание одного нашего сотрудника – он похвалил, кажется, киноэпопею «Освобождение» за то, что Сталин и Гитлер в ней «показаны объективно», «как два великих человека» – вполне могло для него плохо закончиться. Не знаю, не быв свидетелем, как тогда удалось разрядить обстановку. А за высказывание другого «Гитлер для своего народа хотел хорошего» – прямо его возненавидела. Множество попыток примирения, с его стороны, успеха не имели. Конечно же, делать «свой народ» фактически людоедским, как и отправлять его на убой – не значит хотеть ему хорошего.
* * *
Во время войны нарисовала раз, по заказу, игральные карты – за всю колоду получила, так сказать по рыночной стоимости, кусочек хлеба. – Хорошо знала, как сажать овощи: когда, после освобождения, это разрешили – огород стал ее обязанностью. Вспоминала, как чудо, полученный из самой малости «глазков» мешок картошки. – Верила в такое народное лечебное средство, как «парить» – так бабушка Даша спасла ей обмороженные, до пятен, ноги. – Модные в настоящее время высказывания, что, мол, 9 мая – «не праздник», вызывали у нее гнев и отвращение.
* * *
Когда Сталин умер, Людмила училась на третьем курсе института. В то время она совершенно не сознавала «реальности», а вернее сказать, ирреальности, ужаса и мерзости происходящего. Не сознавала до крайности наивно, и – благородно. Был в ее тогдашней жизни эпизод, неминуемо приведший бы ее (и ее близких, и скорее всего ближайших институтских друзей), в лагерь – если бы Сталин не умер.
Вот эта история. Когда, во время «Дела врачей», сына одного из них, однокурсника Люды «Леньку» Когана (Леонида Борисовича Когана) изгоняли из комсомола и института, она одна, завидев его в коридоре в ужасном состоянии и в полном одиночестве, т.к. к нему боялись и приближаться – подбежала к нему с утешениями, мол «вот увидишь, все будет хорошо». А с того момента отчаянно принялась призывать всех за него заступиться – «мы же знаем, что он хороший человек» (не «враг народа»), – что уже было совершенно недопустимо. Товарищ ее и одногруппник «Юлька» (Юлий Исаакович Филлер) убеждал ее, что «стены имеют уши», пытались утихомирить ее и другие ребята, но она их совершенно не понимала, считала, что они «плетут» какие-то странные глупости. Дело дошло до комсомольского собрания, на котором институтский комсомольский секретарь припомнил ей и непостановку на учет (вступив в Азове в комсомол исключительно затем, чтобы видеть на собраниях Женю Миликовского, в МАрхИ она на учет не встала), – и, страшнее того, то, что она с оккупированной территории… «Какой гад» – возмущалась втихомолку ее ближайшая подруга «Инка» (Инесса Самуиловна Генкина), – Людмила и ее не понимала: «просто дурак!»... Мать Людмилы, хватаясь за соломинку, уже выписывала из Азова справки о том, что отец Людмилы Петр Константинович Еременко был партизаном и погиб, но Людмила, видимо, и тут не знала, для чего это нужно… Все неминуемо кончилось бы очень быстро и ужасно, но Сталин вдруг умер и «врачей-убийц» освободили. Тут же «реабилитирован» был и «Ленька». Поздравлять, обнимать и целовать его сбежалась огромная толпа…
* * *
Если надо было защищать кого-то, физически, могла подраться с кем угодно, в самой нешуточной ситуации. Кулаками, ногами. И побеждала. Так, однажды она спасла меня – вполне возможно, что и от нечаянного убийства – в пустом выселенном доме, от десятка разъяренных и сильно выпивших мужиков. (Спасибо, Люда!) Ситуация была такая. На одном из объектов нашей мастерской, маленькой городской усадьбе – памятнике архитектуры, заказчик подрядил столяров в порядке «халтуры» сделать для нее новые рамы; этого делать было нельзя, и наше начальство запретило эту, уже начатую ими работу. Пострадавшие без вины столяры почему-то вообразили, что виноват я, и когда мы с Людой, ничего подозревая, явились на «объект» по своим делам, то… (Примеры, конечно, можно значительно умножить.)
* * *
Когда чужая беда была безусловной – боль, болезнь, смерть, – сострадание могло достигать в ней степени, прямо губительной для ее психического и физического здоровья. Помню, что с ней было, когда умирала молодая наша сотрудница Шурочка Денискина (иначе ее не называли)…
Зрелище физического насилия (над человеком, животным, насекомым…), ни в искусстве, ни уж тем более в реальности, было для Людмилы совершенно невыносимым. Это свойство в ней было, по-видимому, врожденным: во всяком случае уже в возрасте четырех-пяти лет ее друг-одногодок Витька, когда ссорились, начинал перед ней давить на дороге «комашек» (козявок). Знал, чего она не переносит более всего…
* * *
Однажды ей достался дефицитный тогда билет на только что вышедшего «Андрея Рублева». К счастью, о том вовремя узнали и уберегли ее от встречи с этим чудовищным произведением – «тебе этого нельзя смотреть», – и объяснили ей в общих чертах, в чем дело… Но одно впечатление от фильма она все-таки вынесла. Билет выпросила у Людмилы молоденькая беременная сотрудница, хотя Людмила и всячески отговаривала ее, боясь за ее здоровье, за возможный выкидыш и т.д. Та только пожимала плечами. На следующий после сеанса день обеспокоенная Людмила удостоверилась – все прошло для этой сотрудницы, как ни в чем не бывало.
* * *
Ненавидела толпу, всегда сбегающуюся поглазеть на разные трагические ДТП, и пр. Ненавидела любопытство к несчастью. На всю жизнь запомнила оживленно-заинтересованное лицо одноклассницы, поторопившейся сообщить Люде известие о гибели ее ближайшей подруги Мэри Славуты. Вообще считала любопытство жестокостью (не помню точных ее слов).
Не оправдывало для нее бесчувственности даже любопытство ученое – «абстрагироваться» не умела. Вообще, по моему ощущению, «интересно» не существовало для нее раздельно, тем более не могло перевешивать «привлекательно», «радостно», «приятно». Институтская ее подруга «Инка», чрезвычайно способная и всем интересующаяся, до поступления в МАрхИ год или два проучилась в медицинском; Люда была конечно уверена, что та сменила институт из-за «анатомички». Может, впрочем, и знала истинную причину, но сумела забыть. Услышать от самой «Инки», через десятки лет, что, напротив, та с интересом «препарировала», было для Людмилы неприятным потрясением.
* * *
«Счастлив тот, кто любит все живое… Полон мир страданьями людскими, Полон мир страданьями зверей…» В этих стихах Людмила никак не могла принять слово «счастлив» (видимо, и на самом деле автор имел в виду скорее «блажен»). Ее любовь ко всему живому, «червю» включительно, причиняла ей только постоянную боль.

Конечно, она любила животных, но сама предпочитала называть это точнее: жалела. Жалела до крайности, до болезненности остро. Дико было бы и представить, чтобы она «приобрела» (купила, например) себе животное, потому что оно ей понравилось, тем более потому, что оно «породистое» и т.п. Одно время в нашей квартире жили сразу три собаки (полуболонка, дворняжка средних размеров и огромное, возможно породистое и очень доброе существо весом ровно в 100 кг), а также три кошки, нелетающая от рождения ворона и два голубя-инвалида. (Все они, разумеется, были подобраны в крайних для них обстоятельствах, их приходилось долго и трудно лечить.) Пауков, мух ловила и выносила на лоджию или (зимой) в удобное для них место; гусениц, на улице, переносила с дороги на газон, и т.д. В ее детстве, мальчишки постоянно ловили ужей, а выручала их она так: начинала дразнить мальчишек, пока те не швыряли на нее ужа, в расчете, что она испугается и убежит – Люда хватала ужа и убегала... Всю жизнь очень ловко ловила голубей – им ведь надо постоянно развязывать спутанные кем-то лапы; шесть голубей (правда, ловил уже я), мы с ней развязали (это бывает трудно) в ее последнее лето…

Но абсолютно, с точностью до наоборот ошибался тот, кто расценивал это как «сентиментальность».
Чего – чего, но уж сентиментальности не было в ней ни грана! По мне, это бывало даже тяжело.
Обычные наши переживания, которым мы притом хотим сочувствия, состоят, едва не на девять десятых, из мук неудовлетворенного социального самолюбия, тщеславия, честолюбия; но этих свойств в ней не было вовсе, а в том, что не составило бы несчастья для нее самой, она не умела и не хотела сочувствовать и другим. Все такое она считала ненастоящим, выдуманным, ничтожным, а мерила все лишь по абсолютной шкале. Что до животных – то их страдания, по крайней мере, всегда полностью настоящие, абсолютные. Сентиментальность упивается, так сказать, малым предметом, но боль или страх смерти – предмет уж точно не малый! – Настоящим «предметом» отношения выступает тут не человек, который «больше» животного, и не животное, а то, что они испытывают. – Высказывания, которые ей часто приходилось слышать, типа «надо жалеть человека, а не животное» ее удивляли и смешили (как будто «жалеть» может зависеть от «надо» или «не надо»), а такие, как «если нельзя есть живое, тогда и яблоко нельзя есть» выводили ее из себя: яблоко не чувствует!
* * *
Привычного спасительного бездумия в отношении жестокости над животными, происходящей от человеческой плотоядности, она тоже не умела прощать. Приведу лишь один пример – из ее раннего детства. Однажды мамина подруга, отличавшаяся физическим недостатком – слишком выраженной асимметрией лица – имела несчастье рассказать Ю.Г. при маленькой Люде, как хорошо у кого-то в гостях ее кормили: чуть не каждый день резали кур, и тут же готовили. «Оттого у вас и рот кривой!» – сказала ей Люда. Мне так и кажется – глядя на нее в упор. Высказывание было сознательной местью (за несчастных кур), иначе Людмила бы его и не запомнила.
Впрочем, ей пришлось научиться многого в высказываниях приятных ей людей или в художественных произведениях как бы не замечать. В последние годы она катастрофически теряла это умение; нравился ей фильм «Привет, киндер!» (редкий случай для фильмов позже 1990-х), и я все боялся, что она наконец расслышит из уст ценимой ей актрисы Яковлевой – «вкусная курочка? С утра еще бегала!».
* * *
Совершенно не боялась самых грозных собак, часто, к неудовольствию деревенских хозяев, их отвязывала… Правда, в нашей отсталой стране – собак-чудовищ, разных там бультерьеров, долго и не было…
* * *
«Женщина любит (мужчину) тогда, когда пожалеет!» – разделяла она известную формулу. – «Но, наверное, если при этом есть в нем хоть что-то, чем можно и восхититься?» – предполагал я. Она с этим не соглашалась. – Правда, скажем, в ее институтском увлечении – то был известный ныне архитектор, тогда старшекурсник Володька (Владимир Александрович) Сомов – хотя было и то, за что «пожалеть», например полная безденежность и штопаные просвечивающиеся брюки («ты любишь несчастненьких», сказала ей тогда одна из соседок по комнате), но было в нем и то, чем восхититься. Ее знакомые студенты, зная о ее дружбе с ним, просили ее устроить к нему «рабствовать» (т.е. поработать на него на сдаче проекта, что составляет традицию МАрхИ), чтобы при этом у него поучиться.
* * *
Имела способности и склонность к традиционно мужской домашней работе, например к электрике. Одна из ее подруг, которой она однажды помогла в этом по дому, хорошо высказалась: «мне бы такого мужа». Впрочем, умела и шить, даже в какое-то незапамятное время ненадолго увлеклась этим, и кое-что (из азовской кухни) приготовить: мне нравилось, а сложной готовки она не признавала. За «стерильностью» в доме не гналась.
* * *
Нередко оказывалось так, что Людмила испытывала к кому-то, кого знала мало, особую симпатию – а тот, как раз, антипатию к ней. Когда это обнаруживалось, ее это почти не обескураживало. Иногда даже не меняла своего отношения к ним – продолжала говорить о них тепло, а об их неожиданных выпадах в ее адрес – шутливо.
Часто составляла о малознакомых людях слишком хорошее представление, которое питала домыслами и доводила до полной идеализации. – В ее голодном отрочестве один ее одноклассник безмерно восхищал ее тем, с какими достоинством и выдержкой подходил к раздаваемому в школе хлебу – не толкаясь, чтобы успеть к лучшему куску, и рискуя остаться с одними крошками. И вот, он украл в физическом кабинете какой-то прибор – Люда нечаянно это увидела, и он при этом ее увидел, – и на классном собрании, созванном по этому поводу, не опасаясь и не стыдясь Люды, произнес гневную праведную речь против воровства… Уже в зрелом возрасте влюбилась «заочно» в одну женщину, обаявшую ее своими регулярными одинокими пробежками по нашему с ней любимому лесу. «У нее достаточно величия души для того, чтобы общаться с природой и космосом один на один» (сама Людмила так не могла, и считала это своей женской слабостью)… В конце концов даже решила с ней познакомиться – остановила, подарила книжку стихов Окназовой с восторженной надписью, которую долго продумывала… Опуская подробности: женщина эта и ее супруг оказались худшим, что только было на этом свете для Людмилы – убежденными и даже организованными в какую-то группку фашистами. Пробежки нужны были ей для поддержания требуемой по уставу физической формы; виды в лесу хороши для нее были исключительно тем, что «не надоедают»; а Гитлер, как она объяснила, велик был тем, что «мечтал создать высшего человека». Когда она посвятила Людмилу в эту свою тайну – это был настоящий нокдаун. Не было даже вспышки гнева, только растерянное лепетанье «вы страшный человек, вы страшный человек…».
Утратив в последние годы всякую снисходительность к тому, что она считала злом или заблуждением (она это вполне сознавала), без чего, по-моему, никакое общение невозможно, она порой отчаянно пыталась преодолеть возникающую самоизоляцию и – как бы – пробиться к людям. Периодически какой-нибудь старинный знакомый, например сокурсник, с которым она десятки лет не общалась, начинал представляться ей воплощением ее идеалов (и я со страхом думал, каким горьким для нее будет ее разочарование, если она вспомнит о нем кое-что, о чем она сама мне рассказывала, или, побеседовав с ним, услышит что-то ей неприемлемое)…
«Разбиралась» ли она в людях? Но «разбираться в людях» имеет слишком узкий, практический смысл: уметь заранее разгадать чей-то корыстный умысел, увидеть обман, уберечься от предательства и т.д. Живя принципиально, как она сама называла это, «на обочине», Людмила в общем не имела каких-то общих с другими предприятий, ни с кем ничего не делила, и задача таким образом в людях «разбираться» не была для нее актуальной. – Впрочем, один случай ее «ошибки в людях» я, по ее рассказу, вспоминаю. В год, когда ее мама умерла и Людмила осталась в одиночестве, ей надо было внести последний, сравнительно небольшой, но уже совершенно неподъемный для нее взнос на кооператив (который организовала ей смертельно больная мама). На одну подругу, которой Людмила освободила свою комнату в коммуналке, расчет был полный, и даже имелась договоренность. Тем не менее в последний момент был получен отказ, в чудовищной форме: «ты не сможешь отдать, потому что тебе некому помочь». (Кстати, это один из примеров того, что Людмила могла общаться и с людьми, сделавшими ей когда-то подлость: мы даже бывали у той женщины в гостях, Людмила устраивала ее к знакомому врачу и пр.) А выручила Людмилу в этой катастрофе одна общественница, отличавшаяся крайней грубостью и бестактностью, от которой Людмила ничего вообще не ждала – переставив очереди в кассе взаимопомощи. – Итак, скорее всего, Людмила в людях «не разбиралась».
«Любила» ли она людей? – Но что значит вообще «любить людей», слишком неясно. «Любить людей» такими, как они есть, значит не различать добра и зла (это Людмила замечала часто); наблюдая, скажем, за обычными коллективными реакциями на сцены жестокости – это бывает и дружный смех – она людей прямо ненавидела. Однако, учитывая описанное ее свойство составлять о малознакомых людях только хорошие или идеальные представления, и никогда не составлять а приори плохие, – можно констатировать, что явно предпочла бы иметь о людях хорошие, чем плохие представления. То есть, значит – любила.
«Понимала» ли она людей? – Если отвлечься от убогого смысла «разбираться» в них, то, конечно, понимала. Хотя и говорила о себе, что особого, чисто психологического интереса не имеет, и что ее занимают характеры лишь тех людей, с которыми ее связывают какие-то важные отношения. – Так или иначе, понимала, когда хотела – иначе в чем бы и состоял ум? – Конечно, оценивать чей-то ум – это слишком самонадеянно. Могу сказать только то, что мне, во всяком случае, разговаривать с Людмилой о характерах, ситуациях, реакциях людей – за всю жизнь оказывалось интереснее, чем с кем-либо другим.
…А если судить по тому, что мы видим на ее работах – то уже безусловно, Людмила людей любила и понимала.
* * *
Характер Бузыкина из «Осеннего марафона» возмущал ее настолько, что она не только прекратила смотреть этот талантливейший фильм (нравившиеся ей фильмы вообще смотрела неограниченное число раз), но и разлюбила исполнителя этой роли Басилашвили (которого оценила, кстати говоря, задолго до его главных ролей – а именно в роли Обломова, в постановке, которую я теперь никак не могу найти…). Безволие находила ужасным недостатком.
* * *
Ценила юмор и восхищалась этой способностью в других людях, хотя сама, как она говорила, «не производила его» (что было не совсем верно: могла, неожиданно для себя, родить удачную шутку, вроде «есть еще песок в пороховницах»). Ее объяснение своей «непроизводительности» в области юмора было примерно таким: события слишком глубоко ее трогали, чтобы можно было подойти к ним отвлеченно и играть с ними. Любила анекдоты, в том числе и «неприличные», если они действительно были смешными. Это давало пищу для ложных суждений о ней, но только, конечно, в людях не знавших ее, недоброжелательных к ней или совершенно поверхностных.
* * *
Она на дух не выносила никаких особых манер, по которым избранные различают «своих» от «чужих», никакого кружкового самолюбования и чванства, богемных жаргонов и словечек, никаких коллективных художественных пристрастий (когда какое-нибудь произведение становится среди «своих» «культовым» и этот культ маркирует скорее принадлежность к «своим», чем родится от собственного достоинства произведения). – Кстати, уже в ее студенческие годы, когда снобизма в его нынешнем гипертрофированном виде еще не существовало (или он только зарождался), ее удивляло, почему это все кругом постоянно цитируют «12 стульев»? Не терпела универсального эстетского словца «забавно», бывшего одно время в большой моде, и которым часто характеризовали и нечто, в прямом смысле далеко не забавное.
Фильм «Храни меня, мой талисман» явно ставил ее в тупик: если персонаж Абдулова должен быть, очевидно, резко отрицательным, то почему все, кому он противопоставлен, такие подчеркнуто фальшивые?
Никакие общие и групповые вкусы, суждения, оценки никогда и ни в чем не имели на нее, удивительным образом, ровно никакого влияния. Она даже с трудом представляла, что такие существуют. В юности, рассказывала она, ее это даже часто озадачивало: каким это образом так много людей сразу, скажем, полюбили такого-то писателя, в то время как она сама ничего особенного в нем не находит? Разумеется, при этом она оставалась при своем мнении, ведь «чувствовать можно только так, как чувствуешь».
В ней, кажется, вообще не приживались чисто коллективные настроения. В школе ее удивляло, скажем, такое: если весь класс собрался вместе пойти на какое-нибудь увеселительное мероприятие, а ей это мероприятие не интересно и она не пойдет, то почему на нее дуются? Чем и кому это может быть обидно?..
…Впрочем, на ее мнения и оценки нельзя было повлиять и в индивидуальном порядке – разве что в обратную сторону…
Для нее, точно, не существовало «авторитетов». Ссылки вроде того, что мол такой-то – академик, или литературный классик и т.д., и потому он прав, хотя бы только к нему следует особо прислушаться, могли лишь ее насмешить. Она умела восхититься кем-то, но принять чье-то мнение или оценку лишь потому, что оно принадлежит какому-то признанному человеку, было для нее невозможно и непонятно. Никакого зазнайства в этом не было. Ее мнение – это просто ее мнение, какое есть, и как оно может стать другим?..
Она не принимала, потому что просто не понимала и не чувствовала никаких социальных иерархий, чинов, рангов. Ни «вверх», ни «вниз». Уверенность, с которой она могла выразить свои взгляды, кое-кто принимал за высокомерие – но уж чего не было, того не было.
Для обозначения любых «элит», с их гордыми установками и предсказуемыми реакциями, употребляла только один термин – «стадо». Кто-то однажды попытался защитить свое высокое сообщество, и поправил ее: «может быть, стая?» – «Не называй стадо стаей, не полетит.»
Зная столь явного «социопата», как Людмила, я знаю точно, что способность сострадания имеет не социальную природу – а личностную, даже «индивидуалистическую». Сострадание не ведает общих правил, рангов, общей пользы и т.д., постоянно и закономерно заводит с обществом в конфликты.
* * *
Как правило, довольно скептически относилась к деловой и общественной активности окружающих. Были в ее словаре два слова – «функционирует» и «проявляется». За первым сквозило что-то вроде «занят чем-то по долгу службы, скорее всего бесполезным», за вторым – «красуется». Впрочем, если кто-нибудь «проявлялся» интересно, ценила.
* * *
Часто вспоминала студенческие «вечера» в Архитектурном, выпускаемые к ним стенгазеты (с рисунками, где ее в толпе голов помечали всегда красным мазком), рассказывала наизусть огромное количество звучавших там шуточных студенческих стихов, восхищалась неистощимым юмористом «Левкой» Абрамовым (Львом Самойловым), вещавшим тогда по институтскому радио голосами преподавателей, в т.ч. деканов и ректора, самые потешные (и иногда смущавшие пародируемых) вещи… Все это ей очень нравилось, до тех пор пока старшекурсники не вздумали на своих вечерах ввести пригласительные билеты. Ее друг старшекурсник, конечно, ее туда раз или два провел, – но ей стало «противно». Шокировал плакат у входа на один такой вечер – «без улыбки не входи, нет билета – отойди», гордые лица проходивших в двери «допущенных» младшекурсников… Одним словом, самые первые и слабенькие начатки «фейсконтроля» встретила без энтузиазма.

* * *
Любого рода отверженные, высмеиваемые, нелюбимые и (ее слово) «заклевываемые» в коллективах индивидуумы тем самым пользовались ее симпатией. С детства. Все «новенькие» в классе, которые, как известно, обычно подвергаются чуть ли не травле, сразу же становились ее друзьями.
Во всяком видимом недотепе – в ее лексиконе «нестандартном» человеке – Людмила уверенно предполагала какие-то исключительные достоинства… Что ж, сама она точно была «нестандартным» человеком, и исключительные достоинства имела.
«Человека надо искать среди жертв», – ее запись.
Само собой, не могла участвовать ни в каких коллективных акциях по типу «все против одного», даже если они были и справедливы. – Училась с ней на одном курсе девушка-клептоманка, кстати, из весьма обеспеченной семьи. Началось с того, что она украла «стипешку» у самой Людмилы – к счастью, знавший эту девушку еще по школе студент, едва услышав от Людмилы, кого она заметила во время пропажи неподалеку, быстро эту «стипешку» Людмиле вернул. Тем не менее, случаи воровства постоянно повторялись, и в конце концов на студенческом собрании клептоманке был объявлен бойкот. С ней перестали разговаривать. Разговаривала одна Людмила.
* * *
…А друзей своих, в отрочестве, она любила страстно.
Это были: невероятно одаренная и блестящая, как сказал кто-то, «удивительное существо» Мэри Славута, трагически погибшая уже после войны, в возрасте 19 лет; умная, скромная и смешливая Женя Соппа (кстати, из «новеньких»); мудрая и терпимая Лера Карнашова. И, конечно, Женя Миликовский, следов деятельности которого нам с Людмилой не удалось обнаружить, что навевает на мрачные подозрения, ибо по его способностям трудно представить, чтобы он их не оставил.
Отношения с «Мэркой» имели особый характер: при взаимной страстной потребности друг в друге, это были в основном ожесточенные, до полного изнеможения, споры. Один из таких споров шел относительно «Тэсс из рода д’Эрбервиллей». Людмила не могла представить и принять даже теоретически таких (социальных) установок, при которых девушке можно было потерять «чистоту» и оказаться отверженной безо всякой своей вины. Она и вообще не понимала «установок», которые могли бы предопределять непосредственное отношение к чему бы то ни было.
…Одной из их с Мэри постоянных и трудных забот было – растаскивание, зимними вечерами, замерзающих пьяных по домам.
* * *
Весьма любопытна, как факт, ее дружба с Инессой Генкиной – со студенческой скамьи (это буквально: они сидели всегда вместе) и на всю жизнь. Самый резкий контраст между ними был во всем. «Толстая» и «тонкая»; энергичная, собранная и пунктуальная, трудолюбивая, всем интересующаяся, всюду успевающая, многого в жизни добившаяся и много сделавшая в архитектуре Инесса Самуиловна – и (внешне) совершенно беспечная, несобранная, постоянно всюду опаздывающая, ничего по социальной шкале не достигшая, не «проявившаяся» и не желавшая «проявляться» Люда (величания себя по отчеству Людмила тоже никогда не любила)… Это Генкина организовала показ Людмилиных работ в Суриковке; она сводила ее в подвальчик к Эрьзя смотреть его скульптуры – они пришли не вовремя, но вышел сам Эрьзя, маленький, мрачный и странный, и распорядился пустить; она же и потащила Люду на похороны Сталина, что едва не стоило им обеим жизни, и многое другое… Симпатиям, конечно, «нет закона», но примечательно то сочувствие и признание чего-то непростого, имеющего свои глубокие основания в столь «неправильной» Людмиле, которое проявляла Генкина, и то уважение к ней, которое питала Людмила. Возможно, в И.С. это отношение к Людмиле зародилось из невозможности смириться со зрелищем «пропадающего» таланта. А отношение к И.С. Людмилы – из восхищения свойствами, которых она сама была органически лишена (не прошедшего даже при появившемся, с возрастом, скептическом отношении к подобным свойствам).
* * *
Замкнутой не была. Любила насмешившее ее словечко одной из знакомых – «общнуться»; это даже было одним из ее «поплавков». Когда я тяготился чьим-нибудь визитом или возможным звонком, объясняла это так: «ты боишься людей, потому что каждый может тебя что-то заставить». Заставить ее сделать что-либо, чего она не хотела, или согласиться с чем-то, что ей не нравится, было, конечно, невозможно, опасаться кого-то в этом плане ей не приходилось. Могла вполне ровно общаться и с теми, кто когда-то поступил по отношению к ней очень плохо; если я обращал на это ее внимание, объясняла: «он мне не нужен» (т.е. достаточно безразличен для того, чтобы как-то с ним «сводить счеты»). – Замечала, что настоящая глубокая дружба, до влюбленности, возможна только в молодости, а скорее и в подростковом периоде. Зато и воспоминания об этих ее друзьях становились с возрастом все дороже, а их образы – все прекраснее.
* * *
К образованности как таковой относилась с недоверием. «Я боюсь знать, чтобы не разучиться понимать» – ее (записанные ей) слова. Афоризм Чехова «Университет развивает все способности, в том числе глупость», который я ей однажды процитировал, весьма оценила.
В детстве часто гостила в Кагальнике у бабушки Веры – бездетной сестры ее бабушки Даши. Та не умела читать и считать (хотя с деньгами на рынке каким-то чудом управлялась), не знала порядка месяцев, а над сундуком ее, и это в 1930-х годах, продолжал красоваться цветной литографированный царь Николай II-й. Другая их сестра была неофициальной женой какого-то барина… Первым человеком, кто в Людиной семье получил высшее образование (не считая разведенного отца), была Людина мама, Юлия Григорьевна. Когда Ю.Г. принимала решение ехать в Ростов и поступать в «пед», отец ее Григорий Васильевич, руководитель самодеятельного театра, был против: все, что человек захочет сделать, полагал он, – он может сделать и без образования! В какой-то мере с ним в этом была согласна и Людмила.
* * *
Людмилу бесконечно возмущал человеческий формализм – в частности, когда кому-то требовалась настоящая живая помощь, а он получал, как она называла это, «галочку».
Она совершенно не понимала, в буквальном смысле этого слова, казенных бумажных отношений, юридического формализма – что становилось особенно явным в тех случаях, когда этот формализм противоречил здравому смыслу или очевидной справедливости.
Приведу пример. При разводе с Дмитрием Левченко, Людмила пожелала остаться при своей девичьей фамилии Еременко, но по ошибке милиции в паспорте ей проставили Левченко. Для нее это было непринципиально, паспорт уже для чего-то требовался, и никакого значения этой ошибке она, в своем духе, не придала. Когда, через десятки лет, мы с ней решили официально оформить брак, это наконец вскрылось – и оказалось, что все ее документы, от свидетельства об окончании четырех курсов института до права на квартиру, были незаконными… И вот я в первый раз затащил ее к адвокату, проводил ее в дверь кабинета и остался ждать в коридоре. Видимо, адвокат сообщил ей, что она десятки лет нарушала закон – формально «преступница». А она, вполне допускаю это, его ударила (так!). Что точно произошло между ними, она мне не рассказывала, но, во всяком случае, через несколько минут оба они вылетели из кабинета, между ними шла самая настоящая драка...
* * *
В ее личности и поведении никогда не было и не могло быть (невозможно и подумать о том!) абсолютно ничего условного, ролевого, демонстративного.
Ее удивляло, и она часто возвращалась к этому, что ее родной дедушка был артистом, что имели актерские способности и его дети, – ее мама и дяди. (Они играли на дедушкиной сцене; любопытно, что, если дедушка был исключительно трагик, то его сын Александр – комик.) Сама Людмила была уверена, что никогда не могла бы играть, перевоплощаться, входить в какую-то не свою роль. Все и всегда в ее проявлениях шло исключительно от ее собственного, первого лица.
(Я напоминал ей знаменитые «я в предлагаемых обстоятельствах», «госпожа Бовари – это я» и пр.: каждый мол может нащупать в себе какие-то черты другого человека, от них в своей игре и отталкиваться. Она не соглашалась категорически: артист должен играть другого человека, которого, может, и ненавидит. Каждый есть только то, что он есть.)
Само собой разумеется, совершенно не имела кокетства, не понимала и не любила его в других. Никто, кроме того единственного, кто ей бывал «нужен», ей не был нужен, но и с ним уж тем более Людмила не могла бы вести какую-то игру! Смотреть на себя со стороны, чужими глазами – была неспособна, да и находила это свойство в человеке ничтожным. Вспоминала, как нечто предельно непонятное для нее, размышления одноклассницы о влюбленном в нее парне: «интересно, что он почувствует, если я его поцелую?»… – Очень любила все песни из «Чародеев», кроме только (резко) «Должна быть в женщине какая-то загадка…»: не могла быть другой, кроме как естественной для себя, да и не принимала задачи придать себе какой-то приманивающий вид.
Не только чего-то игрового в смысле «лицедейского» не было в ее поведении, но и в смысле «основанного на условностях», будь то условности оправданные или даже в чем-то спасительные…
* * *
В Брежневскую эпоху и потом, никакого почтения не имела и к столь социально важным, но – по условиям того времени – исключительно демонстративным и символическим диссидентским акциям. Поступки, для нее, должны были иметь прямое выражение в реальности, либо это была только фальшь. («Социальность» и вообще была для нее, кажется, синонимом фальши.) Когда она узнала от одного из наших сотрудников, что тот из принципа не пошел на «выборы», то напомнила ему про несчастных «агитаторов», которым из-за подобных актов непокорности приходилось сидеть на участках допоздна; а услышанное от него гордое разъяснение – знаменитое «я в эти игры не играю» – вызвало у нее только раздражение и сарказм. – Меж тем на личном уровне никто не смог бы заставить ее сделать что-то вопреки ее убеждениям или поступившись достоинством, чем бы ей это ни грозило. Так, в ее детстве, старшим мальчишкам не удалось заставить ее стронуться с какого-то занятого ей места (увы, не помню, в чем там было дело), несмотря на удары прутом, которые они ей наносили по рукам, до крови, пока, будто испугавшись чего-то, не оставили эту забаву и не ушли…
* * *
Сделать хоть что-нибудь, чтобы кому бы то ни было понравиться; рассчитать, самым невинным образом, как и что может быть кем-то воспринято, хотя бы и любимым человеком, и т.д. – такого, за Людмилой, и представить себе невозможно!
* * *
При всей ее «непохожести» и «неудобности», знакомые к ней в общем весьма хорошо относились. К ее собственному удивлению, любили ее и – столь заинтересованные в исполнительности и порядке – учителя (в ее незабываемой азовской красавице-школе №1), и преподаватели в Архитектурном (за исключением одного, которого и самого никто не любил). Но было в ее жизни – кажется, таких было только два человека, – которые ее как будто на дух не выносили. Один – в классе, выраженный вожак, другой – в группе, сын знаменитого и «культового» архитектора-конструктивиста, и тоже своего рода вожак, законодатель мнений и оценок, «уведший» у нее товарища «Юльку» (Филлера). Наверное, им не давал в ней покоя ее неподдельный индивидуализм. Их постоянное недоброжелательное неравнодушие она запомнила, поскольку она их никак «не трогала». Обиды не было: об интересной внешности последнего из двоих, «один профиль», она вспоминала во всяком случае чаще, чем о его выпадах, а его трагическая гибель (в постсоветское время он видимо был убит) ее, конечно, потрясла.
* * *
Продолжениями достоинств, как известно, являются недостатки.
Видно, природа вообще не знает «достоинств» и «недостатков», а знает свойства характера, удобные для общежития и неудобные. – Людмила всегда брала от общества заведомо меньше того, на что могла бы претендовать. (Например, отказывалась от повышений; институт, в котором прекрасно успевала, она вопреки уговорам преподавателей и огорчению матери раза два бросала, и в конце концов бросила на последнем курсе – когда фактически оставалось лишь получить «корочку», – но такие вещи для Людмилы никогда не имели значения.) Не отягощала она собой и знакомых. Но «удобной» точно не была, и не ставила такой задачи.
(Одной из причин, по которой она бросила институт, была та, что в аудитории, в которой тогда ее группа занималась… зажигали днем свет.)
Постоянно опаздывала. В институте потому, что просыпала («тебя выгонят!» – «пусть!»), а на работе – хотя бы потому, что «солнце светило» (слишком красиво было дома). Когда мастерскую хотели переподчинить какой-то организации, в которой, как ей сообщили, за два опоздания увольняли, она сказала: «значит, я буду работать там два дня». В институте часто пропускала даже первые часы занятий по рисунку (и пользовалась в проработках, скорости ради, большим пальцем). За эти опоздания преподавателям приходилось к ее пятеркам пририсовывать минусы.
Она была своенравной и вспыльчивой.
Вспышки гнева бывали такими, что однажды во время учебы в институте, на специальном собрании студентов ее осудили за… избиение весьма крепкого спортивного парня! Он оказался одним из троих, кого она сумела догнать, и которые действительно были виноваты (их баловство, именно шутливая борьба с ней, значительно перешло допустимые границы). Спусковым крючком послужило замечание наблюдавшего за возней студента «да она сейчас заплачет». Событие вошло в тогдашний институтский фольклор («пал жертвой юноша несчастный, а виноват другой чувак…»), сам же пострадавший грустно заметил Людмиле спустя какое-то время: «в Библии сказано "не убий", а ты хотела убить»… надо думать, он все-таки преувеличивал. Кстати, относилась она к этому парню (Володе Брюну), и до и после «инцидента», очень хорошо.
(Меж тем один из ее преподавателей, незабвенный Тимофей Игнатьевич Макарычев – у него учился, много лет спустя, еще и я – называл ее «Христосик». И это тоже имело основания! Например, она постоянно добавляла друзьям и подругам недостающую на компоты мелочь в студенческой столовой, а сама в конце концов, до получения «стипешки» и скудных денег от мамы-учительницы, оставалась буквально голодной… Впрочем, в таких ситуациях Людмила принципиально считала возможным взять у кого-нибудь из тумбочки кусок хлеба и без спроса.)
Однажды на ее глазах, неожиданно, какой-то малолетний мерзавец бросил под машину кошку. Она рассказала мне об этом лишь один раз. «Если бы я его догнала, я бы его убила.» – Конечно, любой мог бы сказать на ее месте именно такие слова. Но, думаю, и тому мерзавцу, и самой Людмиле весьма крупно повезло – что не догнала.
Физическую боль, если знала, что она пройдет, могла терпеть невероятно стойко – например, лечила зубы без обезболивания. Но длительные боли, которые ее донимали часто, ее как бы злили. Становилась тогда несправедливой (если только справедливо сужу об этом я сам).
Говорить о ревнивости (в отношениях со мной) я не имею права, поскольку все подобные мои предположения она считала нелепыми и возмутительными. – Но рассказывала о случае крайнего ревнивого отчаянья, по явно недостаточному поводу, в отношениях с ее первой любовью… Также и в общем виде – убеждена была в том, что ревность есть непременное выражение любви. В том числе, «немножечко», к «совещаньям, книгам и друзьям». Моих рассуждений, что вряд ли ревность можно считать прямым проявлением любви, поскольку иные ревнивцы, в т.ч. таким был ее дед, способны жестоко ревновать и тех, кому сами изменяют, и т.д. – и слышать не хотела.
Можно сказать, она была в чем-то и жёсткой. С ней было трудно.
В совместной жизни – а во внутренней совместности она нуждалась так остро, что при всем расположении к ней и всем согласии с ее взглядами сложно было этому удовлетворить – она также была нетипична и потому не легка. Теплая женская ежеминутная заботливость, бытовая опека, предусмотрительность в отношении каких-нибудь твоих рубашек или вовремя приготовленных трапез – все это было, что говорится, «не ее». Ее обхождение напоминало скорее мужское.
Каких-то трогательных мелочей в наших отношениях, которыми полнятся обычно воспоминания о близких, кажется, не могу вспомнить – или же то были не мелочи.
Рядом с ней, как в присутствии какой-то абсолютной и недосягаемой шкалы ценностей, постоянно приходилось ощущать, справедливо или не очень, какую-то неподлинность или мелкость собственных желаний, интересов и целей; нередко можно было услышать какое-нибудь обескураживающее замечание вроде «зачем это тебе?» или «кому ты хочешь понравиться?», когда «это» как раз казалось очень важным и искренним; все подобное было тоже нелегко. – В последнее время я занимаюсь биографией своего репрессированного деда, А.А. Цибарта. Наблюдая за моим увлечением, Людмила могла заметить: «ему ничего этого не нужно», или, еще много хуже: «твой дед погиб, а ты превратил это в игру». И я невольно начинал – и никогда, наверное, не отделаюсь от этого рефлекса – себя проверять: что в этом деле идет от важности самого дела, что от сочувствия, а что от простого мелкого любопытства…
Приятным собеседником, если дело было в каких-то серьезных вопросах, она не была. «Академическая дискуссия» с ней не получалась, она и не стремилась к тому. Она перебивала, не давала договорить. «Протест», как она сама говорила, помогал ей осмыслить собственные позиции, а это было для нее главным. Вслух подмечала в разговоре разницу между собой и собеседником, а это невольно заставляло собеседника подозревать какое-то сравнение не в его пользу. Многое у нее было слишком глубоко продумано, чтобы к слову не высказать этого – могло показаться, что и «учит», «читает лекции»… Послушать эти лекции, впрочем, стоило. Это были законченные, замечательной литературной формы, философские эссе.
Какого-то расчетливого эгоизма в ней и близко не было, но некоторый неуловимый эгоцентризм как будто присутствовал. – «Мне не нужно, чтобы (ты делал то-то и то-то)» – часто можно было услышать – хотя это могло быть нужно мне. – Поступки ее чаще всего прямо следовали из ее внутреннего настроя, без учета того, как они могут быть восприняты – и следовательно означать – для другого. Когда ее школьная любовь Женя Миликовский попал в больницу, и навещать его там «посторонним» поодиночке было запрещено, к нему была направлена делегация из нескольких учеников от школы; Люда к этой делегации не присоединилась: личное нельзя было смешивать с казенным и коллективным! Женя был расстроен и обижен. (Когда в конце концов Люда как-то объяснилась, Женя сказал: «я дурак».) – В последние годы, мне приходилось, например, ее убеждать, что не стоит сразу, звоня знакомому, без всяких вступлений начинать с годного к случаю стихотворения, которое она хотела ему продекламировать; что тот, может быть, болен или занят, и т.д.
Несчастья близких (например мои, когда я терял родителей), трогали и подавляли ее настолько, что она сама начинала представлять собой дополнительную проблему. Возможны были и реакции ее, так сказать, психической самозащиты – в которых потом раскаивалась.
Напрочь лишенная корыстности и честолюбия, она не замечая уступала другим в том, за что обычно идет самая злая конкуренция, но в том, что задевало, по ее ощущению, ее личностное, не уступала совершенно, иногда даже в мелочах. (Или в том, что обычно кажется людям мелочами.) Это могло и обижать.
(К этой теме, опять хочется вспомнить случай из ее студенческой жизни в общежитии, хоть конечно и не самый показательный, но характерный. Их комната собрала денег на новые обои, – но обои, купленные на эти деньги одной из девчонок, Людмиле не понравились. И вся стенка над ее кроватью осталась, к большой досаде подруг, со старыми обшарпанными обоями… Людмила рассказала мне это скорее с удивлением касательно их досады… При этом ее кровать стояла в самом худшем месте, у окна, форточку зимой кто-нибудь постоянно ночью тайком открывал и Людмила была хронически простужена; но ни на какие лучшие места она вообще никогда не претендовала…)
Она ненавидела зависимость, а так как в зависимость ставят часто благодеяния, могла иногда восприниматься чуть ли не неблагодарной. Она, что называется, «умела сказать "нет"» (в ответ на предложения), но трудность этого умения состоит конечно не в том, чтобы отвергать чьи-то злые намерения (это естественно каждому), а в том, чтобы отвергать и добрые намерения.
Никогда не стремилась оправдать чьих-либо ожиданий.
Однако – что примечательно – на нее сравнительно мало обижались, невольно признавая за ней какие-то особые права, которых не признали бы за другими и не признавали за собой.
* * *
«Развитие – это усвоение своего», записала Людмила. Вряд ли было в ней хоть что-нибудь, чему она научилась от кого-то, а не нашла бы в себе самой. – Томик «Уолден, или жизнь в лесу», подаренный нам знакомыми «хиппи» ввиду явного ее сходства с Торо, я от нее спрятал (чтобы не нарвалась на то место, где автор неизвестно зачем расправляется с сурком). Но ничего нового для себя у Торо она точно не могла бы обнаружить. То его открытие, что большинство людей выбиваются из сил отнюдь не потому, что обеспечивают себе действительно необходимое для существования, а лишь с ничтожной целью не выглядеть «хуже других» – было ей очевидно. А бытовые наблюдения вроде того, что человек завешивает окна от солнца, чтобы не выгорела мебель – хотя свет в доме важнее мебели – это как будто ее прямая речь! «Истинные ценности даются всем бесплатно.»
Она любила Христа, но не признавала церковь, имела свою собственную «космическую» религию, в которой Бог не мог вмешиваться по произволу в земные дела – иначе бы нес ответственность и за все то ужасное в мире, с чем она не могла смириться… Христос «спас» (оправдал) человечество тем, что сам был человеком (что возможны такие люди)… Это говорила часто. У нее сохранились собственные записи, касающиеся религии, когда-нибудь я их разберу и дополню здесь это замечание. «Найди в себе себя и подари Богу…» Вообще, ее афоризмы, которые я уговаривал ее записывать – тема отдельная.
Когда мы с ней работали на «Флоре» (ц. Флора и Лавра), произошло то событие, о котором я говорил – умерла наша молодая сотрудница по мастерской. Людмиле там сказали – теперь за умершую надо молиться, иначе ее душа будет мучиться. Людмила была возмущена: за что?!
«Перед лицом вечности компромиссы не работают» (ее запись).
* * *
Когда-то в ее детстве цыганка нагадала ее матери смерть в 64 года – тогда Люде это показалось невообразимо далеко и не обеспокоило, но, на горе взрослой Людмилы, так и произошло. А «девочке», самой Люде – необычную будущую жизнь. Я бы сказал, это тоже произошло.
* * *
Я прожил почти две трети своих теперешних лет с безусловно исключительным и по большому счету прекрасным человеком. Обязан ей безмерно многим – таким, без чего себя и не представляю.
Спасибо, Люда.
А. Абелев (Круглов). Декабрь 2018 – март 2019
Работы Л.П. Левченко (Еременко) приводятся не в хронологической последовательности

